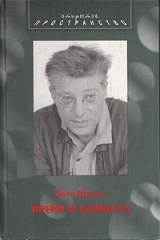
Текст книги "Время и комната"
Автор книги: Бото Штраус
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц)
Бото Штраус
Творец печальных аллегорий
С Аристотелем и папой я разделяю убеждение, что пара предшествует любому следующему коллективу. Единственный смысл всего, что я пишу, вообще в том, что пара выше государства, общества и любого другого порядка.
Бото Штраус. Ошибка переписчика
Работа духа заключается в том, чтобы ускользать. Там, где он на чем-то задерживается, он идет против своей природы, против вечного глиссандо познания. Его единственная и изначальная страсть – перескакивать с пятого на десятое.
Бото Штраус. Безначальность
В России достаточно хорошо известна немецкая послевоенная документальная (Хоххут, Киппхардт, Вайс), «неонатуралистическая» драма (Крётц), экспериментальный антитеатр (Фассбиндер), драмы Хакса, Мюллера, Брауна, отражающие историю и мировидение «осси». Иногда что-то даже преодолевает стойкое сопротивление нашей ментальности и поэтики и прорывается на сцену. Но все же в наших знаниях новой немецкой драмы есть досадные лакуны. Её ландшафт более полихромный и загадочный. Существуют явления, которые ни в одно направление не вписываются и в то же время очень типичны для немецкой драмы, для её эстетики в целом. Одно из таких явлений – драматургия берлинца Бото Штрауса, без которой сегодня немыслим репертуар ни одного немецкого театра, большого или маленького.
Назовем ли мы ее постбрехтовской, эзотерически-интеллектуальной, неоромантической, неомистической, мы не исчерпаем всей широты ее проблематики. Неприятие ценностей современной цивилизации и уход от паблисити в свой замкнутый мир, своеобычный, кроткий, а порой и демонстративно-оппозиционерский индивидуализм глубоко естественны для Штрауса и вызывают неподражаемый гнев у немецкой прессы. Его нельзя назвать любимцем немецкой публики, и все же каждый сезон она с нетерпением ждет его новую пьесу и смотрит, и читает с жадным вниманием все, что он пишет. Для конца столетия он стал таким же спорным и популярным, каким Брехт был для первой его половины. За три десятилетия работы Штрауса в театре и литературе (его иная ипостась – романист и эссеист) критикой предложена добрая дюжина эффектных определений и ярлыков, в каждом из которых есть попытка приближения к сути: «анатом доброй старой Федеративной Республики», «летописец нашего безвременья», «идеальный бульварный драматург с высочайшим современным вкусом», «поэт постмодернистской комедии дель арте», наконец, в последнее время, «певец заката», «любимое дитя немецких культур-пессимистов». И все же в разговорах о нем чаще всего довольствуются определением: «аутсайдер», «трудный», «наиболее спорный», «дискуссионный» автор, что в критериях современной немецкой сцены – едва ли не высший класс.
Характер Штрауса, робкого и застенчивого, чувствительного и нежного от природы, культивируемая им романтически-загадочная маска неотделимы от его субъективной творческой манеры. Идеальное состояние для него – уединение, глубокая погруженность в собственные мысли, острота чувств на грани галлюцинаций. Не удивительно, что своими образцами в немецкой классической литературе он называет Гоффмана и Арнима. Образ жизни, художническое существование Штрауса сродни немецким романтикам – та же игра в образ другого, то же бегство от суеты и публичности, то же презрение к злобе дня, тот же высокий культ слова и красоты, та же игра словом и приверженность к романтической иронии.
Штрауса называют самым таинственным и самым скрытным немецким писателем. Страх перед публичными выступлениями и отвращение к ним возникли у него еще со времен чтения Адорно. Романтик должен быть немного болезненным; романтик Штраус, в сущности, всегда метался между боязнью полного одиночества и страхом чрезмерной публичности. Беседа с ним – большая редкость. Некий тележурналист, отчаявшись получить аудиенцию у драматурга, сочинил фиктивное интервью: обложившись книгами Штрауса, беседовал с ним как с фантомом.
Академии и фестивали, присуждающие ему премии, он никогда не чтит личным присутствием, послания его читают другие люди. Не ходит на репетиции, не любит собственных премьер, предпочитая смотреть спектакли инкогнито. Когда исполнительнице главной роли в спектакле «Такая большая – и такая маленькая» все же удалось вытащить его на премьеру, он сидел с втянутой головой, закрыв лицо руками, – стоило только ему заметить, что на программке помещена его фотография. В момент премьеры «Итаки» интерес публики к автору нашумевшего эссе в «Шпигеле» достиг апогея. На премьеру явилось более сотни критиков, только лишь автора не было в зале.
Презрение к суперстилю индустриального общества, меты мизантропа, беглеца и отшельника вычитываются в интерьере его берлинской квартиры. Просторные комнаты почти без меблировки, широкие дверные проемы, большие светлые окна, огромная библиотека на студенческих стеллажах (социология, религия, мистика, этнография, альбомы, современная поэзия и проза), рабочий кабинет с черным столиком и сотней тоненьких, аккуратно исписанных записных книжек на нем да еще ноутбуком; в одной почти полупустой комнате – маленькое бюро в стиле века Гёте, плетеный стол с мраморной доской и увядшим яблоком на ней, интерьер в духе «Времени и комнаты». Здесь живет изысканный эстет, романтическая маска, у которой очень драматичные взаимоотношения с миром.
Утопия полного отшельничества осуществилась вдали от Вершина, в деревне, куда давно мечтал уехать Штраус. «Помог Горбачёв» – после объединения драматург купил крестьянский дом в Укермарке, недалеко от Польши, где проводит большую часть времени…
Бото Штраус – ровесник плеяды послевоенных молодых драматургов, надежды и гордости театра 70-х годов, – Райнера Вернера Фассбиндера, Франца Ксавера Кретца, Мартина Шперра, – которых одно время, пока они по окончании фазы протеста и бурного политического соучастия не разошлись в разные стороны, называли «немецкими рассерженными». Но среди своих ровесников Штраус стоит особняком. Его путь в театре сложился иначе. В 80-е годы он испытал серьезный перелом и постепенно отошел от позиций левых. Не без основания считают, что теперь он значительно ближе к моралистам XVII века, чем к «рассерженным».
Бото Штраус родился 2 декабря 1944 года в Наумбурге, небольшом городе возле Лейпцига. В 50-м году его семья перебралась в Западную Германию, поближе к Руру. О своих детских годах драматург вспоминал: «Мой отец писал научно-популярные книги и увлекался Томасом Манном. В доме у нас слышалась возвышенная речь. Я, конечно, сопротивлялся и долго нес всякую чушь. Я был дитя американской культуры. О „Ромео и Джульетте“ я узнал не читая Шекспира, а листая комиксы».
Затем в Кёльне и Мюнхене он стал изучать германистику, историю театра и социологию, но оставил учебу после пятого семестра, так и не завершив диссертацию на тему «Томас Манн и театр». Собственно говоря, он мечтал стать актером, студентом играл в любительских постановках. В Реклингхаузене, «столице» именитого Рурского фестиваля, недолгое время был ассистентом (не первым, а одним из многочисленных) известного немецкого режиссера и театрального деятеля Августа Эвердинга. Писал театральные рецензии «в стол». Наконец творческие искания привели юношу в Западный Берлин. Там он всерьез занялся театроведением, познакомился с «зубром» немецкой критики Хеннингом Ришбитером и три года (1967–1970) писал для журнала «Театер хойте», сначала как вольный обозреватель, потом как редактор. Это был канун создания знаменитого штайновского коллектива Шаубюне ам Халлешен Уфер, ставшего для Штрауса своего рода театральным университетом.
Критическое умонастроение сформировалось у Штрауса очень рано. В студенческие годы он, как и вся немецкая молодежь, потрясенная франкфуртскими процессами над нацистскими преступниками, отрекшаяся от религии отцов, увлекался Адорно, франкфуртской школой. Прочел Адорно – и все вдруг оказалось под сомнением. Его библией стал «Принцип надежды» Хайдеггера – позднее драматург говорил, что принадлежит к поколению, выросшему на этой книге. Не менее важен был блестящий эссеист, писатель и философ Вальтер Беньямин, в молодости уверовавший было в социальную утопию, но быстро и окончательно от нее отрекшийся. Молодой Штраус мечтал писать «умные и элегантные» эссе, особым шиком считалось процитировать Беньямина – одно это уже создавало соответствующую атмосферу. Он не разделял оптимизма, что путем изменения общества люди могут прийти к чему-то лучшему. Не случайно одна из первых опубликованных статей не о вошедшем в моду Брехте, а о мало тогда ставившемся в театрах Хорвате. Религиозно воспитанный, Штраус никогда не занимался богоискательством, но в то же время, по его признанию, формулировка Хайдеггера о том, что вопросы религии – суть вопросы духа, стала краеугольным камнем его мышления, ориентированного лишь поначалу на «диалектическую школу».
Статьи молодого критика в «Театер хойте» были похожи на теоретические эссе. В них постепенно формируется и обретает огранку театральная эстетика будущего драматурга. В процессе общественных изменений Штрауса более всего интересует место и роль эстетического новаторства. В статье «Попытка осмыслить события в современной эстетике и политике» (1970) он сосредоточивается на понятиях «эстетической памяти» критика и «археологии форм», опираясь во многом на Адорно и Фуко (в то время в Германии не слишком известного). Хотя Штраус тогда и считал революционное сознание образцом для нового театра, для него, в отличие от левых, приемлемо только автономно мыслящее искусство, далекое от всяческих попыток отражения. Отсюда штраусовская критика столь популярного в это время документального театра, а более не соответствующего «нашему способу чувствования, изменившемуся как политически, так и эстетически». Он в муках ищет свою «модель», не похожую ни на «театр изменения», ни на театр абсурда. Критикуя историзм Танкреда Дорста («Толлер»), Штраус выступает с позиций сторонника принципов иллюзорного и игрового театра.
Примеры театра игрового, фантастического, сюрреалистического Штраус обнаруживал в пьесах Петера Хандке с их речевыми экспериментами, Станислава Игнация Виткевича, Витольда Гомбровича, Фернандо Аррабаля. Знакомству молодого критика с постановками чеховских пьес Рудольфом Нэльте сопутствует серьезное и глубокое увлечение поэтикой драмы Чехова. Идеальным соотношение политики и эстетики, «репрезентации» и «иллюзии» виделось Штраусу в спектаклях Петера Штайна, указующих новые пути в искусстве. Рецензия на штайновскую постановку «Тассо» в Бременском театре называлась программно: «Прекрасная напраслина». В ней слышатся отзвуки концепции «незаинтересованной красоты» Иполлита Тэна. В то же время жаргон левых остается непреодолимым. «Тассо» Петера Штайна, провозглашал критик, – «прототип художественного произведения» наших дней, ибо в нем режиссер добивается той «преувеличенно красивой, исключительно бесполезной изоляции», той «крайней искусственности», которая только и порождает поэтическую игру как таковую и как особую форму отрицания существующего. «Чем роскошней, благородней драпируется театр, тем откровенней обнажает он свое истинное лицо: это, по своей сути, декор, в котором себя выставляет позднекапиталистическое общество. Удовлетворяя буржуазную потребность красоты, так сказать, цинично, аристократически-преувеличенно, театр буквально сводил бюргеров с ума от удовольствия». Искусство Штайна явилось для Штрауса доказательством того, что прекрасное может и должно быть неотъемлемой составной частью политического театра, наконец, того, что автономная эстетика имеет право на существование.
Не случайно в 1970 году Бото Штраус примыкает к Петеру Штайну и проводит в литчасти Шаубюне пять лет. Это бурная пора созидания йового театра, основанного на демократической модели «соучастия». Появляются любимые актеры, связь с которыми не потеряна и по сей день: Бруно Ганц, Эдит Клевер, Отто Зандер… «Вначале я был там никто, – вспоминал Штраус, – но ко мне прислушивались. Это придавало мужества. Так, просиживая сотни часов за репетиционным столом вместе с режиссером, я начал сам сочинять пьесы». Завлиты Шаубюне Бото Штраус и Дитер Штурм представляли себе работу над текстом как процесс активного вмешательства и переработки (чаще всего коллективной – вместе с режиссером и актерами). Интеллигентные и настойчивые завлиты Шаубюне в своей драматургической мастерской, писал историк театра Петер Иден, «осваивали тексты почти на основе научного подхода». Штраус участвует в работе над спектаклем «Сон Клейста о принце Гомбургском» (1972), создает сценические обработки «Пер Понта» Ибсена, «Копилки» Лабиша, наконец, вместе со Штайном – «Дачников» Горького (1974). Вместе с коллективом, который работал над «Дачниками», следуя опыту Станиславского по изучению среды пьесы, едет в путешествие в Россию, из Москвы отправляется на пароходе по Волге, добирается до Ялты, где посещает Дом-музей Чехова. В итоге в первоначальном тексте драмы осталось лишь несколько мест, которых не коснулись изменения. Позднее драматург включил собственные редакции «Копилки» и «Дачников» в свое Собрание сочинений.
«Дачники», по-существу, определили судьбу Штрауса-драматурга. В работе над горьковской пьесой Штраус, можно сказать, нащупал свою драматургическую модель, существо которой в смешении жанров, фрагментарной, асинхронной, нарушающей хронологию структуре действия. «Мои пьесы – игры-головоломки из различных регистров и мелодий, с различными степенями серьезности. Пьеса скроена из множества субстанций. Есть пассажи, пронизанные высокой литературной страстью, и другие, абсолютно тривиальные. Меня интересует соединение всего. По форме это дисперсия и поток. Началось это у меня во время постановки „Дачников“», – признавался драматург в одном из более поздних интервью.
Горьковская пьеса в семидесяти восьми коротких сценах-фрагментах радикальной штраусовской обработки узнаваема и одновременно неузнаваема. Драма перемонтирована, сделан ряд комбинаций и добавлений, действие спрессовано максимально, как в киносценарии. «Дневные» сцены второго акта перемещены в начало, а «ночные» сцены, которыми у Горького начиналась пьеса, следуют затем. Третий и четвертый акты сильно сокращены. Все перемены и развитие сюжета происходит на глазах, вне обозреваемых событий не происходит ничего. Выбран другой тип экспозиции: персонажи не постоянно вводятся, появляются и уходят, а все к началу сцены находятся на определенном месте. Проходные фигуры вычеркнуты. Исходя из горьковского определения жанра – «сцены», Штраус стремился к поиску «комплексной структуры взаимосвязей героев, не к последовательному развитию фабулы, а скорее к монтажу внутренних и внешних состояний». Эту драматургическую модель, которая станет характерной для последующего творчества Штрауса, Люк Бонди, один из наиболее тонких штраусовских режиссеров, описывает так: «При нехронологической структуре нет желания идти в пьесе от А до Я, современная композиция это: начать с Б и кончить Е, потом снова начать с Ж, – короче, нечто серийное». Перерабатывая подобным образом драму Горького, Штраус (это было замечено почти всеми критиками постановки «Дачников») и без того близкий Чехову текст окончательно возвращал к Чехову и тем самым приближал к современности.
В стенах Шаубюне возникает и первая пьеса Бото Штрауса. Он начинает тяготиться службой, слишком большой публичностью и политическим суесловием, обязанностями подмастерья, отвлекающими от литературных интересов, от все более обостряющейся сосредоточенности на себе. Уход из Шаубюне становится неизбежностью. Первую пьесу начинающего драматурга ставил, вопреки естественным ожиданиям, не Штайн, а другой восходящий лидер общественно-критического театра Федеративной Республики – Клаус Пайманн. Штайн отнесся к пьесе резко отрицательно, сознавшись позднее о причине подобного поведения: «от разочарования, что он (Штраус. – В. К.) пошел собственным путем и что теряешь его как непосредственного сотрудника».
Но Штраус никогда не станет для Шаубюне и для Штайна чужаком. Двери театра навсегда остались для него открытыми. Никто так глубоко не проник в специфику театрально-драматургического дарования Штрауса, как создатель Шаубюне. «Я понял, – говорил он в интервью 1986 года, – какое предельно театральное воздействие скрыто там, где его при первом прочтении сам как профессионал даже не ожидаешь… Эта способность к кратким, внезапно набегающим атакам сценического действия, которое создается двумя-тремя словами или фразами, потом долго, очень долго топчется на месте и затем снова несется благодаря новым, удивительным, образным или драматическим элементам. В этом принципиальное преимущество текстов Бото Штрауса…».
Первая пьеса Штрауса всех привела в недоумение. Вообразите себе виртуозную последнюю пьесу кого-нибудь из поздних романтиков, или «как будто вместе собрались Тик и Хичкок, Ведекинд и Борхес»! По ней никак нельзя было предсказать будущее автора. Эстетика мистической трагикомедии-шарады, обилие литературных параллелей и прямых, и скрытых цитат многих критиков просто раздражало.
В «Ипохондриках» (1972) правдоподобие, говоря словами Хичкока, ни на миг не может поднять свою банальную голову. Неважно, в конце концов, где и когда происходит действие, главное для Штрауса – реальность театра, в котором оно происходит. Замкнутость пространством сцены, перевернутый мир, намеки вместо фактов и событий важны для драматурга прежде всего как романтическая идея. В этой пьесе-шараде все играют не свои, а вымышленные роли, продиктованные скрытой интригой, контуры которой проступают только в финале (или окончательно теряются?). Кто они – Владимир, Нелли, Вера, Якоб – те, за кого хотят себя выдать или перевертыши? На фоне криминальной истории с цепью загадочных исчезновений и убийств разыгрывается не менее таинственная психологическая драма.
Недосказанность, туманность, двойственность обстоятельств постоянно преследуют зрителей. Незначительные детали и случайности приобретают огромную и чуть ли ни мистическую роль, как в фильмах Хичкока. Как будто персонажи играют в некую загадочную игру по только им понятным правилам, устраивают бесконечные розыгрыши и мистификации и цель этого действа – совершенно сбить зрителей с толку, продемонстрировать торжество игры и случая. «Ипохондрики» – то ли эксцентрическая комедия, то ли мистический гротеск, то ли абсурдный гиньоль, то ли психологический детектив? Постоянные скачки внутри сцен от жанра к жанру создают впечатление волшебного хаоса. Комедия легко переходит в фарс, в беккетианский гротеск. По меткому замечанию одного из немецких критиков, «между доктором Мабузе и Достоевским в этой пьесе, как во сне, нет никаких переходов».
Герои «Ипохондриков» – служащие старинной фармацевтической фирмы, мелкие и крупные махинаторы, схлестнувшиеся в непримиримом, тщательно замаскированном конфликте из-за раздела собственности и сфер влияния. На протяжении всей пьесы они не в состоянии выпутаться из сети убийств, обманов и заблуждений, природа которых так до конца и не проясняется. Но этот внешний, детективно-социальный сюжет все время теснится и остраняется сюжетом внутренним, развивающимся по несовпадающим законам, – сюжетом крушащейся любви и двойной, фальшивой жизни. «Как долго можно занимать фальшивую позицию?» – спрашивает Нелли у Якоба. «Секунду», – отвечает тот. «Но в промежутке, что происходит в промежутке?» – допытывается Нелли. В этом диалоге – ключ к пониманию драматургии Штрауса, персонажи которого постоянно стремятся выскочить из сюжета и роли и уплыть в сферу экзистенциального.
Идея фальшивости наиболее полно воплощается в фигуре и интригах Якоба, тайного кукловода – режиссера всех событий и прежде всего судьбы Нелли, в которую он тайно влюблен. С момента в последнем действии, когда Якоб открывается Нелли, начинается драма узнавания ею истинной подоплеки событий собственной и Владимира жизни. Постоянно находящиеся в пограничном состоянии, герои Штрауса борются с пустотой внутри себя и не могут ее победить. В словах Якоба, этого романтического урода и злодея с задатками философа, о «власти опущенных слов, опущенного знания» – боль за невысказанность, непрожитость, нетождественность бытия.
С персонажем Владимира связано появление в немецкой драматургии типично штраусовских героев – неуравновешенных ипохондриков, экзальтированных чудаков и комиков, опасных игроков, не ощущающих жизненной почвы под ногами. С одной стороны, он такой же авантюрист, как и братья Спаак, с другой, тонко чувствующий интеллектуал, даже будто ученый, с третьей, мистик, любитель крими и символистской поэзии. Персонажи Штрауса сотканы из видимого и невидимого, невидимое зачастую преобладает и руководит. Владимир порой чем-то напоминает Освальда из ибсеновских «Привидений». Неврастеник, пораженный синдромом бесконечной игры и розыгрышей, жертва собственной чувствительности, утратившая грань между реальностью и фантазией, – где еще мы встречали столь оригинальных мистификаторов жизни?
Штраус награждает своих героев, и Владимира в первую очередь, мучительной страстью самопознания, этакой интеллектуальной мнительностью, находящей своё особое отражение в раздумчивости, длиннотах и витиеватости фразы. Реплики, порой переходящие в философское эссе, часто равнозначны литературной исповеди героя.
Финал не проясняет шараду. Выходящий на поверхность драмы мотив двойников окончательно все запутывает. Кто же закалывает Нелли – не инсценировка ли это Владимира? Не являются ли Владимир и Якоб одним и тем же лицом? Истинные криминальные истории, в понимании Штрауса, не могут быть разгаданы, абсолютного знания нет, люди, как это было сформулировано Бюхнером, всего лишь слепые игрушки неведомых сил…
Одни в Германии усматривали в молодом драматурге исключительно поэта романтических трансформаций, превращающего невыносимую реальность в театральную утопию. Для других же выходила на первый план зашифрованная критика системы, и, вероятно, у них были основания для того, чтобы видеть в пьесе Штрауса актуальную притчу. Петер Иден, обозреватель «Франкфуртер Алльгемайне», трактовал «Ипохондриков», герои которых запутываются в лабиринте жизни, не могут ухватиться за действительность, как «символ состояния общества, в котором ложное все время выдают за правильное». Пьеса была воспринята им как анализ современной общественной болезни, замеченной к этому времени уже и европейскими социологами, – нарциссизма, страсти к самонаблюдению, подтачивающей силы человека и выталкивающей его из действительного мира: «Ипохондрия героев, страсть к постоянному нервному перенапряжению, балансирование на грани безумия проистекают оттого, что им самим не ясно, кто они и что их окружает, что было и чего не было».
Следующие пьесы – «Знакомые лица, смятенные чувства» (1974) и «Трилогия свидания» (1976) – были восприняты уже как открытая критика системы. В первой пьесе, по жанру – комедии, владелец гостиницы замораживает себя заживо в холодильнике; безутешной действительности и деформированным чувствам противостоит лишь мир танца. В «Трилогии свидания» обсуждается выставка под вызывающим названием «Капиталистический реализм», но выясняется, что искусство используется героями большей частью для бегства от действительности. В финальной сцене галерист Мориц заклеивает себе лицо пластырем – вдоль, поперек, крест-накрест, дабы больше ничего не видеть, стать слепым и немым. Таким часто бывает итог пьес Штрауса – дальнейшее существование бессмысленно.
Но еще в большей степени это касалось «Такой большой – и такой маленькой» (1978), метко названной авторитетным Гюнтером Рюле «десятью сценами-символами немецкого духовного состояния». Смысл образа Лотты увидели в том, чтобы быть медиумом, выявить истинное состояние окружающего ее общества, вознесенного «экономическим чудом» на вершину благополучия. Истиной на поверку оказывалось безумие автоматизированных страстей и унифицированных реакций, оледенение человека, параноидальный страх обывателя перед проявлением собственного «я».
В «Трилогии свидания» один из персонажей называет героиню «замерзшим колокольчиком». То же можно было бы сказать и о Лотте. Женщина-ребенок, простодушная и комичная чудачка, она безуспешно пытается соединить в своей жизни рационализм (свойство мира больших) и детскую фантазию (главную черту мира маленьких). Избрав в протагонисты своей драмы надломленную личность, хрупкую и чувствительную женщину, брошенную мужем и все еще жаждущую счастья и справедливости, Штраус проводит ее по огромному кругу жизненных исканий и мучений. Построенную по такому принципу драму в Германии называют «драмой остановок». «Остановками» на пути Лотты, этапами ее отчаянного падения становятся курорт в Марокко, где ее общение ограничивается подслушиванием чужих разговоров, десять комнат огромного дома, где она напрасно пытается установить контакт с соседями, телефонная будка у обочины шоссе, становящаяся ее обителью, дом брата на Зильте, где происходит неудачный роман, кабинет молодого служащего, к которому она пристает в надежде восстановить связь с обществом, остановка автобуса, возле которой отчаявшаяся Лотта роется в мусорном баке, наконец, приемная врача, откуда ее выпроваживают на улицу.
Казалось бы, типичный сюжет и типичная героиня для входившей в моду неонатуралистической драмы, обнажающей узкий горизонт современного обывателя. Однако, следуя опять же традициям немецких романтиков XIX века, драматург наделяет свою героиню, выходца из среднего сословия, качеством гамлетизма – способностью к глубокому самосозерцанию, аналитическим даром, комплексом уязвленной совести. Это помогает Лотте из Саарбрюккена, как всем героям Штрауса, пораженным болезнью нарциссизма, подняться до вершин трагического понимания и превратиться из персонажа задавленного, страдательного в героиню современной немецкой трагедии.
Мотивы ускользающей жизни и бесконечно преследующих человека страхов пронизывают пьесу. Человек индустриального общества ничем не защищен. Анонимность, заданность и ограниченность существования порождают у обывателя обилие страхов-фобий, вынуждают свить вокруг себя толстый защитный кокон. Эти фобии осмыслены драматургом как явления метафизические: страх перед воскресеньем, страх, что кто-то схватит тебя за затылок и вдавит в стекло, страх человека споткнуться при каждом жизненном шаге.
Драматург создает целую вереницу щемящих пейзажей отчуждения человека от человека. Фиктивный диалог Лотты с соседями-призраками на курорте, ее прерванный диалог с обитателями комнат, каждый из которых привык «сам справляться со своими проблемами» и пресекает любое вторжение в его личный мир, разговор Лотты по домофону с близкой подругой, которой лень погружаться в чужую жизнь, переход Лоттиного диалога в бесконечный мучительный и путаный монолог, наконец, в галлюцинации и лихорадочный бред… Символом крайнего отчуждения предстает палатка, куда брошенная родителями девочка прячется от агрессивной действительности. В сущности, каждый здесь носит внутри себя такую палатку.
Снова и снова ищет наивная и незащищенная Лотта понимания, общения. Снова и снова входит она в чужие комнаты (типологическая ситуация пьесы). Но она везде лишняя, ее никто не ждет. Лотта – это Шен Те, лишенная Шуи Та, человеческой злой половины, и она, как замечает Гитарист, чрезмерно добра и тем самым создает проблемы. Обыкновенные обыватели, взрывчатая смесь апатии и агрессивности, гонят Лотту все быстрее и быстрее в направлении тупика. Она словно бы впустую проходит сквозь время и пространство, не оставляя и следа. Впрочем, одиночество оттачивает ее острый ум и делает ее чуть ли не домашним философом.
Драматургически наиболее близким автору «Такой большой – и маленькой» оказывается опыт Чехова и Беккета. Щемящая неудовлетворенность жизнью, постоянная нервная перевозбужденность, переливы настроений, безуспешные, абсурдные попытки контакта и бегство от проблем в такой же степени свойственны героям Штрауса. «Как хорошо можно было бы жить сегодня рядом с милыми опустившимися интеллигентами Чехова! – признавался писатель в романе „Ошибка переписчика“ (1997). – Однако эти опустившиеся люди стали сегодня такими ожесточенно-немечтательными, трезвыми, просвещенными, совершенно несентиментальными. Задавленными до основания. Рабами проблем. Интеллектуальными руинами. Маленькими и крошечными куклами всеобщего, которые никогда не станут красивыми флегматиками, задумчивыми обманщиками самих себя». В этом смысле Лотта, конечно, фигура рудиментарная.
Категория настроения преображается у Штрауса в соответствии с его собственным ощущением времени. Это хорошо видно в чисто монтажной сцене «Десять комнат», по-существу, пьесе в пьесе, являющейся квинтэссенцией формальных исканий драматурга. В монологических сценах он гораздо более консервативен. Заметим, что эксперимент с «Десятью комнатами» подготовил появление драматургических структур «Времени и комнаты» (1988). Настроение Штраус передает не только с помощью слова, но и чередованием различных ритмов сцен, посредством калейдоскопичности, фрагментарности изложения. Вместо последовательного изложения – секвенции бытия, остановленные мгновения, обрыв фразы на полуслове. Принцип фрагментаризации действия, введенный в свое время Георгом Бюхнером, Штраус сближает с принципом киномонтажа. Начиная с этой пьесы, драматург все большее внимание уделяет режиссерским указаниям в ремарках, создавая целостный пластический ряд, напоминающий инсталляции Пины Бауш. Театральный язык Штрауса эпохи постмодернизма становится все более синтетичным.
Чем дальше после фиаско в рациональном мире уходит Лотта в глубины поверженного и растоптанного «я», в сферы зовущего ее метафизического духа, в богоискательство, тем чаще пласты реалистического изображения перемежаются с сюрреалистическими. Трагедию отчуждения и несогласования с Богом, граничащую с паранойей, Штраус передает с помощью сюрреалистических секвенций, горячечных медитаций героини, кончающихся утратой смысла и связной речи.
Ближе к финалу мы видим Лотту превратившейся в одинокую, гонимую безотчетной тоской странницу, шутиху, «белую как мел с головы до пят», бесцельно скитающуюся по городу. Шутовство Лотты менее осознанно, чем шутовство Гамлета, и все же это явный протест против обыденщины, жестокого внутреннего «бидермаейера», против социализации в безумном мире.
Эта неприкрепленность и потеря опоры в конечном итоге бросают героиню Штрауса в объятия Бога. Можно ли добровольно взятую ею на себя миссию проповедника считать «шизоидной паранойей»? Это скорее последний отчаянный всплеск воспаленного разума, спасающегося отрицанием всего сущего («Всему, о чем я думаю, я говорю – нет!»). Нам следует согласиться с Петером Штайном, что религиозное озарение Лотты «вытекает не из спиритуальной мистики, а из драматургической логики»: Лотта, уставшая беспрестанно биться головой о стенку, решает, что свою личность она может сохранить, лишь взглянув на себя как на богоизбранную.








