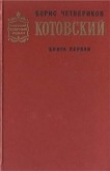Текст книги "Эстафета жизни"
Автор книги: Борис Четвериков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
Крутояров хитровато глянул на Маркова:
– У меня есть заветная записная книжечка, я туда всякие мелочишки заношу, для памяти и в назидание потомству... Вот я вам прочту несколько прелюбопытнейших выписок...
Он стал быстро перелистывать листочки записной книжки.
– М-м-да... "Не хочу коммуны без лежанки"... Это Клюев изрек в недавно вышедшей книжице. А это его же: "К деду-боженьке, рыдая, я щекой прильну". Это он сейчас щекой прильнул, в годы величайшей из революций! Вот уж поистине – кому что! А ведь талантлив! М-м-да... Не то, не то... Все это не то... Вот дьявольщина! Где же эта цитата у меня? "О том кукушка и кукует, что своего гнезда нет" – пословица мне понравилась, я и записал, пригодится когда-нибудь... "Прочесть Федорченко "Народ на войне" – это я просто для памяти черкнул, Василий Васильевич Князев хвалил мне очень эту книжку... Но это опять не то... Стоп! Нашел! Вот оно! Есть на свете один страшно эрудированный, страшно образованный литератор, он выпустил в одном частном издательстве (а этих частных издательств наоткрывали сейчас около полутораста!) монографию о Пушкине – толстая такая книга, в роскошном переплете, и цена роскошная... Я купил ее, можете взять почитать, если поинтересуетесь, и тогда узнаете... э-э... сейчас найду выписку... что "дендизм являл одну из попыток придать взбаламученной русской жизни и расплывчатым отечественным нравам законченный чекан и определяющую граненость..."
Прочитав, Крутояров залился смехом.
– Законченный чекан! – выкрикивал он сквозь смех. – Определяющая! Граненость!.. Ох, не могу. Был бы жив Пушкин, он бы его тростью побил! Правда, роскошно? Абсолютно непонятно, совершенно бессмысленно, но роскошно! И расплывчатые нравы тоже недурны! Когда у меня плохое настроение, я достаю записную книжку, читаю этот абзац и хохочу. Вот вам первый совет: никогда так не пишите!
Он смеялся до слез, вытащил носовой платок, вытер слезы и снова заглянул в свою книжечку.
– А вот еще: "речековка словоконструктора". Это состряпал уже другой "гений". На днях вышел альманах, называется "Абраксас". Пышность-то какая! Тоже – чекан и граненость, но эти хоть Пушкина не трогают. В другом альманахе драма в стихах, называется "Нимфа Ата". Конечно, это все шелуха, отпадет со временем. Чехов говорил, что богатые люди всегда имеют около себя приживалок. Русская литература богата, поэтому и приживалок много. И если приживалка не станет говорить "мерси боку", антраша выделывать, шутов гороховых строить, какая же она будет приживалка? Вот она и пыжится, из кожи лезет: "Абраксас! – кричит. – Законченный чекан! Нимфа Ата!" дескать, мы люди образованные, не какое-нибудь мужичье, нам и положено изъясняться непонятно и косноязычно!
Слушая Крутоярова, Миша Марков чувствовал себя невеждой. Очутившись в самой стремнине потока, в самой гуще жизни, полной своих каких-то порывов, устремлений, волной поисков и борьбы, Миша Марков только растерянно озирался, как неуклюжий провинциал, попавший в движущуюся толпу на главной магистрали большого города.
Впрочем, Марков не оробел. Он слушал Крутоярова, слушал руководителя литературной студии – бородатого, авторитетного, слушал сотоварища по студии – вспыльчивого, нетерпеливого Женю Стрижова, который, по-видимому, был в курсе всех дел, все понимал и все знал, – слушал и наматывал на ус.
Возвращаясь домой, хватался за книгу. Читал яростно, запоем. Оксана просыпалась ночью и обнаруживала, что Миша все еще не ложился. Она его укоряла, просила, а он только отмахивался и продолжал листать страницу за страницей.
– Подожди, Ксаночка! Как раз самое интересное место! Ты не беспокойся, я лягу. А ты спи!
– Как же спать, когда свет прямо в глаза?!
– А я газетой загорожу лампочку. Хочешь? Теперь хорошо? Не сердись, пожалуйста, надо же наверстывать! Ведь я, оказывается, ничего не читал, ничему не учился, ничего не знаю! Только на коне умею ездить!
Однажды Крутояров объявил, что сегодня они отправятся по книжным лавкам. Марков как раз получил стипендию, и у него завелись кой-какие деньжата. А деньги в 1923 году были разные. Ежедневно объявлялся курс только что введенного в обиход советского червонца. То, что получено вчера в старых "миллионах", или, как тогда называли их в обиходе, "лимонах", на сегодняшний день падало в цене. Например, в тот день, когда Марков и Крутояров отправились по книжным ларям и магазинам, курс червонца был два миллиона семьсот тысяч. И нужно было торопиться тратить старые купюры.
Для Миши это не составляло затруднения: "купюр" у него было не густо, – рад бы тратить, да нечего. Финансовые дела Маркова были на первых порах очень неважные, проще говоря, едва сводили концы с концами. Если бы не помощь Крутоярова и в этом отношении, незаметная, но повседневная помощь то тем, то другим, – туго бы пришлось Мише и Оксане в Петрограде.
– Готов? – заглянул в комнату Миши Крутояров, уже одетый в новенькое кофейного цвета пальто и полосатую суконную кепку.
Миша быстро накинул видавшую виды куртку, и они принялись выстукивать каблуками по ступенькам лестницы, из пролета в пролет, все шесть этажей: лифт в доме был, но не работал.
Петроград улыбался по-осеннему, как умеет улыбаться только Петроград. Это было умиротворение, умудренность и вместе с тем комсомольский задор. Ведь город был одновременно и старым, помнящим очень многое, и вместе с тем отчаянно молодым, только теперь начинающим жить. Как сверкало старинное золото! Как переливалась мириадами солнечных бликов могучая многоводная Нева!
Крутояров острым взглядом окидывал просторы, открывшиеся с Литейного моста. Уходил в голубую высь шпиль Петропавловской крепости. Сверкали на солнце фасады домов вдоль набережной. Почти о каждом строении можно было рассказать много занятного. Здесь отовсюду смотрела история. Вот дом, где жил фельдмаршал Кутузов... Вот решетка Летнего сада и массивные ворота, возле которых Каракозов стрелял в царя... Там, в гуще деревьев, затерялся скромный домик Петра... А вот Марсово поле – место парадов, блеска придворной знати, мундиров и эполет...
Миша слушал, широко раскрытыми глазами глядел вокруг и удивлялся, как много знает Крутояров.
Какой необыкновенный город! Прислушиваешься, и слышатся голоса промелькнувших столетий. Нужно только уметь слушать. Для Миши в равной степени были реальными и те, кто жил в этом городе, и те, кто на проспекты города сошел со страниц произведений. Разве не всматриваешься, грустя, в черную воду возле Зимней канавки, где утопилась Лиза? Разве не видишь, как наяву, князя Мышкина, который входит с жалким узелочком в руках в парадный подъезд дома генерала Епанчина?..
Миша и Крутояров начали с букиниста около "книжного угла", на Литейном, недалеко от цирка. Крутояров зарылся в груды книг и оттуда беседовал с букинистом – старым книголюбом, знатоком книжного рынка и, по выражению Крутоярова, "последним из могикан". Здесь была отложена порядочная стопка книг. Среди них "Гавриилиада" Пушкина – стоимостью в пятьдесят миллионов, Георгий Чулков – стихи и драмы, издание "Шиповника" пятьдесят миллионов и "Homo sapiens" Пшибышевского – сто миллионов рублей.
Затем посетили книжный магазин "Дома литераторов" на Бассейной улице и тщательно обследовали книжные лари в выемке возле Мариинской больницы. После этого отправились на Васильевский остров, на 6-ю линию. И как ликовал Крутояров, приобретя за двести миллионов "Стихи о прекрасной даме" Блока в издании "Гриф", да еще с автографом самого Блока! Что касается Миши Маркова, то он принес домой словарь рифм, который решил подарить Женьке Стрижову, а для себя выбрал "Лекции по истории русской литературы" Сиповского и был удивлен, узнав от Крутоярова, что Сиповский жив и находится здесь, в Петрограде.
Маркову представлялось почему-то, что писатели, книги которых он встречал в школьной библиотеке, жили когда-то давно, даже очень давно. Отчасти он был прав: ведь с тех пор успела смениться эпоха. Как было представить, что Федор Сологуб, написавший "Мелкого беса", и сейчас здравствует и даже председательствует в Союзе писателей на Фонтанке, в доме номер 50? А Чарская! Лидия Чарская с ее слащавой "Княжной Джавахой" замужем за бухгалтером и живет где-то около Пяти углов!
4
Вскоре Маркову представилось немало удобных случаев, чтобы недоумевать, восклицать, изумляться. Например, как это могло случиться, что сейчас, в 1923 году, когда Коммунистическая партия отмечает свое двадцатилетие, когда отгремели бои под Вознесенском, очищена Одесса, стерты с лица земли и Врангель, и Колчак, – вот, полюбуйтесь: на Невском, дом 60, находится "Ложа Вольных Каменщиков" и там недавно состоялся диспут по докладу некоего Миклашевского "Гипертрофия искусства"!
– Какие каменщики? Какая гипертрофия? – спрашивал всех Марков, но вразумительного ответа не получал.
Ходили вчетвером – супруги Крутояровы, Марков и Оксана – на выставку в Академию художеств. Оксана, которая не так часто выбиралась из дому, была потрясена не только картинами, но и видом на Неву, на гавань, и сфинксами перед зданием академии, и университетом, мимо которого проезжали.
– Ой, матенько! – поминутно восклицала она, и черные ее брови поднимались все выше и выше.
В выставочных залах к ним присоединился Евгений Стрижов. Он был как дома.
– Дальше, дальше идемте, – тащил он всех. – Тут чего смотреть: цветы.
– Нет, погодите, – остановил Крутояров. – Взгляните на эту сирень.
– Понюхать хочется! – восхищенно вглядывался Марков.
– Художник не просто так вот решил – дай-ка нарисую сирень. Обратите внимание, какие сильные, сочные гроздья, как много веток сирени, они даже не вмещаются в вазу. Обилие, цветение, торжество жизни! А скатерть на столе какова? Видать, в доме живет рукодельница, видать, в доме совет да любовь, а то и не до цветов бы было!..
– Это вы все выдумываете, потому что писатель, – возразил Стрижов. А для обыкновенного взгляда – сирень как сирень.
– Вы – поэт, и еще молодой поэт, как же это может вас не трогать? Нельзя мимо красоты проходить, надо вглядываться, вопрошать, впитывать!
– Впитывать! И без того нас за красоту поедом едят! Читали Силлова?
– Какого еще Силлова?
– Он из стихов Герасимова надергал цитат: заводские трубы погребальные свечи, город – гроб, синяя блуза – саван, и делает вывод: ага, церковные атрибуты, мистика!
– Гроб – церковный атрибут? – расхохотался Крутояров. – А в чем же самого этого Силлова в землю закопают? Но у нас речь о сирени. Значит, Силлов нас ни в чем не упрекнет.
– Упрекнет! У Герасимова: "Угля каменные горны цветком кровавым расцвели"...
– Ну и что же? Расцвели.
– У Крайского: "Как крылья разноцветные, знамена батраков", у Кириллова: "Звучат, как крепнущий прибой, тяжелые рабочие шаги"...
– Что же ваш Силлов нашел тут запретного?
– Цветок?! Мотыльки?! Прибой?! Значит, у пролетарских поэтов влечение к деревенской мужицкой Расеюшке, значит, ориентация на эсеров!
– Неужели так и написано: Цветы – эсеровщина? Прибой – деревенский образ?
– Я вам и журнал принесу, если хотите. Особенно Крайскому попало: "Родину мою, как Прометея, враги и хищники на части злобно рвут"... Силлов говорит: Прометей – мифологическое сравнение, значит, пролетарская литература – вовсе не пролетарская.
– М-да! – вздохнул Крутояров. – Тут ничего не скажешь... Но мы загораживаем дорогу посетителям выставки и не к месту занялись дискуссией. О вашем Силлове одно можно сказать: дурак и молчит некстати и говорит невпопад.
Этот неожиданный разговор чуть не испортил всем настроение. Крутояров хмурился и как-то странно мотал головой, будто ему что-то мешало. Оксана испуганно смотрела и не знала, как всех успокоить. Марков молчал, но злился. Одна Надежда Антоновна восприняла этот рассказ юмористически.
– А кто такой Силлов? Ноль! И кто станет читать его галиматью? Какие вы, товарищи, впечатлительные!
Вскоре все уже с увлечением разглядывали натюрморты Клевера-сына, воздушные полотна Бенуа.
Оксане понравились "Гуси-лебеди" Рылова.
– К нам летят! – прошептала она. – На родную сторонушку!
Дойдя до "музыкальных композиций" Кондратьева, Крутояров стал рассеяннее, а когда увидел "левое" искусство Пчелинцевой, снова стал чертыхаться, уже по поводу "заскоков" и "экивоков".
– Что это? – тыкал он в картину. – Пятна, волнистые линии... И хоть бы сама придумала, матушка, а то ведь все косится туда, на запад. Озорничать тоже надо умеючи. Иначе начнешь epater les bourgeois, а буржуа-то не ошеломятся!
Вскоре после выставки Марков и Стрижов побывали на устном альманахе рабфаковцев "Певучая банда". Голубоглазый, весь в веснушках, с задорным хохолком, Евгений Панфилов читал:
Пусть туман и пуля-лиходейка,
В сердце страх не выищет угла!
Жизнь легка, как праздничная вейка,
И напевна, как колокола!
– Как бы Силлов не услышал, – шепнул Стрижов, делая страшные глаза. Опять церковный атрибут! Будет Панфилову на орехи!
Оба весело рассмеялись и стали дружно аплодировать.
После "Певучей банды" посетили литературный вечер "Серапионовых братьев". Хлопали Тихонову. Он читал "Брагу". Он сказал: "Меня сделала поэтом Октябрьская революция". Освистали докладчика Замятина. Замятин уверял: "Железный поток" сусален, Сергей Семенов пошл... Только сам себе Замятин нравился!
Посетили затем "Экспериментальный театр" в помещении Городской Думы... Потом слушали лекцию Луначарского...
А однажды Стрижов таинственно сообщил:
– Сегодня ты умрешь от восторга! Пошли!
– Куда?
– А вот увидишь. Пошли, говорю!
Петроградское объединение писателей "Содружество" устраивало по четвергам литературные чтения, они происходили на квартире одного из "содружников". Это тоже было своеобразием тех времен. Каждый четверг вечером в квартире на Спасской улице, дом 5, были гостеприимно открыты двери для всех желающих. Хозяин встречал каждого и провожал в ярко освещенную комнату, где было много стульев, в углу сверкал крышкой рояль, на столе для посетителей был налит чай, тут же предусмотрительно положена стопка чистой бумаги и с десяток остро отточенных карандашей – для заметок при чтении, если кто не запасся блокнотом.
Стрижов, оказывается, знал здесь всех наперечет. Он негромко называл Мише фамилии, а Миша ахал, удивлялся и смотрел во все глаза.
– Видишь, с такой буйной шевелюрой и глубокими пролысинами на лбу? Свентицкий, критик. Рядом с ним Лавренев, у которого кот на коленях. Читал "Сорок первый"?
– А эта, с челкой? Низенькая?
– Сейфуллина. Неужели не узнал? Ее портреты есть в журналах. А тот, у окна, худощавый, – это поэт Браун, он сегодня будет новые стихи читать. А с бородой, кряжистый – Шишков Вячеслав Яковлевич. Вот мастер свои произведения читать! Заслушаешься! А к нему подошел, разговаривает... видишь, с усиками? Это Михаил Козаков. Рассказы пишет. Рождественского чего-то нет сегодня. Хотя он всегда опаздывает.
– Удивительно все-таки, – вздохнул Марков, – вот состаримся мы и будем вспоминать: такого-то впервые я встретил, помнится, в таком-то году...
– Ну вот еще! – вдруг обиделся Стрижов. – Мы никогда не состаримся!
В этот вечер приятели очень поздно возвращались домой. Стрижов провожал Мишу до самых дверей парадного и непрерывно декламировал: он знал множество стихотворений, особенно современных поэтов.
Улицы были почти безлюдны в этот поздний час. Но завидев шумную ватагу молодежи, наполнившую визгом, гамом, пением всю улицу, Стрижов поспешил с пафосом провозгласить:
И в живом человечьем потоке
Человечье лицо разглядеть!
– Это я знаю, – обрадовался Марков, – это Садофьева!
– Угадал, его. Не все, братец ты мой, наши пролетарские поэты пишут в мировых масштабах, вон они о чем – вглядываются в лица! А это знаешь:
Что же! Смотреть и молчать?
Жить и в борьбу не втянуться?
– Женька! А ведь здорово? Ты мне завтра напомни, я себе в тетрадь запишу. Чье это? Александровского? А он где? В Москве? Знаешь, мне ужасно понравилось на "четверге"! Вот уж никак не думал, что Сейфуллина здесь живет!
– На улице Халтурина. Лавренев – на набережной Рошаля.
– А Крайский?
– У Крайского я сколько раз бывал. Он на проспекте Маклина. Он ведь все с молодежью возится.
– А сегодня в "Содружестве"? Там и курсанты были, и матрос один был, студента знакомого я видел...
Марков остановился на Литейном мосту.
– Женя! А ведь хорошо жить! Как ты думаешь... Сейчас у нас двадцатый век. А в двадцать первом коммунизм устроят?
– Чудик! Тоже мне – в двадцать первом! Да он буквально в преддверии! Вот-вот мировая революция грянет. Ты что думаешь – в других странах рабочие дураки? Смотреть будут?
– Я в газете читал – буржуазия у них опять шевелится, опять войну готовит.
– Ну и готовит! Ну и пожалуйста! Одну войну устроят – четверть мира осознает. Вторую войну устроят – все люди осознают. На том песенка капиталистов и будет спета.
– Я тоже уверен. А сами-то они неужели не понимают?
Маркову нравилась решительность Стрижова. И хотя сам он знал все то, что говорил Стрижов, сам был тех же взглядов, но Маркову нравилось слушать. Когда другой приводил эти доводы, Маркову они казались еще несомненнее, еще тверже.
Ночь стояла холодная, на Неве ветер так и пронизывал. Одетые один в плохонькую курточку, другой в перешитое из отцовского нелепого цвета пальто, ветром подбитое, оба голодные (даже не решились выпить чаю с печеньем, хотя им предлагали), оба без копейки в кармане и без каких-нибудь перспектив на этот счет в ближайшем будущем, с одними только широкими планами и мечтами, они беспрекословно верили в несокрушимость советского строя, в неминуемую гибель капитализма, в мировую революцию. Жизнь была им впору, невзгодами их трудно было напугать – всякое видали, всякого хлебнули. Молодые, но прошедшие уже длинный боевой путь и жесткие испытания, они были полны гордости, уверенности, сознания силы, они вглядывались в неспокойную водную пучину, в сердитое черное небо – и до исступления, до того, что зубы стискивались, кровь приливала к лицу хотели поторопить, подтолкнуть время. Скорей же! Ну же, скорей!
Поэтому и сами они торопились. Все увидеть! Все впитать!
Выставка фарфора. Выставка кружев в бывшем особняке Бобринского. Диспут в клубе "Коминтерн" на Невском. Воспоминания о Тургеневе знаменитого Кони в Пушкинском доме. Лекция приехавшего из Москвы Маяковского "А ну вас к черту". Всюду надо успеть. Все захватывает.
На лекции Маяковского было шумно, скандально. Маркову Маяковский понравился, а Стрижов рассердился:
– Очень хамит.
– Прикажешь ему по-французски изъясняться? Дамам ручки целовать?
Стрижов всюду дорогу отыщет и, если Маркову не хочется куда-нибудь пойти, явится на Выборгскую, уговорит, вытащит.
– Все нужно видеть, во всем участвовать! Оксана, правильно я говорю?
И Оксана тоже начнет уговаривать. Не хочешь, да пойдешь.
Марков помнит, как они весь день потратили, участвуя в праздновании пятилетнего юбилея Петрогосиздата. Сначала был парад моряков-курсантов. Парад собрал много зрителей, весь Невский был запружен толпой. Парад начался у Дома книги. Потом направились ко Дворцу труда. Было нарядно, живописно, красочно. Женька Стрижов всю дорогу острил, читал стихи и пел. После митинга перед Дворцом труда карнавальное шествие двинулось на Петроградскую сторону, на Гатчинскую улицу, к типографии "Печатный двор". Вечером было чествование героев труда и в заключение концерт.
Вернулся Марков поздно. Оксана уже спала, но сразу же проснулась, вскочила и стала хлопотать.
– Бедняжечка! Весь день, поди, ничего не ел!
– Ничего не попишешь, – важничал Марков, – праздник-то был наш, писательский.
– Да я ведь ничего не говорю, я понимаю.
5
А потом Марков ездил в Москву. Что было раньше, что было позже, он уже и сам не разбирал. Он все время мчался, летел, торопился, и все впечатления у него сливались в один пестрый водоворот. Но поездку в Москву он отлично запомнил!
Он был ошеломлен, обескуражен, не знал, что думать. Он попал в кафе "Стойло Пегаса". В Петрограде он как-то не сталкивался с нэпманами, с ресторанной обстановкой. И вдруг – "Стойло Пегаса"!
Надо только знать, что такое кафе "Стойло Пегаса"! Можно подумать, что это веселое сборище юных литераторов, что там идут горячие споры по вопросам искусства, доклады, столкновение мнений, оценок, точек зрения. Ничего подобного! Марков в этом хорошо убедился! Там пьяный разгул подозрительных субъектов с испитыми физиономиями, не то бывших фельетонистов из черносотенного "Нового времени", не то матерых спекулянтов шкурками каракульчи. "Стойло Пегаса" – это изобилие спиртных напитков и низкопробных острот, это пристанище вызывающе-пестрых женщин, которые о литературе имеют весьма отдаленное представление, о политике еще меньшее и заканчивают житейский путь на Цветном бульваре, вызывая сочувствие какого-нибудь ночного гуляки:
Что вы плачете здесь, одинокая деточка,
Кокаином распятая на бульварах Москвы?
Вашу шейку едва прикрывает горжеточка,
Облысевшая вся и смешная, как вы...
"Откуда эти стихи? Ну конечно, Женька Стрижов декламировал!"
Нет, "Стойло Пегаса" ничем не напоминало Литературной студии или устных альманахов, которые устраивают в Петрограде на шестом этаже в доме 2 по Екатерининской улице. Марков больше бы сказал: это полная противоположность! Там влюбленная в поэзию, боевая, дерзкая молодежь грызущие гранит науки при более чем скромном пайке студенты, рабфаковцы, курсанты, начинающие поэты, молодые, с острым глазом художники, воинственные журналисты. Все бодро отсчитывают ступени на самое верхотурье по плохо освещенной лестнице. И начинается то, чего никогда не забудет, не выкинет из сердца тот, кто хоть раз побывал на этих пиршествах вдохновения. Выходят один за другим поэты, прозаики, критики, литературоведы, читают свои произведения и получают в награду бурные овации. Затем начинается обсуждение. Высказываются смело, открыто, без реверансов, со всей прямотой и страстностью юности. Спорят до хрипоты. Поднимают очень важные, очень большие вопросы, явно волнующие всех: о форме и содержании, о верности революции, о формализме, о жанрах. Трудно представить, чтобы там мог, осмелился появиться не советски настроенный человек. Нюх у этой молодежи тонкий, непримиримость безоговорочная. Марков помнит случай, когда выступил на этом устном альманахе ушибленный различными "супрематизмами" дегенеративный юнец – вторично он никогда не появлялся, сразу же получив безжалостный разнос и кучу нелестных эпитетов от горячей, задорной аудитории. Да, это совсем не "Стойло Пегаса"! Ничего похожего. Марков наивно полагал, что в советской действительности немыслимы "стойла пегасов", это у Маркова никак не вязалось со всеми его представлениями о жизни.
Он вернулся из Москвы оглушенный, расстроенный и к тому же без копейки денег. Оксана так обрадовалась ему, так слушала его рассказы о Москве, так извинялась, что у нее нечем даже покормить его...
– Понимаешь, "Стойло Пегаса"... это... как бы тебе сказать...
Марков стал довольно туманно растолковывать, что это за Пегас.
– Ну, лошадь такая! Понятно?
Миша рассказывал, а Оксана прикидывала: что, если пойти на кухню и поискать чего-нибудь съестного? Да нет, она же знала, что ничего нет...
У них часто случались денежные затруднения, и всякий раз оказывался один выход: перехватить у Надежды Антоновны. Но Марков приехал из Москвы ночью, Крутояровы уже спали, да если бы и не спали, все равно магазины-то закрыты, не разгуляешься!
Миша продекламировал:
Братья-писатели! В вашей судьбе
Что-то лежит роковое!
И добавил:
– Что ж. Давай натощак ложиться спать. Утро вечера мудренее.
Оксана была в отчаянии. Одна-то она бы перетерпела. Но как это она не догадалась заранее перехватить денег у Крутояровых и держать на случай приезда Миши хотя бы какие-нибудь консервы?
Кончилось тем, что Оксана расплакалась, а Миша стал ее утешать. Он очень смеялся, когда Оксана сквозь слезы причитала:
– Ты такой труд принимаешь, легкое ли дело сочинять из головы... А я тебя го-олодом морю!
И она еще сильнее заливалась слезами.
6
Они очень любили друг друга. Миша Марков так хотел окружить заботами и нежностью Оксану! Ведь она, бедняжка, совсем-совсем одна на белом свете! Миша должен заменить ей и мать, и отца, и братьев. Хотя у него у самого было мало житейского опыта, все же он брал на себя роль старшего, рассказывал, что такое Петроград, объяснял, как ездят в трамваях, советовал не робеть. Оксана воспринимала все, что он ей говорил, восторженно и благоговейно: какой он умный, все-то он знает, обо всем может рассуждать!
Оксана, со своей стороны, готова была сделать все, чтобы ему было хорошо. Миша слабо сопротивлялся, но она с таким наслаждением стирала его рубашки, с таким торжеством сама отыскала рынок, сама покупала продукты, сама варила обед!
Так и образовалось само собой, что Оксана мыла полы, стирала, стряпала, бегала в булочную, а Миша ходил на рабфак, в литературную студию и, придя домой, с аппетитом поедал картошку с постным маслом и подробно рассказывал, что видел и слышал за день, какой умный у них "руковод" в студии, что такое ассонанс и что такое новелла.
Оксана не довольствовалась тем, что взяла на себя все заботы по дому. Она выпытывала, что Миша любит, чего не любит, старалась найти у него капризы и причуды.
– Миша терпеть не может холодный чай, – с гордостью докладывала она Надежде Антоновне. – Мише не нравится хлеб из ближней булочной, так я хожу в ту, за углом, бывшую Лора... Миша говорит, надо стирать стиральным порошком, а то белье пахнет мылом.
– Почему вы нигде не учитесь? – спросила Оксану Надежда Антоновна. У вас какое образование?
– Что вы! Когда же учиться? – удивилась Оксана. – Миша приходит когда в пять, когда в семь...
– А хотя бы и в десять! И вы приходите в десять. А потом: я вас ни разу не видела с книгой. Обязательно читайте! Вы приглядитесь: все сейчас читают – в трамваях, в парках – повсюду. А питаться можно и в столовой, ничего страшного.
– Что вы! Миша терпеть не может столовых!
Очевидно, Надежда Антоновна поговорила об этом и с мужем, потому что он однажды предложил:
– Не хотите ли устроить Оксану на работу? Есть место секретарши в Государственном издательстве.
Марков удивился:
– А вы думаете, что ей надо работать? Разве, когда я стану писателем, мы не проживем на мой гонорар?
Логично? Ведь можно прожить вдвоем на гонорар писателя? (Хотя неизвестно еще, получится ли из Маркова писатель...)
И вдруг, как гром среди ясного неба: письмо от Ольги Петровны. На первый взгляд она ничего особенного не писала. Рада, что у Миши и Оксаны бодрое настроение, рада, что они живут в таком замечательном городе, благодарит, что пишут и не забыли о ней и Григории Ивановиче. И так, вроде как между прочим, спрашивает, все ли письма доходят? Что-то ни в одном письме от них не сообщается, а где же учится Оксана и каковы ее успехи.
Ольга Петровна даже не допускает мысли, что Оксана нигде не учится и состоит при Мише в роли стряпухи и прачки! Ольга Петровна скорее готова предположить, что не дошли некоторые письма. В этом и заключалась вся сила удара. Ольга Петровна не писала "ай-ай, как нехорошо", а все только говорила о неполадках на почте: ну как это так – очень важные сообщения, и вдруг письмо где-то запропало! Ох уж эта почта!
Казалось, в письме никаких упреков, никаких наставлений... Миша несколько раз внимательно и придирчиво прочитал от строки до строки письмо... Уж не сообщили ли ей что-нибудь Крутояровы? Вот, мол, как исполняется ваш наказ, дорогая Ольга Петровна! Марков сделал из Оксаны домохозяйку! Вот, оказывается, каковы ваши хваленые котовцы!..
Миша словно прозрел. Ему представилось, с каким сожалением смотрит на него Григорий Иванович Котовский, как неодобрительно покачивает головой Ольга Петровна: "Не оправдал надежды, подвел, осрамил! По старинке семью строит, не по-советски!"
Живой пример перед Мишей: смотри и учись, какие замечательные отношения у Котовских. Да, Ольга Петровна ведет все хозяйство, умеет так засолить огурцы, что пальчики оближешь. Но Ольга Петровна – врач, у нее большая общественная нагрузка. Мало того – она успевает растить, воспитывать многих и многих, недаром же котовцы зовут ее мамашей.
А как поступил Миша? Вывез из разоренной расстрелянной деревни умную, способную, красивую девушку, можно сказать, спас ее, а для чего? Не для того ли, чтобы она теперь белье ему стирала?
Подумав об этом, Миша немедленно перевернул все вверх дном. Примчался домой, а Оксана как раз с увлечением, с превеликим усердием раскатывала тесто. Она была счастлива, она так любила своего Мишеньку! Она только и думала, чем бы его накормить вкусненьким, какой бы сюрприз приготовить к его приходу, и очень огорчалась, если он сюрприза не замечал, занятый своими мыслями и делами.
– Стряпаешь?! – влетел в кухню Марков. – Хороша, нечего сказать! Полюбуйтесь на нее!
– А что? Що зробылось?
– "Зробылось"! То зробылось, что тебе не пампушками меня угощать, а в морду мне дать!
Оксана не могла понять, что он говорит, почему сердится, чем она не угодила. Она стояла, опустив голову, и машинально сковыривала тесто, прилипшее к рукам. Лицо и волосы у нее были в муке, в другую минуту Миша бы досыта над ней посмеялся. Но сейчас Миша был серьезен.
– Чего же ты молчишь? – продолжал он. – Возмущайся! Я оказался последним подлецом, мне стыдно будет в глаза посмотреть Григорию Ивановичу!
– Что же ты наделал? – всполошилась Оксана. – Говори уж, сознавайся во всем!
– То наделал, что окончательный домострой у нас получился!
– Який домострой?
– А как же? Для того ли я привез тебя в этот город, чтобы буржуазно угнетать и эксплуатировать, как последний сукин сын – буржуй? Нечего сказать: котовец!
– Як же ты меня угнетаешь?
– Очень просто: угнетаю, и все! И еще – извольте полюбоваться гимнастику по утрам делаю, пока ты поджариваешь яичницу с колбасой... Упражнение номер первый – встаньте прямо, раздвиньте ноги на уровне плеч, начинаем! Содействует развитию грудной клетки, укрепляет брюшной пресс! А не угодно ли, господин муж, глубокоуважаемая персона Марков, сбегать на Сытный рынок за картошкой? Очень содействует развитию бицепсов и развивает инициативу! Не желательно ли вам подмести пол – это укрепляет брюшной пресс и вместе с тем успокаивает совесть! Какой дурак выдумал, что стирка белья – женское занятие? Это типично мужское занятие, стиркой занимался даже Мартин Иден, что не помешало ему стать писателем!
Оксана слушала, с ужасом смотрела на Мишу и только всплескивала руками:
– Ой, матенько! Дывись, як вин расходився! Що ж це таке?
– Подведем итоги! – ораторствовал Миша. – Отныне белье стираю я, а ты его утюжишь, пол подметаю я, а ты вытираешь пыль с предметов домашнего обихода, постель заправляю я, а ты пришиваешь пуговицы. На рынок ходим вместе, стряпаем по очереди.