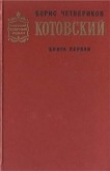Текст книги "Эстафета жизни"
Автор книги: Борис Четвериков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
– Заочникам куда сложнее! Вот даже и книги, ведь не все вы найдете в Умани. Напишите, пришлю из Москвы. А еще лучше – сделаю выборки самого главного.
Помолчал-помолчал и добавил:
– Удивительный вы человек. Такую нагрузку, как у вас, не всякий выдержит.
Котовский побарабанил пальцами по письменному столу, видимо придумывая, как перевести разговор на другое: он не любил, когда его хвалили.
– Сына хотите посмотреть?
– Ого! Не все удостаиваются такой чести!
– Вы знаете, растет не по дням, а по часам. Я что-то думаю, обязательно ли ему быть военным? Может быть, пойти ему по научной части? Ближайшие десятилетия у нас – это техника, и только техника...
– Да, – грустно согласился Гуков, – если только не помешают... Кстати, не рановато ли решать вопрос о профессии, о призвании, когда у человека, в сущности, еще молочные зубы? А? Представляете?
– У меня самого во многих отношениях еще "молочные зубы", – вздохнул Котовский. – Наверстывать упущенное, осваивать новое... Главное, ведь военное дело – такая штука, что никогда нельзя захлопнуть книгу и сказать: "Теперь все!" Как только захлопнешь книгу, перестанешь следить за новинками, так и окажешься в обозе!
– Даже относительно обоза нужно многое знать.
Так они тихо обменивались мыслями, стоя около кроватки, в которой безмятежно спало еще ничего не ведающее, ничем не озабоченное существо.
9
Когда приехал Белоусов, Григорий Иванович и Ольга Петровна очень ему обрадовались.
– Не забываете нас, – приговаривала Ольга Петровна, наливая ему чаю.
– Ну что вы, Ольга Петровна! Вы для меня все – и родители, и воспитатели, и самые дорогие на свете люди!
Выглядел Белоусов превосходно. Правда, на лбу появилась глубокая морщина, скулы выдались, но в целом он производил впечатление здоровяка. Шла ему кожаная куртка, хотя Котовский и пошутил:
– Вы, Иван Терентьевич, как из романа Пильняка, ведь он коммунистов изображает каменными, саженного роста и обязательно в кожаной куртке, откуда столько кожи-то берут!
– И непременно еще метелица, – подхватил Белоусов. – Революция у него – метелица, дескать, подует-подует да и утихнет.
И добавил, усмехнувшись:
– Публика!
А потом уже другим тоном пояснил, что для его работы кожаная куртка незаменима.
– Ездить много приходится, – вздохнул он, – вся жизнь на вагонных лавках, и никогда не знаешь, в какую погоду попадешь. Выедешь зимой, вернешься летом.
– Либо дождик, либо снег! – засмеялась Ольга Петровна.
Любила она этих взращенных Котовским крепышей, без хитростей, без претензий, верных, надежных и очень человечных. Но среди всех любимцами у нее были Марков и Оксана да вот Ваня Белоусов, который, видите ли, стал уже Иваном Терентьевичем, не как-нибудь.
Белоусов поддержал шутку:
– Вот именно! Правильно вы сказали: либо дождик, либо снег, а то в одну поездку застанет и снег и дождик.
– Как ты думаешь, Леля, не прочитать ли Ивану Терентьевичу статью о маневрах? – с невинным видом спросил Котовский.
Ольга Петровна покорно извлекла с полки статью и прочитала ее насколько могла с выражением.
– Здорово! – сказал Белоусов и рассмеялся.
– Вы чего смеетесь? Плохо читала?
– Нет, не хуже, чем в прошлый мой приезд.
– Значит, вы уже знакомы с этой статьей? Чего же молчали?
– Приятно и второй раз послушать, результаты учебы, как видно, прекрасные, корпус – хорошая боевая единица. Только разве так надо писать о Котовском? Погодите, о Котовском легенды будут слагать, поэмы писать, художники станут изображать Котовского – на коне, во всем великолепии, а дети на вопрос, кем ты хочешь стать, будут отвечать: "Хочу быть Котовским".
– Ну ладно, ладно, Иван Терентьевич! Лишнячку хватили! Пейте лучше чай.
– Ничего не лишнячку! Я ведь так понимаю это: "хочу быть Котовским" означает – хочу быть таким ленинцем, как Котовский, хочу быть храбрым, хочу побеждать врагов.
– Так и говорите. Вся молодежь в нашей стране хочет походить на своих отцов и продолжать их дело. У вас, наверное, и чай остыл, Иван Терентьевич. Леля, налей ему свеженького.
Разговор переключился на международные темы и увлек постепенно всех собравшихся.
– Соединенные Штаты, – принял участие в разговоре и Белоусов, – с удовольствием скушали бы нас даже без соли, да, видно, кусок не по зубам. Изоляция Советского Союза тоже у них не получается. С Германией-то торговый договор заключили? Форд уж на что мракобес, а тракторы нам все же продает? Значит, у них рынок узковат, поджимает!
– Такая у них установка, – добавил и Гуков, который без газеты не мог дня прожить, следил за международным положением и любил говорить на эти темы.
– Какая? – спросила Ольга Петровна, видя, как Гукову не терпится высказать свое суждение.
– Известно, какая: каждый за себя и к черту остальных.
– Позвольте, так этого же придерживаются и французы! – воскликнул оживившийся Белоусов: – У них тоже чужие интересы – это quantite negligeable. – И обернулся к Гукову: – Так, кажется? Или я что-нибуть переврал? Я с французским-то не очень.
"Ого! – отметил мысленно Котовский. – Парень-то, кажется, стал изучать языки! Молодец!"
Народу за столом было, по обыкновению, немало. Все собравшиеся – в основном командиры и политработники – достаточно знали об Америке, о злобном шипении реакционеров в капиталистических странах, о плане Дауэса, о подготовке вооруженного нападения на Советский Союз.
– Нынешний президент Кулидж со всей откровенностью заявил: дело нации – бизнес.
– А золотишка-то Соединенные Штаты изрядно нагребли, чуть не половину мировых запасов!
– Разжирели на войне!
Вероятно, еще долго бы толковали на эту тему, если бы кто-то не взглянул на часы.
– Товарищи! Пора и честь знать!
– Мне завтра в шесть утра вставать!
– Ольга Петровна! Что же вы нас не гоните?
– Разрешите, я покажу пример... Спокойной ночи! Спасибо за проведенный вечер!
– И за восхитительную бабку! (Это, конечно, Гуков!)
Вскоре комната опустела. Остался только Белоусов, который приглашен был переночевать. Он отодвинул от себя недопитый чай. И когда Ольга Петровна и Григорий Иванович взглянули на него, сразу поняли, что приехал он, как всегда, неспроста и хочет сообщить что-то важное. Лицо его стало строгим, глаза колючими. Теперь это был не приятный собеседник за приятным ужином, а вдумчивый, готовый ко всяким неожиданностям, бесстрашный и суровый чекист.
Котовский снова остался им доволен. Прийти с каким-то важным сообщением и виду не подать – все это понравилось Котовскому.
"Вот это выдержка! – промелькнуло у него в голове. – Видать, хорошую школу прошел у Дзержинского. Приятно, когда звание человека соответствует его призванию!"
Белоусову не понадобилось проверять, нет ли поблизости посторонних ушей: он приехал не один, и было кому позаботиться, чтобы разговора никто не слышал. Поэтому Белоусов без предисловия приступил к самой сути:
– Григорий Иванович! Я приехал с довольно неприятным делом. Однако нами своевременно приняты меры.
– Понятно! – произнес Котовский. – Какое же это дело?
– Ольга Петровна, я попрошу и вас послушать, дело серьезное и касается нас троих.
Ольга Петровна заметила, что правая рука Котовского то сжимается в кулак, то разжимается. Это было дурным признаком. Ольга Петровна подчеркнуто спокойным голосом ответила:
– Ну что ж, послушаем, что у вас за новости.
Белоусов сжато, точно сообщил, что органами ГПУ дважды задержаны диверсионные террористические группы, заброшенные из-за рубежа с заданием убить Котовского.
Сообщение было выслушано молча. Ни реплик, ни восклицаний. Только рука Котовского машинально еще энергичнее заработала, как бы хватаясь за эфес, а Ольга Петровна сидела бледная, с плотно сжатыми губами.
– Эта наемная рвань, – продолжал Белоусов, – долго не запиралась и все нам выложила: кто посылал, и какие указания давал, и сколько обещано за работу, и какие явки и пароли были сообщены. Мы проверили, действительно все так, как они говорят, и нам удалось, использовав их пароли и адреса, выловить и их сообщников.
– Понятно! – снова промолвил Котовский. – Жаль, что они не добрались до Умани. Я бы с ними поговорил по душам.
– Хорошо вести прямой разговор в бою, лицом к лицу с противником, возразил Белоусов, – а эти подонки рода человеческого стреляют из-за угла.
– Не отлита еще та пуля, которая сразит Котовского, – ответил Григорий Иванович, все более наполняясь гневом. – Сунулись бы в дом – я бы их перестрелял, как рябчиков.
– Только этого не хватает! – всполошилась Ольга Петровна. – Ты забыл про Гришутку, ведь можно насмерть перепугать ребенка! Поднять стрельбу!
– Ничего, ему надо привыкать, на его век еще хватит выстрелов.
– Да ведь это теперь отпадает, – примирительно остановил их спор Белоусов. – Бандиты пойманы и получат по заслугам. Но я приехал, во-первых, рассказать о том, что было, во-вторых, для принятия, так сказать, профилактических мер.
– Вы думаете, что это еще не все? – насторожилась Ольга Петровна.
– Разве можно ручаться за эту... за этих паразитов? У них же ассигнования! На подлость, на убийства – на все ассигнования. Раз уж деньги ассигнованы, их нужно тратить. Ведь так? Ну а наша задача смотреть в оба.
– Смотреть! Ведь Григория Ивановича не удержишь, он повсюду разъезжает, повсюду бывает...
– Задержанные в одни голос заявляют: нам дали адрес. Они даже знают, что это каменный дом и при доме сад. Довольно точное описание. Ну и револьверы, деньги у них, конечно... даже фотокарточка Григория Ивановича...
– Ужасно! – вырвалось у Ольги Петровны.
– Они там, за рубежом, не учитывают, что теперь не восемнадцатый год, границы мы охраняем, не разгуляешься. А все-таки надо предусмотрительными быть. Вдруг проскочат? Вот мы и решили около вашего дома специальный пост установить.
И, заметив протестующий жест Котовского, поспешно добавил:
– Временно, Григорий Иванович. Для проверки...
Белоусов замялся было, затем пояснил:
– Один из них проговорился, что сформирована еще одна группа. Может быть, врет, скорее всего, что врет, никто ему не стал бы докладывать, что там сформировано. Его дело маленькое: нанялся – выполняй. Но так как намек все-таки был, мы обязаны подготовиться. Ну и пограничникам даны указания, и еще некоторые меры приняты.
– На меня и в Жмеринке нацеливались, как вы, вероятно, помните... И с самолетов сбрасывали угрожающие записки, – рассмеялся Котовский. – А зачем? Я ведь не прятался, я был на виду – милости просим, пожалуйте в бой, там всегда представится случай повстречаться. Все, Иван Терентьевич. Спасибо за предупреждение. Отрадно, что чекисты у нас службу знают. А теперь давайте-ка спать.
– Григорий Иванович! – настойчиво заговорил Белоусов. – У меня есть приказ, я должен его выполнять. Вы разрешите установить наблюдательный пункт. Временно, может быть, недельки на три... Мы наведем справки... уточним – и если окажется, что все в порядке, то и слава богу.
– Что с вами делать! Устанавливайте, я не могу вмешиваться в ваши дела. Но мнение-то я могу иметь? Считаю, что напрасная трата трудов и времени.
– Спасибо, Григорий Иванович, – облегченно вздохнул Белоусов. Значит, с этим утрясено, улажено. А я и ребяток с собой привез. Фактически пост уже установлен. В саду. Никто и знать ничего не будет.
Перед сном Белоусов и Котовский вышли на крыльцо, хотелось полной грудью вдохнуть напоенный запахами цветов и трав благодатный уманский воздух. Составил им компанию и Фокс – самый серьезный пес, какие только водились на свете.
Ночь была великолепна. Сверкало в небе такое количество ярких, как бы мигающих звезд, как будто прибыло новое пополнение. Деревья стояли темные, недвижные, не шелохнулся ни один листок. Задумались они о чем или спали?
– Когда только люди научатся пользоваться такой благодатью! Ведь красота-то какая! – тихо, будто боясь разбудить уснувшие деревья, произнес Белоусов.
– А все-таки они там, значит, обо мне помнят, – удовлетворенно пробасил Котовский. – Специально засылают, так сказать, именные банды диверсантов. Лестно.
10
И жизнь пошла своим чередом. Сады цвели, люди трудились, отдыхали, строили планы, мечтали, любили, радовались, печалились, растили детей, сооружали дома, прокладывали дороги, жили.
Как всегда, Котовский просыпался в пять утра. Делал гимнастику, обливался водой. Затем отправлялся на городской стадион, построенный по его настоянию и при его живейшем участии. По дороге не пропускал ни одного дома, где жил или штабной работник или служащий уманских учреждений.
Котовский стучал в окна и торонил:
– Засони! Все на свете проспите! Давайте, давайте, жду на стадионе, пора делать гимнастику! Смотрите, какая погодка! А вы и окна позакрывали, как только терпите такую духотищу!
– Встаем, Григорий Иванович, – отзывались заспанные голоса. – Ох уж этот Григорий Иванович! Как петух на заре поет! Идем, идем, Григорий Иванович! Одна нога здесь, другая там!
Так начинался день в Умани. А потом шло одно за другим – и все казалось срочным и неотложным. Котовский следил за ходом обучения призывников, наведывался и на курсы штабной службы, где подготавливались штабные работники. Не оставалась без внимания и корпусная школа младшего комсостава. Котовский шефствовал над школой сельской молодежи под Уманью. Настойчиво советовал им изучать агрономическую науку и цитировал высказывания Ленина относительно перестройки сельского хозяйства на социалистической основе...
Словом, дел хватало, и все дни были заполнены до отказа. И никогда не видели Котовского усталым, невнимательным, бездеятельным. Он все делал со страстным увлечением и своей стремительностью увлекал других.
Ольга Петровна всегда умела улучить момент, чтобы зазвать к себе домой и покормить дежуривших посменно круглые сутки военных, одетых в штатское. Белоусов же поселился в общежитии красных командиров, питался в столовой повторных курсов и старался как можно реже появляться у Котовских.
Через некоторое время он пришел сияющий и довольный. Им получено приказание пост снять, оставить только наблюдение за приезжающими в Умань лицами, поручив это местным работникам.
Как будто инцидент можно было считать исчерпанным. Но тревога осталась. Особенно беспокоилась Ольга Петровна. И главное, она чувствовала свое полное бессилие. Что она может сделать? Что предпринять?
А Григорий Иванович вскоре перестал и думать о сообщенном Белоусовым. Допустим, что банды засылались. Ну и что ж такого? Их выловили. Да и сам Котовский достаточно владеет оружием. А если говорить про опасность, так она сопровождала Котовского неизменно. Вся его жизнь – опасность. Нельзя же поминутно оглядываться.
– Если так рассуждать, – говорил Котовский, – то вообще нет человека на свете, которого не подстерегает опасность. Как ты считаешь, Леля? Тебе это особенно видно, ты врач. Идет человек, споткнулся, вывихнул ногу.
– Положим, это еще не смертельно.
– Да, но с вывихнутой ногой он или попадет под машину или не успеет эвакуироваться... За каждым углом нас подстерегает какая-нибудь зараза, бацилла какая-нибудь, на первый взгляд – тьфу, мелочь, не стоит обращать и внимания, а конец будет неизвестно еще какой.
– Для того-то и существует профилактика, – наставительно пояснила Ольга Петровна.
– Ваш брат – медицина – на все случаи придумает словечки. Профилактика, диагностика... Я ведь только хочу сказать, что на каждый чих не наздравствуешься. А думать об этом да ждать – это все равно что на фронте каждой пуле кланяться: обязательно и убьет.
Поговорили, и ладно. Жизнь шла своим чередом. Сады цвели, люди трудились.
Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я Г Л А В А
1
Немало времени прошло с тех пор, как Марков увидел бывшего своего друга Женьку Стрижова в ресторане "Кахетия", увидел – проникся к нему жалостью и решил непременно побывать у него и попробовать наладить отношения.
"Надо отремонтировать нашу дружбу! – неоднократно говорил себе Марков. – Может быть, даже наложить заплаты, но так вот отмахиваться, вычеркивать человека нельзя".
Однако всякий раз, как намечал он это несложное мероприятие, обязательно что-нибудь мешало. А ведь так просто – пойти на Фонтанку, войти в знакомый-презнакомый двор, где столько раз бывал, где знает и помнит все-все: и ржавые брусья, сваленные в углу рядом с кучей битого кирпича, и поленницы дров – много и каждая на особицу, потому что каждая принадлежность такого-то жильца такой-то квартиры... Марков даже знал, что, если пройти этим двором, окажется поворот, затем как бы вторые ворота уже другого дома, затем площадка, где выбивают ковры, сушат матрацы и стеганые одеяла, затем опять длинный узкий двор, по которому выйдешь совсем неожиданно к Александрийскому театру. Марков помнил все изгибы и повороты этого проходного двора, так же отлично помнил темную лестницу, пахнущую котами, дверь, обитую клеенкой...
Настал 1924 год. И тут отодвинула все другие дела и помыслы смерть Владимира Ильича Ленина. Неожиданная встреча на Московском вокзале с Крутояровым, траурный день, проведенный ими в Москве... а затем томительный вечер в столовой у Крутояровых... Грустили, говорили о Ленине... Все это сроднило Маркова с Иваном Сергеевичем... и опять заслонило воспоминания о Евгении Стрижове, о тех днях, когда они, бывало, не разлучались.
Напомнила о Стрижове, и весьма решительно, Надежда Антоновна:
– Что это у вас не видно того симпатичного паренька, он у вас часто бывал. Уехал куда-нибудь? В командировке?
Спросила и так посмотрела на Маркова, будто насквозь пронзила. Казалось бы, вопрос самый невинный, но почему же Марков вдруг покраснел?
– Видите ли... – хотел он объяснить, но ничего не придумал веского, убедительного: он ведь и сам не разобрался, что произошло. Ах да! Нэп! Но как объяснить это Надежде Антоновне, ведь она, как хороший музыкант, малейшую фальшь в интонации почувствует.
Марков, смутившись и покраснев, возмутился своим криводушием:
"Что я, трус? И разве я не прав, что порвал со Стрижовым?"
– Видите ли, Надежда Антоновна...
– Да?
– Он водку стал пить... а я не выношу пьяных...
– Водку стал пить? С чего бы это?
– Тут сложная история... Если в двух словах – он в революции разочаровался.
– Что-о? В революции?! Ничего не понимаю. Да ведь он, Оксана рассказывала, участник гражданской войны? Участвовал в разгроме Колчака? Воевал в рядах чапаевцев? Почему же разочарование в революции?
– Нэп, нэп его возмутил... Не нэп, а нэповщина. Он, знаете, впечатлительный, ему показалось...
– Да вы приведите его сюда! Потолкуем, Ивана Сергеевича пустим в ход – тяжелую артиллерию... Когда вы его видели в последний раз, этого чапаевца?
Марков всегда считал себя честным, правдивым. Но тут он покривил душой:
– Да в тот самый день, когда мы праздновали выход моей книги.
Это была явная ложь. Он понимал: Надежда Антоновна спрашивала не о том, а о его разладе со Стрижовым.
На следующий день Михаил Марков шагал по набережной Фонтанки, любуясь на кроны тополей, хорошеньких, подстриженных ершом, похожих на кокетливых краснофлотцев, собирающихся на танцевальный вечер. Из кармана Маркова торчала книга, его собственная, с заранее заготовленной надписью наискось на титульном листе: "Дорогому Евгению Стрижову от автора. Дружба не ржавеет".
Марков шагал по набережной Фонтанки и размышлял о разных разностях: о том, что надпись на книге звучит иронически, так как дружба у них изрядно проржавела... о том, что неизвестно, как его встретит Стрижов, не покажет ли ему на дверь.
"Как должен я поступить в этом случае? Повернуться и уйти? Пробовать урезонить?"
Марков решил, что если Стрижов выгонит его, то он не пойдет на ссору и скажет по возможности мягко: "Евгений! Я ухожу, но считаю тебя по-прежнему другом". Нет, глупо! Лучше так: "Евгений! Не забывай, что мы, кроме всего, сверстники и участники незабываемых боев гражданской войны..." Тоже неудачно и невероятно длинно, надуманно, книжно! Самое разумное крикнуть: "Женька! Не дури! Все равно ведь придешь извиняться..."
Так, ни на чем не остановившись, Марков подошел к клеенчатой двери и позвонил.
2
– Кого я вижу! Мишенька! Сколько лет, сколько зим! До чего же я рада вам!
Анна Кондратьевна захлопотала, заохала, уж она и разглядывала Маркова со всех сторон, и похлопывала его, и восхищалась его костюмом, прической, уверяла, что он возмужал, похорошел, и все это со всей искренностью, со всем радушием.
"Какой я был идиот, что столько времени сюда не шел! И что за дрянная привычка считаться только с мужчиной, "главой дома", и уж если ты порвал с "главой", то само собой разумеется, что ты порвал со всеми его чадами и домочадцами. А разве у меня нет самых сердечных отношений с чудесной Анной Кондратьевной? Но мне и в голову не пришло навестить ее, хотя бы послать открытку и поздравить, допустим, с Новым годом. Скотина я, вот кто!"
Марков уселся в очень знакомое, в каком не раз сиживал, старомодное кресло, вероятно, еще из приданого Анны Кондратьевны, и заговорил о своих делах.
Опять взрыв восторгов, одобрения, похвал. Но странно, она ни слова не сказала о Евгении.
– А что, – осторожно спросил наконец Марков, – Евгений еще в институте? Все человеческие недуги изучает?
– На заводе он! Какие там недуги, он давно уже медицинский-то бросил. А вы что, разве не знали?
– Видите ли... мы с ним давненько не встречались...
– А-а! Тогда вы ничего не знаете. А у нас много всякого было.
Анна Кондратьевна придвинулась ближе и громким шепотом стала рассказывать:
– Совсем ведь было свихнулся парень, пить начал, сколько я слез пролила. Никогда у нас в роду такого не водилось. Пить, пить стал, самым настоящим образом! Придет пьяненький и начнет каяться да всякую ересь молоть...
– Вы знаете, Анна Кондратьевна, из-за этого у нас и дружба пошла врозь, откровенно говоря. Неприятно как-то...
– Вполне понимаю вас! Кому удовольствие с пьянчугой да забулдыгой якшаться? А я – мать...
– И во взглядах у нас несогласие. Он говорит, у него разочарование в революции получилось, что революция на попятный пошла, перед буржуазией капитулировала. Анна Кондратьевна, каково мне было слушать? Я хоть и недоучка, может, в чем и не разбираюсь, но я вырос на том... Понимаете, Анна Кондратьевна? Для меня Родина – революция, а революция – Родина. В общем, трудно это объяснить...
– И объяснять не надо, я и так понимаю. Что-то святое должно быть у человека. Устойчивость.
– Совершенно верно. И вот – так все и случилось. Спорить мы не спорили, да я и не умею. А стало нам не о чем говорить... все реже стали видеться... так и оборвалось...
– Вот оно что! А мой-то ведь молчал. Ничего про то не рассказывал... Вон какая история!
– Да... Так и шло...
Маркову удивительно легко было рассказывать и во всем признаваться этой милой женщине с грустными глазами. Даже легче, чем Евгению. И Марков испытывал удовольствие от того, что говорил со всей прямотой, не щадя ни Евгения, ни своего самолюбия. Некоторые обстоятельства ему самому стали ясны только теперь, когда он объяснял другому.
– Меня упрекали, – продолжал он свою исповедь, – говорили, что нельзя отдергивать руку, если человек падает в пропасть. Справедливый упрек. Малодушие? Малодушие! Но видите ли, Анна Кондратьевна, здесь есть еще одно обстоятельство, которое мне трудно вам объяснить...
Марков имел в виду свой творческий замысел. В самом деле, этого не объяснить, не рассказать. Для самого-то Маркова было тут много неясностей. Он часто размышлял об этом. Считал первой своей ошибкой, что надумал конкретного человека, живущего рядом, подвергающегося всяким случайностям, мало того, далеко еще не сложившегося, – вдруг сделать героем книги. Какая наивность! Какая неопытность! Стрижов может, например, простудиться, заболеть и умереть. Может попасть под трамвай. Может утонуть, купаясь в реке. Между тем герой художественного произведения хотя и совсем настоящий, совсем такой, как в жизни, но вместе с тем совсем не такой! Писатель – вовсе не фотограф, и писательский труд куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это Марков почувствовал, приступив к писательской работе!
И еще было одно соображение: Марков страшно обиделся, что его герой ведет себя не так, как должен вести по замыслу автора. Марков хотел изобразить Евгения Стрижова совсем-совсем обыкновенным. Мальчик. Читает книжки, взятые из библиотеки. Катается на коньках. Огорчает маму, нахватав троек по геометрии... И вдруг этот почти еще мальчик – становится мужчиной, едет на фронт, никаких особенных подвигов не совершает, но не хуже других сражается, не менее других храбр, воодушевлен. Происходит сражение, о котором впоследствии будут писать, которое войдет в историю. Герой Маркова опять ничем особенным не выделяется. Такой, как все. Маркову именно хотелось провести эту мысль: не хуже и не лучше, но всем им безыменным, обыкновенным – вечная слава и благодарность народа, потому что все они – безыменные, обыкновенные – удивительные герои, вставшие на защиту правды на земле. Презренны те, кто попрятался в норы, кто отсиживался, уверяя, что не в его характере рисковать собой. Таков был первоначальный план Маркова. И весь этот план перечеркнул сам герой произведения, сам Женька Стрижов, споткнувшись, оказавшись неустойчивым, принявшись бить себя в грудь кулаком и кричать: "За что боролись!"
Время шло. Разочарованный романист порвал со своим героем. А мысль работала. Ее не остановить. Вдруг, неожиданно для самого себя, Марков подумал:
"А почему бы мне не взять Стрижова от сих до сих, а дальше сделать своего Стрижова, какой мне кажется наиболее типичным для нашего времени? Могу же я делать такого Стрижова, какого мне надо, а не списывать в точности, буква в букву, с житейского подстрочника?! С другой стороны, почему бы моему герою и не ошибиться? Чего я, собственно говоря, так переполошился? Почему у него не может быть какого-то изъяна? Разве все сразу разобрались что к чему? Может быть, именно это и поможет создать убедительный образ? Может быть, именно это и будет типично?"
Одним словом, Марков много раз обмозговывал все то, что являлось предметом споров в литературной среде того времени. Там тоже говорили о положительном герое. Некоторые настаивали, что надо обязательно показать какую-нибудь червоточинку, потому что не существует идеальных людей, следует избегать лакировки, нельзя писать двумя красками – черной и красной, и так далее в этом же роде. Другие им возражали.
Итак, Марков готов был принять облюбованного им героя со всеми его недостатками и приговаривал:
– Полюбите нас черненькими. Беленькими-то всякий полюбит.
Но тут же сам себе возражал:
– Не люблю черненьких! И не буду любить. С какой стати?
Дальше шли его размышления:
"Вот взялся бы я, например, написать роман, где главное действующее лицо – Котовский. Неужели понадобилось бы выискивать, нет ли чего-нибудь в этой светлой личности плохого, хотя бы маленьких отрицательных черточек? Некоторые упрекали его в партизанщине, другие отмечали его вспыльчивость. Но я-то сам прошел все военные дороги под водительством Котовского, сам наблюдал повседневно этого удивительного человека – и не могу сказать о нем ничего плохого. Дай бог каждому походить на него! Водятся на свете этакие соглядатаи, мелкие душонки, которым нет большего удовольствия, как сказать пакость про хорошего человека. "Иван Иванович, говорите, премилый? Да от него жена сбежала. Петр Петрович талантлив? А как он пьет! Мопассан? А чем он был болен? Достоевский? Читал я, как он в рулетку проигрывал женины браслеты!"
...Анна Кондратьевна смотрела на Маркова благожелательно, слушала, говорила со всей искренностью. Марков тоже хотел быть вполне искренним, но оказался в затруднении: он не сумел бы пояснить ей всех своих сомнений, может быть, несколько смешных поползновений не попросту дружить с Евгением, а рассматривать его как некий экспонат и сердиться, что Евгений не совпадает с эталоном. Да и вряд ли она поняла бы его путаные рассуждения. И он просто сказал:
– Можно сердиться, можно спорить, но дружбой кидаться нельзя. Я кругом виноват. Разыгрываю чистоплюя! Не нравится что – скажи. Пьет? Ругай его. Ты не поп, чтобы отпускать грехи, но и не прокурор, чтобы клеймить преступника. Вы видите, я и сам-то себя не понимаю. Но Женька мне друг, и я, несмотря ни на что, пришел. Вот. Книгу принес. С автографом. Мою.
– Спасибочко. Сами написали? Подумать только! Мне бы сроду не написать. Заявление писала недавно в жакт, что дрова у нас крадут, и то намучилась.
– Да. Так вы говорите, медицинский бросил? Ушел на завод? Плохо.
– Уж не знаю, плохо или хорошо. Мне-то хотелось, чтобы он по стопам отца шел. А детки не всегда по стопам-то ходят.
– Что ж это он? Без специальности? Чернорабочим?
– Что вы, голубчик мой! – замахала Анна Кондратьевна на Маркова руками. – В технику ударился, днем работает, вечером учится. Да он сам все расскажет, вот-вот обедать прибежит.
– Как же его держат на заводе, если вы сами говорите, что он пьет?
– Я говорю? Очкнитесь, батюшка! Женя в рот не берет проклятущей этой водки. И в доме не держим.
– Вот те на! Да вы только что сами же сказали...
– Сказала. Пил. Вы что же, совсем ничегошеньки не знаете? Называется, дружок! Пил, безобразничал, с отпетой шпаной водился. "Все равно, мама, жизнь пропала!" А я ему все нашатырного спирту нюхать давала, не нравилось, отворачивался, а я ему: "Нюхай, несчастный!" И все это шло до самого дня, когда нас горе постигло.
– Горе? – дрогнувшим голосом спросил Марков.
– Горе. Владимир Ильич скончался. Великое горе. А надо сказать, Евгений-то сильно Ленина уважал. Как громом нас ударило. Опасалась – руки на себя наложит. "Мама, кричит, презирайте меня, предатель я, последний я человек". Думала я, ну, теперь окончательно покатится сынок под горку, не остановишь. А вышло наоборот. Весь день где-то шатался, я, конечно, по своей дурости полагала – по кабакам. Пришел серьезный такой, молчаливый. "Мама, я в партию записался. Многие сейчас в партию вступают, Ленинский призыв". – "Ну что ж, говорю, сыночек, поступай, как совесть подсказывает, только привычки-то у тебя больно беспартийные". – "С этим, мама, покончено. Дурь, говорит, на меня напала, а теперь все выветрилось". Пришли его "жоржики" приглашать на танцульку, а он их за дверь выпроводил: "Я, говорит, больше вам не компания"... Вот как у нас!
Марков сидел в оцепенении. Всего он ожидал: и жалоб, и слез, и проклятий по адресу непутевого сына, но только не того, что рассказала Анна Кондратьевна. Она замолкла, смотрела на него торжествующе и была несколько обижена, что он не выразил радости по поводу внезапного превращения Жени.
Наконец Марков пришел в себя. Буря мыслей, чувств пронеслась у него в голове. Он бросился к Анне Кондратьевне, обнял ее, расцеловал и только бормотал: