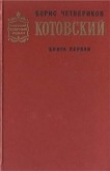Текст книги "Эстафета жизни"
Автор книги: Борис Четвериков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Почему-то Стрижову долгое время казалось, что стоит написать поэму, страшную в своей простоте (как то фронтовое письмо, присланное начальником госпиталя, извещавшее о гибели доктора Стрижова при обстреле госпиталя), стоит рассказать, как Евгений вернулся домой в зимний нарядный день и увидел заплаканное лицо матери, – и встанет перед взором читателя во весь рост страшная и величественная эпоха – эпоха борьбы, неисчислимых жертв, эпоха обвалов, катастроф и побед, добытых ценою крови.
4
В декабре 1918 года пришло извещение о смерти отца, а в апреле 1919-го Стрижов записался добровольцем.
Это было время, когда Советское правительство объявило Республику военным лагерем, когда был создан Совет Рабочей и Крестьянской Обороны. По Москве маршировали курсанты. Ленин благодарил ижевцев за то, что они стали изготовлять тысячу винтовок в сутки, приветствовал тульских металлистов, решивших вдесятеро увеличить выпуск оружия. В Сормове строили тяжелый бронепоезд особого назначения. Ленин приказал ввести ночные работы для срочного ремонта военных судов на питерских верфях. Луганский патронный завод расширял изготовление патронов. Изо всех городов ехали на фронт коммунистические полки, комсомольские отряды.
Именно в эти дни Евгений Стрижов вместе с тысячами питерских рабочих, студентов, молодежи слушал, затаив дыхание, замечательное по силе, по твердой вере в пролетарскую сознательность письмо Ленина к петроградским рабочим.
Молодежь! Порывистая, отзывчивая! Не ты ли всегда впереди, не ты ли первая бросаешься туда, где всего настоятельнее требуется отвага, дерзание, где нужно приложить энергию, может быть, пожертвовать жизнью?
Ленин с тревогой сообщал в письме, что положение на Восточном фронте резко ухудшилось, взят Колчаком Воткинский завод, под угрозой Бугульма.
"Мы просим питерских рабочих п о с т а в и т ь н а н о г и в с е, м о б и л и з о в а т ь в с е с и л ы на помощь Восточному фронту".
Могла ли молодежь не отозваться на этот призыв?! Ораторы рассказывали: в приволжском городе Покровске профессиональные союзы сами призвали в армию пятьдесят процентов всех своих членов; объявлена в стране мобилизация возрастов от двадцати до двадцати девяти лет; решено всех мужчин-служащих заменить женщинами; отправленным в Поволжье красноармейцам разрешается посылать продуктовые посылки семьям.
"Вот и я пришлю маме!" – восторженно решил Стрижов.
Еще он узнал, что дано распоряжение временно закрыть или же резко сократить штаты таких учреждений, без которых можно в крайнем случае обойтись, а служащих отправить на фронт или на тыловые работы. Украина шлет на Восточный фронт сто грузовиков. Формируются новые артиллерийские батареи. Решение создать миллионную армию перекрыто. Укрепляется Волжская флотилия.
"Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной", – телеграфирует Ленин Реввоенсовету Восточного фронта.
Евгений Стрижов записался в отряд одним из первых. Заставила болезненно сморщиться мысль: "А как мама?" – но тут же пришла уверенность: "Поймет!"
Как все стремительно произошло! Весь мир стал выглядеть иначе. Резкой гранью отгородилось сегодня от вчера. Вчера был просто юноша Евгений Стрижов. Вчера он мог прогуливаться хотя бы вот там, вдоль канавки у Летнего сада. Вчера он был совсем другой, совсем другой! А сегодня...
Из окна Павловских казарм видно огромное пространство Марсова поля. Вдали Летний сад. Казалось бы, он совсем близко, но нет, он недосягаемо далеко, а прогулки возле него кажутся немыслимыми, нелепыми. Слева можно увидеть краешек Мраморного дворца и уходящий на Петроградскую сторону Троицкий мост. Вероятно, там уже липы набрали почки... Если высунуться из окна и посмотреть направо, можно увидеть шпиль Инженерного замка и угадать очертания Лебяжьей канавки...
Короче говоря, – казарменное положение. Голые стены Павловских казарм, усиленные занятия, маршировка, разборка и чистка винтовки. Ездили в Стрельну, стреляли в мишень. Солдатская жизнь! А мама действительно поняла и только сказала:
– Сыночек мой!
Ожидали каждый день и все же неожиданно прозвучало: завтра отправка. И завтра настало. Построились. Старались держаться молодцами. Лихо прошагали мимо чугунной решетки с черными царскими орлами, около Летнего сада, перешли Фонтанку по одному из пятисот петроградских мостов. Слева школа Штиглица поблескивает стеклянной крышей. Церковь святого Пантелеймона хмурится и смотрит подслеповатыми окнами на шагающую молодежь.
Ясный погожий денек. На Литейном – толпа любопытных. Тверже шаг! На улице уже зима, питерская – без снега.
Духовой оркестр сразу рванул и начал отчетливо, маршевым темпом выговаривать военный марш. Удивительное действие оказывает музыка! Под военные марши ноги сами идут туда, куда послала родина: на неприступные кручи Шипки, на ощетиненные стены крепости Измаил, на равнину Полтавщины, чтобы разбить наголову заносчивого короля Карла Двенадцатого, на Бородинское поле, чтобы сбить спесь с Наполеона.
Молодцеватые музыканты со всем усердием дули в медные трубы, барабанщик, отбивая такт, победоносно поглядывал по сторонам. Тромбоны рявкали, оглушая прохожих, корнеты задорно выговаривали мелодию. Раз-два! Раз-два! – призывала к четкому шагу музыка. Тут нельзя было сбиться. Левой-правой шагали за оркестрантами лихие добровольцы, отправлявшиеся на Восточный фронт.
Они прошли стройными рядами по Литейному проспекту – проспекту букинистов, книготорговцев, проспекту, помнившему о былых своих обитателях – Некрасове и Салтыкове-Щедрине. По обеим сторонам шествующей на фронт колонны с узелками, сверточками, озабоченные и гордые, спешили, старались не отстать родственники. А безусые курносые защитники революции шагали с серьезным видом: винтовка на ремне через плечо, походные вещевые мешки за спиной – левой, левой, левой!
И Евгению Стрижову не казался тяжелым вещевой мешок, и он вместе со всеми браво отбивал шаг – левой, левой, левой!
Вот и Невский проспект – пятиэтажные дома, зеркальные стекла витрин, вывески, рассказывающие о прошлом. На перекрестке Невского и Литейного, который по ту сторону уже становится Владимирским проспектом, высится домина, напоминающий сразу о трех богатеях: Палкине, с его рестораном, Соловьеве, с его торговлей, и Филиппове, с его кондитерской и "филипповскими" пирожками. Стрижов особенно хорошо был осведомлен о последнем – о пирожках.
Нет больше филипповых, нет палкиных и соловьевых. Ничего, что сейчас опустели витрины магазинов! Ничего, что окна забиты фанерой! Здесь еще расцветет, закрасуется невиданный город! За то, чтобы непременно, во что бы то ни стало сбылись все чаяния, идет сражаться славная питерская молодежь.
– Раз-два! Раз-два! Тверже шаг!
По Невскому свернули влево, направляясь к Николаевскому вокзалу.
– Раз-два! Правое плечо вперед – шагом марш!
Эх, жаль, что Кира Рукавишников не видит в этот момент Евгения!
С того момента как молодые люди перешли на казарменное положение, они как будто вступили в свой, отличающийся от всего остального, особенный мир. Та жизнь, которая складывалась до казармы, вдруг отодвинулась и стала бестелесным видением, смутным воспоминанием. Да, это, конечно, было: и мама, и университетские коридоры, и встречи с друзьями. Например, Кира Рукавишников. Конечно он был! Стрижов помнил его улыбку, его вихор, который покачивался, когда Кира играл на гитаре вальс "Лесная сказка". Но все это казалось теперь чем-то давним, похожим на блестки далекого детства.
Начиналась большая, суровая, подлинно взрослая жизнь. И все эти юноши вдруг возмужали, немного загрубели, стали мужчинами. Строевые занятия, целые дни на воздухе. Солдатская пища. Нары. Всегда одни и те же люди вокруг, свой мирок, свои казарменные шутки, разговоры. Да, конечно, они стали мужчинами!
Колонна шагала, оркестр громыхал. Никогда еще Стрижову не казался таким прекрасным этот город, его город, город, где он родился, где оставались все его привязанности, город, который он покидал.
Выйдя на площадь перед вокзалом, отряд по знаку командира грянул "Все тучки, тучки понависли". Пели не столько стройно, сколько молодо и задорно. Некоторые хотя и пели со всем усердием, но безбожно врали. Однако это нисколько не портило торжественности.
На вокзал к отправке эшелона прибыли представители от городского комитета партии, от военного командования.
Панюшкин в своей речи сказал:
– Мы верим, что вы не опозорите красного Питера, колыбели революции. Мы посылаем лучших сынов для полного разгрома наймита международной реакции – махрового мракобеса Колчака. Он держится только подачками империалистов и жиреет на чужих кормах. Но помните, товарищи красноармейцы, чем больше свиньи жиреют, тем ближе они к погибели. Смерть Колчаку! Ура!
Питерские железнодорожники превзошли себя: поданные для воинов теплушки были прибраны, благоустроены.
– Смотрите, ребята, и трубы дымят! – восторженно переговаривались юные добровольцы. – Теплушки-то отапливаются! Здорово!
В самом деле, в холодном, прозябшем Петрограде это было верхом заботливости и любви – обеспечить топливом вагоны.
Стрижов страшно смутился, когда Анна Кондратьевна, пробравшись к нему, сунула сверточек с фуфайкой и домашними постряпеньками и на дорогу торопливо перекрестила его дрожащей рукой.
– Храни тебя бог!
– Ну что ты, мама!
– Береги себя, тут отцовская фуфайка, ты ведь чуть что – и простужаешься! Неженка!
"Как она постарела и сморщилась!" – горестно подумал он.
– По вагонам! – раздалась команда. – Шагом марш!
Множество рук поднимается и машет отъезжающим. Паровоз пыжится, шипит, выбрасывает клубы дыма – и дергает состав.
5
Все эти переживания Стрижова были вполне понятны Маркову, поэтому он мог бы их изобразить. Даже то обстоятельство, что сам Марков родом из маленького Кишинева, а детство Стрижова прошло здесь, в столичном гомоне и шуме, – и это не смущало юного романиста. Теперь он знал Петроград, хорошо знал и успел полюбить этот удивительный, какой-то вдохновенный, песенный, с горделивой осанкой, с широтой и размахом и, несмотря на старинные здания, архитектурные ансамбли, памятники, – неиссякаемо молодой город. Поэтому ему не трудно будет поместить героя своего будущего романа в доме на Фонтанке и самому как бы превратиться в питерского паренька.
Но дальше Маркову встретились, кажется, непреодолимые трудности. Уж он ли не испытал все, что человек испытывает в обстановке боя! Он ли не был участником отчаянных атак, осторожных обходных операций, тяжелого похода, когда они прорывались из окружения... он ли не наблюдал изо дня в день, как талантливо, вдохновенно ведет свою бригаду на врага и одерживает победы Котовский! А вот представить и живо, достоверно, убедительно изобразить самарскую степь, каппелевский корпус, Уфу, Башкирию он никак бы не решился.
Кроме того, Маркову понятнее и ближе была душа кавалериста, а ведь там, на Восточном фронте, бесспорный перевес в кавалерийских частях был на стороне противника.
Кое-что Марков уже знал об обстановке на Восточном фронте в те годы. Он начал собирать газетные и журнальные статьи, касающиеся этого периода, а также военные обозрения и воспоминания участников, которые начали появляться в печати. Марков знал, что к началу марта 1919 года у нас было "8984 сабли", как выражались военные специалисты, говоря о кавалерийских частях, а Колчак располагал 31 920 саблями, в основном казаками.
Маркову случалось бывать в пешем строю. Особенно ему врезалось в память одно туманное утро, когда он лежал в окопах на берегу реки Здвиж рядом с Савелием Кожевниковым, ожидая сигнала атаки. Но, странное дело, он никак не мог вжиться в образ чапаевца, не представлял себя на месте Стрижова, а если начинал думать об этом, невольно сбивался на те зарисовки, которые даны в книге Фурманова.
Между тем замысел у Маркова был совсем иной. Главное же, Марков совсем не намеревался да и не решился бы делать литературный портрет Чапаева. А что он намеревался показать? В том-то и дело, что сам он этого твердо не знал.
– Погрузили вас в воинский эшелон, и вы поехали, – выспрашивал Марков у своего предполагаемого героя. – А что потом?
– Приехали в Самару, – охотно пускался в воспоминания Стрижов, – а там "веселенькая" картинка: искалеченные артиллерийским обстрелом дома, забитые фанерой окна, черные головешки пожарищ... Одним словом, война. У войны ведь безобразная морда. Помню, куда ни поглядишь, – мотки колючей проволоки, наполовину засыпанные снегом. На берегу реки Самары, на Хлебной площади в центре, на дамбе напротив элеватора и вообще везде – поперек улиц и площадей – борозды окопов, иди да гляди под ноги. Ведь только что здесь шел бой, прямо на улицах. На той стороне белогвардейцы-учредиловцы, на этой – недавно сформированные части Красной Армии... Пальба, кровь, трупы валяются... Кипящий котел! Старые царские чиновники саботируют, эсеры устраивают восстания... Сегодня мы, завтра они – так и переходило из рук в руки. Просто сказать: одержали победу! Каждый дом – неприступная крепость, из каждого куста – пулеметная очередь. А что творили там анархисты – уму непостижимо! Однажды они взорвали здание, где заседал ревком. Половина дома взлетела на воздух, а во второй половине, в той, что не взлетела, как раз и находились ревкомовцы. А тут Дутов. А тут разагитировали братишечек – матросскую часть какую-то, и пошла потеха. Выпустили из тюрьмы уголовников – представляешь, как они гульнули?
– Не очень, но представляю, – пробормотал Марков. – А рассказываешь ты – дух захватывает, так и видишь всю картину. Жаль, что ты стихотворец, у тебя бы в прозе получалось!
Стрижов был польщен.
– Так вот. Захватили анархисты телеграф, телефонную станцию. Но больше грабили, чем воевали. Наш штаб находился на Заводской улице, в клубе коммунистов. Подоспели железнодорожники со станции Кинель. Ну, тут бунтовщиков разоружили. Только порядок наладили – а в это время подступила к Самаре десятитысячная чехословацкая дивизия...
– Десятитысячная?! – воскликнул Марков, увлекшись повествованием и совсем забыв, что собирает материалы для романа.
– Десятитысячная! Самое меньшее! А у нас и трех тысяч на всем протяжении от Самары до Сызрани не наберется. Представляешь, какая музыка получается? Сколько тут погибло дружинников под пулеметным огнем, сколько потонуло в речушке Татьянке, никто не подсчитывал. Разве подсчитаешь?
– Ты сам-то Куйбышева видел?
– А как же? Вот так он, вот так мы. Нас ведь, как прибыли, на пополнение пустили. Одних в пятую армию, а я попал в ту партию, которую определили в двести двадцатый полк, ткачи там, иваново-вознесенцы. Шикарное знамя у них, им иваново-вознесенские мастерицы золотом и шелками его разузорили.
– А еще кого видел? Фрунзе видел?
– Да. На переправе. Но там некогда было разглядывать. Лошадь у него была красивая. Лидка. Убило ее.
Стрижов призадумался. Углы губ у него страдальчески опустились, глаза подернулись слезой.
– Сколько лошадей за войну погибло! Люди дерутся, а лошади чем виноваты? Жалко лошадей.
– А людей?
– И людей, конечно...
Разговоров было много, но с собиранием материалов в общем не получалось. Нельзя же считать достаточным для того, чтобы писать роман, увлекательных, но крайне сбивчивых рассказов Стрижова. О Бугуруслане он сумел сообщить только, что этот город стоит на высоком утесистом берегу, что в Бугуруслане и в Бугульме раньше были женские монастыри, но монахини все разбежались. Рассказал еще кое-что, но отрывочно, бессвязно. Что у красноармейцев была поговорка, когда белые отступили в Уфу, стоящую на берегу реки Белой: "Белые спрятались за Белую". Что в городе Пугачевске был сформирован полк имени Красной Звезды. Что у белых в корпусе Каппеля было много тяжелых орудий, были бронепоезда, самолеты, а также особые "ударные" батальоны, почти целиком состоявшие из офицеров. Что по-башкирски река Белая – Ак-исыл.
6
Марков понял, что ему придется изучать военное искусство, чтобы толково рассказать о скромном красноармейце Стрижове. Марков записался в Публичную библиотеку, стал проводить в ней целые дни, полюбил ее громадные залы, шелест страниц, и необыкновенную, совсем особенную тишину, и стеклянные шкафы, наполненные книгами, строгие, думающие свою думу, хранящие много тайн, много разгадок, множество формул, справок, исповедей и творческого вдохновения.
А Стрижов – Женька Стрижов, неунывающий парень, вечно бормочущий стихотворные строки, шумный и непоседливый, – жил прежней жизнью.
Если у Маркова помещали в каком-нибудь журнале рассказ, они шли со Стрижовым в столовку или даже в "Кафе де гурме" на Невском, где были сбитые сливки со свежей земляникой, кофе и горячие пирожки, которые подавала хорошенькая официантка – не официантка, а живая реклама новой экономической политики, как утверждал Стрижов.
Стрижов восклицал, усаживаясь за мраморный столик:
– Гарсон! Сымпровизируй блестящий файв-о-клок!
Официантка улыбалась, а Марков вглядывался, вглядывался в своего избранника, будущего героя ненаписанного романа.
Веселый парень. Его ничуть не портит маленькая хромота – результат ранения. Стихов пишет мало, еще меньше его печатают. Он не унывает. Говорит, что мать делает какие-то вышивки и продает. На это они в основном и существуют.
– Михаила Кузьмина тоже мало печатают, – беспечно философствует Стрижов. – Что поделаешь? Не все годится, в каждую эпоху различный спрос.
И Стрижов декламирует:
Я старика не корю:
Что тут поделаешь, если
Не подошли Октябрю
Александрийские песни!
– Это – о Кузьмине? А о тебе?
– Обо мне тоже есть:
Не пиши ты ни элегий,
Ни стихов про небеса;
Пропадай твоя телега,
Все четыре колеса!
– Женька! А ты разве про небеса пишешь?
И тут, за столиком кафе, доедая третью порцию сбитых сливок, облюбованный Марковым герой вдруг обнаружил какую-то трещинку. Это встревожило Маркова. Его герой явно сворачивал куда-то не туда. Что за меланхолия? Что за мрачные нотки? Что за жалобы на эпоху? Сказано: не пищать!
Они расплатились (то есть Марков расплатился, у Стрижова, по обыкновению, не было ни гроша) и вышли на улицу.
Было весеннее время, и земляника в кафе, видимо, была оранжерейная, потому и дорогая. А весенний город улыбался, запахи талой земли и тугих набухающих почек тревожили, призывали к бродяжничеству, к лесным тропинкам, будили смутные устремления, в которых никак не разобраться. На улицах продавали пучки верб и ярко-желтые веточки мимозы, пахнущей сладко и томительно.
Стрижов продекламировал:
Вербы распустившуюся ветку,
Улыбаясь, носим мы в руках.
– Нет, – несговорчиво промолвил Марков, – ты погоди с вербами, ты мне насчет пропадающей телеги объясни. Для меня это ново, что ты кислятину разводишь и с эпохой в разладе!
Стрижов неестественно громко рассмеялся:
– Всякое бывает. Ты романистом собираешься стать, а как стать романистом без конфликтов?
И Стрижов долго, путанно и как-то надрывно говорил, что вот этой улыбающейся официантке и жирной бабище у кассы, хозяйке кафе, он бы с удовольствием по физиономии съездил.
– Купцы! Спекулянты! Хари самодовольные! Тебе что! Малюешь одной краской – розовой – и пребываешь в некоем кудрявеньком облачке, как херувимчик на иконостасе. Не видишь разве, что вокруг творится? Впрочем, конечно, не видишь и не слышишь – на глазах шоры и уши ватой заткнул...
Марков слушал с ужасом – его герой, как плохой актер, перехватывал чьи-то чужие реплики. Весь замысел романа летел в тартарары! И что с ним случилось? Ведь всегда они были едины во взглядах и настроениях?!
Стрижов говорил, говорил... Они прохаживались по Невскому, мимо Екатерининского сквера, мимо Сада Отдыха, мимо Аничкова дворца и затем по мосту с клодтовскими конями, доходили до Владимирского проспекта – до бывшего ресторана Палкина – и поворачивали назад. Весеннее солнце пригревало, носились терпкие запахи мимозы и тополей, в сквере капали вешние капли с мантии Екатерины Второй прямо на Дашкову, на Потемкина, на Румянцева... А приятели все бродили и бродили.
Марков больше слушал, и ему начинало казаться, что, может быть, в чем-то Стрижов и прав? Очень уж не вяжется новый облик города с тем, что они привыкли видеть в годы фронтовой жизни, в годы гражданской войны. И действительно, противная харя у хозяйки кафе, это он тоже заметил. Чье это стихотворение "Черная пена" продекламировал Стрижов? И где слышал Марков стереотипную фразу, которую Стрижов настойчиво повторял: "За что боролись?" И откуда у него эти поговорки, которые он произносит с надсадной злостью: "Хорошо затянул, да осекся" или "Спросили бы гуся, не зябнут ли ноги"... Это он к чему же? И что это вдруг в прозе заговорил?
7
Миша Марков стал с некоторых пор Михаилом Марковым и даже Михаилом Петровичем Марковым, начинающим писателем, автором небезызвестного рассказа "Отчий дом", который так понравился Крутоярову.
Однако, несмотря на то что он был Михаил Петрович и автор небезызвестного рассказа, ему здорово попало от того же самого Крутоярова.
Откровенно говоря, и стоило. Маркову вовсе не свойственно было унывать, хныкать, его никогда не обуревали сомнения. Он и теперь не имел в виду себя, а пустился в рассуждения вообще и в частности:
– Хорошо тем, кто участвовал в гражданской войне! Вот когда можно было совершать сколько угодно подвигов и моментально сделаться гером! А попробуй проявить героизм сейчас, во время нэпа! Разве что прославиться как лучшему директору универмага?
– Ничего подобного! Абсолютная чушь! – сразу вспылил Крутояров. Вообще нет такого времени, когда человек не мог бы совершать славных, полезных дел. А уж сейчас тем более. Ведь это только говорится, что настало мирное время. Ни черта оно не настало! Идет самая ожесточеннейшая схватка нового и старого, и, как говорится, с переменным успехом.
– Да какая же это схватка, Иван Сергеевич, – взмолился Марков, – если уж дошло до того, что прежних лавочников пригласили развертывать торговлю!
– Милейший, да ведь это же маневр! Как не понять этого? А еще военный! Чистейшей воды маневр, обходное движение: заставить самого врага собственными же руками подкрепить силы революции, залатать дыры, образовавшиеся за годы войны, привлечь на свою сторону мужичка с его двойственной натурой... Вряд ли за всю историю человечества совершался более мудрый государственный акт. Вместе с тем нэп – хо-орошенькая проверка. Если в тебе жива обывательская закваска, ты сразу клюнешь на нэповские калачи!
– А если не клюнешь? Какие же подвиги совершать? Поругивать нэпманов?
– Строить! Воспитывать! Господи боже мой! Прорва дел! Не воображаете же вы, что у нас одни пресвятые угодники, что за границу уехали все контрреволюционеры, все подхалимы, все взяточники? Предостаточно осталось и здесь! И элементарных дураков немало, и пришипившихся вражин, и полный комплект обывателей, мелкой буржуазии... А сколько таких, вроде бы и не плохих, да старые навыки у них навязли в зубах? Не выковырять! Эх, Марков, Марков! Тут еще десятилетиями придется пни выкорчевывать! И опять же не могу не вспомнить Котовского. Вот человек действия! Он не пускается в рассуждения, он действует. Не дожидается каких-то гигантских сверхмероприятий, с жаром берется за всякое дело, если видит в том пользу, или, как он называет, политический эффект. С этой точки зрения он и есть новое явление, новый человек. А для нашего брата писателя не первейшая ли задача подмечать, подхватывать ростки нового и новое прославлять? Каков облик старого? Или Обломов – воплощение добродушной лени, инертности, или Штольц – мелкая душонка, пустодел, эгоист, узколобый предприниматель. Пришло время обломовых будить от спячки, а штольцев гнать поганой метлой. Я наблюдал одного этакого Штольца. Всю жизнь он комбинировал, соблюдал свою маленькую выгоду и втихомолку хихикал в кулак: пусть другие лезут на рожон, записываются добровольцами, прут под пули, ворочают самую тяжелую работу – плавят сталь, сеют хлеб, строят дома, защищают родину, а он при всех ситуациях уцелеет, ухватит кусочек булки со сливочным маслом! Призывали в армию – он дал кому-то взятку. Хотели куда-то перевести – он представил тысячу справок. И так без конца – махинации, махинации... А смотрит на всех свысока и строит благородное трудящееся лицо, мразь этакая! Так вот, дорогой дружище, никто вас не назначает директором универмага, и не так просто быть директором универмага, как вам представляется. К вашему сведению, сейчас многие командиры-коммунисты пошли на хозяйственные посты. Да и Григорий Иванович, я слышал, пооткрывал корпусные лавки, наладил кожевенный завод, изготовляет сахар и даже делает кирпичи. Стыдно ничего не делать, а делать полезное – почетно!
Долго отчитывал Мишу Крутояров. Миша молчал и сгорал от стыда. Вот так романист! Меж двух сосен запутался, чуть не оказался на поводу у своего предполагаемого героя! Вот так котовец! Растерялся перед нэпманшей из "Кафе де гурме"! Не разобрался в обстановке! Надо читать, голубчик, газеты надо читать, подковываться надо! Сам же Стрижов как-то говорил, что человек должен иметь мировоззрение. Какое у него мировоззрение? Куда его повернуло? Ведь это троцкисты кричат, что революция перерождается. Ведь это эмигранты потирают раньше времени руки.
После разговора с Крутояровым Марков стал настороженно относиться к приятелю. Тот почувствовал сразу, что между ними пробежала черная кошка. Они стали реже встречаться, меньше беседовать. Стрижов при встрече не стал громогласно читать стихи.
А однажды Марков сделал еще одно неприятное открытие: когда они сидели рядом в литстудии, от Стрижова попахивало водкой.
Все более в отношениях Маркова и Стрижова нарастал холодок.
В О С Ь М А Я Г Л А В А
1
Казалось бы, все складывалось как нельзя лучше у Николая Лаврентьевича Орешникова. Он мог быть доволен своим служебным положением. Сокращение Красной Армии и демобилизация его не коснулись. Он так и остался, как был, командиром полка. В полк пришли новобранцы, и Орешников с увлечением занялся настойчивым воспитанием молодежи.
Большой радостью было узнать, что и родители Орешникова живы-здоровы, как жили, так и живут в Петрограде, на Васильевском острове, на 3 линии, недалеко от кирки. А сестры повыходили замуж и разъехались в разные города.
Орешников даже ездил в Петроград навестить стариков. Мать плакала от радости, отец делал "гым-гум", которое у него принимало разные оттенки и могло выражать удивление, удовольствие или сомнение, неодобрение. Николай Лаврентьевич рассказал им не очень подробно, выбирая не самое страшное и трудное, о своей мятежной жизни: о том, каким образом попал в деникинскую армию, о том, какая была в то время Одесса, о том, как у него произошли встречи со знаменитым Котовским, подпольщиком и революционером, а затем, совсем уже кратко, как попал в плен и был спасен от расстрела тем же Котовским.
– Совсем как в "Капитанской дочке" Пушкина, гым-гум, – подал голос отец.
А мать нашла вполне подходящим момент, чтобы снова расплакаться. Она, как никогда вообще, так и до сих пор, ровно ничего не понимала в происходящем вокруг. И зачем это русские сражаются с такими же русскими? Отчего это вдруг стало мало продуктов, куда они подевались? Отчего это снова стало много продуктов, но денег стало мало? Она была очень старенькая, и весь круг ее интересов сосредоточивался на "папе", как она называла супруга: почему это у него стал плохой аппетит... и вот опять кашлять стал больше, наверное, под форточкой сидел... (Надо сказать, что папа кашлял всю жизнь, но жена по каким-то неуловимым признакам определяла, что кашель то становился больше, то уменьшался или не уменьшался, но делался мягче, без надрыва).
В общем, Орешников был рад, что мать и отец живы, что даже мебель в квартире как стояла до революции, так стоит и сейчас, только одну комнату присоединили к соседней квартире, пробив к стене дверь и замуровав отсюда.
– Так даже лучше, – примирительно говорила скороговоркой старушка, дров меньше идет, а то ведь не напасешься. Двух комнат нам предостаточно, танцевать не приходится. В одной комнате мы студентку поселили, куда ж ей деваться? Да и очень за нее Красовские просили. А в другой мы с папой. Танцевать не приходится.
Орешников познакомился с квартиранткой-студенткой, белокурая такая. Раз они поговорили, два поговорили, а когда отправились вместе в театр, тут Капитолина Ивановна и догадалась:
– Папа, никак нам свадьбу в доме играть, а у меня и рюмки все мухами засижены.
Она не ошиблась. Еще отпуск у Николая Лаврентьевича не кончился, когда он сообщил, будто случайно, за столом, передавая тарелку с хлебом:
– Дорогие родители, можете поздравить нас, мы с Любашей записались сегодня в загсе.
Женитьба принесла много радостей Орешникову, а еще больше Капитолине Ивановне. И с детьми ждать ее молодожены не заставили. Родился Вовка, беловолосый, в мать, глаза голубовато-серые, голос пронзительный, даже через замурованную дверь к соседним жильцам проникает, и там всегда знают, спит Вова или бодрствует.
Орешников бывал дома наездами. Любаша не хотела бросать университет, а бабушка не хотела расстаться с внуком. Тем не менее семья у Орешникова получилась дружная, и все было хорошо.
Но все-таки, все-таки была у него ссадина на душе: все ему казалось, что он пасынок в армии, что ему не доверяют. Пленный! Белогвардеец! Золотопогонник! Военспец! Чужой! А какой черт чужой? Отец – старый интеллигент, ни своих магазинов, ни своих имений у них не заветалось. Нашли эксплуататора! Всю жизнь лямку тянул... А сам Орешников? Недоучка, скороспелый офицер... Швыряло его как щепку. Разве он по своей воле покинул Путейский институт? Забрали и отправили в школу прапорщиков! Разве он пробирался, переодетый, к Краснову или еще куда-нибудь, на Дон, на юг, в стан очередного незадачливого белого генерала? Ничего подобного, всех офицеров, под метелку, забирали тогда в ряды белых. Но даже если бы сам пошел? Ведь простили? Сколько же раз судить за одну и ту же вину? Разве не доказал он с тех пор всей своей деятельностью, что служит и будет служить новой России, не изменит, не продаст, не совершит ни одного бесчестного поступка? Так зачем же косые взгляды, недомолвки, уколы самолюбия на каждом шагу, постоянное отгораживание: вот здесь вы, а с этой черты мы, просим не смешивать!
Иногда Орешников придирчиво проверял себя: но излишняя ли мнительность у него развилась? Не выдумывает ли он все эти уколы и недомолвки? Нет, не выдумывает! И необычайно болезненно воспринимает! Становится неестественным, постоянно настороженным. Становится обидчивым, самолюбивым, становится не самим собой, а вследствие этого еще более отчужденным. Постоянное ощущение, что ты чужой, что ты – кто тебя знает, может быть, примазываешься, может быть, затаился? – все это изводило Орешникова.