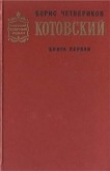Текст книги "Эстафета жизни"
Автор книги: Борис Четвериков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
– Будем продолжать жить, – повторил Крутояров.
Мимо них хлынул поток людей. Очевидно, прибыл какой-то поезд. Люди спешили, оживленно о чем-то говорили, несли сумки, свертки, чемоданы. Вымахнув из здания вокзала, они веером растекались в разные стороны: кто пешком на Старый Невский, кто в сторону остановки трамваев на Лиговке, кто прямо – на Невский проспект.
Крутояров внимательно смотрел на людской поток, на соотечественников, на братьев, на жителей прекрасного города прекрасной страны. Это были его современники, однополчане, те, с кем рядом он шел по дорогам войны и по дорогам свершений. Вот они – простые и в то же время необыкновенные, казалось бы, самые будничные и заурядные, но между тем способные творить чудеса.
Вглядываясь в их лица, в их уверенные движения, вслушиваясь в их говор, в их бодрые голоса, Крутояров осознал в этом что-то значительное, что отвечало на самые трудные, недоуменные вопросы бытия – вопросы смерти и жизни, мимолетности и вечности.
– Жизненный процесс как эстафета, – медленно произнес Крутояров. Те, кто уходят навсегда, передают наказ оставшимся: продолжать жить, завершать незаконченное, продумывать новое, искать неотысканное...
Марков молчал. Он понимал, что Крутояров в раздумье, и боялся ему помешать.
...Прошел январь 1924 года. За январем промелькнул коротенький февраль... Мир жил, хлопотал, боролся...
О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я Г Л А В А
1
Писатель Бобровников вдруг стал темой номер один, знаменитостью, о нем заговорил весь эмигрантский Париж. И не потому, что он написал замечательный роман или поставил в театре экстравагантное ревю. Тут было другое: он уезжал в Россию, в Советскую Россию, кажется, уже получил визу, словом, сам лез в пасть ГПУ. Одни бранили его, обвиняли, позорили, другие втайне завидовали. Всем интересно было, что из этого получится. Расстреляют? Или простят?
Мария Михайловна Долгорукова уже не говорила о Бобровникове, что у него неписательский вид, что он ей не нравится. Теперь он ее интересовал, и она даже требовала, чтобы князь Хилков во что бы то ни стало привел его, только как-нибудь так, вроде бы случайно, и чтобы без лишних свидетелей неудобно все-таки, переметнулся на ту сторону. Но у Марии Михайловны есть к нему одно дело... думаете, насчет "Прохладного"? Нет, совсем другое, очень личное и очень важное, очень.
У князя Хилкова была маленькая тайная страстишка: он любил посещать кабачки, низкопробные кабаре. Ему нравилось смотреть на пьяных, разухабистых женщин, на шумных собеседников за столиками, уставленными бутылками... За последнее время он особенно пристрастился к одному из бесчисленных русских кафе, какие пооткрывали бывшие сенаторы, бывшие помещики, бывшие врангелевские полковники, стремясь заработать хлеб насущный.
Это кафе носило название, которое сразу привлекало внимание: "У самовара я и моя Маша", и около названия на вывеске был изображен сверкающий медью самовар – бокастый, с кружевной конфоркой и расписным чайником, со струйкой пара, поднимающейся вверх. Словом, не хватало только связки бубликов, чтобы представить былую российскую "обжорку", канувшую в Лету вместе с царским двуглавым орлом, хоругвями и крестными ходами.
Сюда-то и приходил князь Хилков, усаживался где-нибудь в уголке и, рискуя испортить желудок, заказывал порцию гречишных блинов или московские расстегаи.
И вот как-то, пробираясь между столиками и разглядывая скатерти, вышитые петухами, князь набрел на Бобровникова. Если бы не настоятельные просьбы Марии Михайловны, он бы сделал вид, что не узнал писателя, или же ограничился бы легким поклоном и быстро ретировался. Но теперь он принял другое решение. Вот когда он сумеет выполнить поручение Марии Михайловны и под каким-нибудь предлогом пригласит Бобровникова!
С непринужденностью, какая вырабатывается годами светской жизни, князь Хилков приветствовал романиста, с подчеркнутым удовольствием принял приглашение "разделить компанию" и несколькими удобными, обтекаемыми, ничего не значащими фразами устранил неловкость, которую заметил в Бобровникове, так как тот восседал один на один с наполовину опорожненной бутылкой водки, по внешнему виду в точности такой, какой была царская сорокаградусная с белой головкой.
– Тоже любите заглянуть в эти злачные места? – игриво спросил князь Хилков, ничем не показывая, что сервировка столика ему не по душе.
– Завсегдатай этих "стиль рюсс"! – ответил Бобровников. – Только предупреждаю: водка здесь форменная дрянь. Не советую.
– В самом деле? – спросил озабоченно князь, хотя отнюдь и не собирался заказывать водку. – Тогда я рискну, если позволите, потребовать бутылочку шабли? Рад встретиться, слышал, что уезжаете? Надеюсь, придете попрощаться? Мария Михайловна уполномочила меня передать, что будет рада вас видеть. Например, что вы скажете, если во вторник, часов в одиннадцать?
Бобровников не удивился приглашению. За последнее время он только и делает что встречается, выслушивает предостережения, отвечает на расспросы, огрызается, когда начинают бранить, и повертывается спиной, услышав угрозы.
– Во вторник? Зайти, конечно, могу, только чего это я понадобился княгине? Мода! Вы думаете, зачем я здесь сижу? Удостоился приглашения от самого Сергея Степановича Рябинина. Вот как у нас! "Не угодно ли вам будет посидеть со мной за рюмкой вина?" – "С превеликим удовольствием!" "Хотелось бы, знаете ли, в тихом уголке, где нам никто не помешает, поболтать о том о сем!" – "Помилуйте, в Париже таких уголков множество!" и предложил я ему вот это самоварное захолустье, нарочно выбрал самое невзрачное, – это миллионеру-то! Воротиле российскому!
– Я, кажется, буду не совсем кстати...
– Напротив, поприсутствуйте, получите феноменальное удовольствие. Я Рябинина знаю еще по Петербургу, он там журнал издавал, на веленевой бумаге, с виньетками. "Эллада". Курс на разбогатевших лавочников и присяжных поверенных. И платил, сукин сын, хорошо. Созвал как-то раз писательскую братию, не кое-каких – маститейших. Ему чего церемониться? У него деньги! Усмехнулся наглецки и вылепил нам в глаза: "По-моему, что писатели, что продажные твари – разницы никакой. У них товар – у нас деньги. Заплати – и будьте любезны, что прикажете". Оскорбились мы тогда, хотели бойкотировать его "Элладу", да так как-то не получилось, не собрались. Вот вы – человек из другого мира, только кораблекрушение выбросило нас на один остров... Скажите объективно: разве хорошо так оскорблять? Ведь он нас с грязью смешал! А мы молчали... Чувствовали, видимо, что грубо, а какая-то доля правды в его словах все-таки есть... Есть или нет? Вы режьте начистоту, по-русски. Ну?
– Если хотите знать мою точку зрения... – замялся князь, – я вообще невысокого мнения о человеческой породе. Например, собаки, на мой взгляд, куда интеллигентнее. Умные, честные. Не предадут. А слоны? А лошади? Особенно лошади!
Князь Хилков мечтательно задумался, но тут же спохватился и стал отнекиваться:
– Парадоксы! Не обращайте на меня внимания... Я ничего не смыслю, ничего не знаю, а главное – не стремлюсь знать.
– Но что вы скажете о Рябинине? – настаивал Бобровников. – Не увиливайте от прямого ответа.
– Господин Рябинин, как мне кажется, узко поставил вопрос. Судите сами, разве по сути вопрос поставлен неправильно? Все мы продажные твари! Все на свете продается, только цены разные. Но боже упаси, я не отнимаю вашего права считать писателей существами особенными! Я только думаю, что писательская профессия тяжелая, но не тяжелее, чем другие. Разве легче продавать себя для работы в угольной шахте? По-моему, так ужасно! Или служить тюремным надзирателем... А? Как вы думаете? Или работать на бойне... Бр-р! Все эти кишки... Однако этот разговор не по мне. Я совершенно не гожусь в философы.
– Д-да-а! – выдохнул Бобровников, отодвигая рюмку и почти с ужасом разглядывая князя. – Вот вы какой! Не зна-ал. Простите за откровенность считал вас пустым местом... Эх, Рябинин не слышал! Нет уж, вы, пожалуйста, не уходите. Имейте в виду: Рябинин умен! Какой он там ни есть, а умен, чертушка. Кстати, вот он и сам пожаловал, теперь уж вам этикет не позволит испариться.
2
Рябинин вошел хмурый, сосредоточенный. Он привык, где бы ни появился, вызывать шумный восторг и теперь только досадливо отмахнулся от хозяина этой чайнушки, забывшего о своих орденах, какие он носил в былые времена, о своем полковничьем чине и превратившегося в безобидного хлопотливого хозяйчика, раболепно встречающего богатых клиентов.
– Лестно, весьма лестно! Конечно, у нас не "Пайяр", не "Ларю", зато все русское! – бормотал он, мельтеша перед Рябининым и мешая ему пройти. Добро пожаловать, Сергей Степанович! Удачно! Par axcallence* сегодня, к блинам! Faute de mieux...**
_______________
* Par axcallence – в особенности (франц.).
** Faute de mieux – за неимением лучшего (франц.).
– Бобровников не приходил? – не здороваясь, спросил Рябинин, но тут же увидел писателя и направился к нему.
Ничуть не удивился присутствию князя Хилкова. Выражение его лица говорило: "Хилков так Хилков. Какая разница". Но галантно подскочившего и звякнувшего шпорами завитого и нафабренного гусара без всякого стеснения прогнал:
– Ладно, ладно, без тебя обойдется. Не мешай.
– Виноват, Сергей Степанович... Я только хотел...
– Проваливай, проваливай, брат. У нас тут дело... Развелось этой шушеры! – обернулся Рябинин к Бобровиикову и Хилкову. – Нигде не укрыться! На Невском у Палкина и то было сподручнее... Так как? Едем? – глянул он на Бобровникова. – Уже были и на Рю-де-Гренелль? В полпредстве? У Красина?
– Еду, Сергей Степанович. Завтра иду визу получать, и – на Северный вокзал!
– Выходит, перебежчик?
– Нет, это называется по-другому: возвращение блудного сына. С меня довольно, не могу больше на это гнилое болото глядеть. Такая мерзость. Думал, так и пропаду. И вдруг – как солнце брызнуло. Пускают! В Россию!
– России нет. Есть Совдепия.
Рябинин сел напротив, долго молча тяжелым взглядом смотрел на Бобровникова, потом без злорадства, даже с грустью добавил:
– Расстреляют они вас. Как пить дать расстреляют. А эти наши молодчики – из кутеповского "Союза галлиполийцев", – эти ерунду придумали. Пойдем, говорят, на вокзал и морду ему набьем. Это вам то есть. Мальчишество. Ведь не гимназисты. Я, собственно, и пришел об этом вас предупредить. Но коммунисты – серьезный народ. Вот увидите – обязательно расстреляют.
Бобровников молчал. Рябинин тоже замолк, молча придвинул бутылку водки, хозяин чайнушки мигом распорядился подать ему рюмку из особого для почетных гостей – советского хрустального сервиза, купленного в 1923 году в Лионе, на международной ярмарке в советском павильоне. Рябинин налил, выпил и чертыхнулся:
– Ну и мерзость. Дайте-ка коньяку.
Князь Хилков, прямой, вежливый, внимательный, сидел, как в театральной ложе, слушал и поочередно смотрел то на Бобровникова, то на Рябинина. Его не тяготило, что он молчал. По-видимому, он чувствовал себя превосходно и слушал с нескрываемым удовольствием, так и казалось, что вот-вот он зааплодирует.
Принесли бутылку коньяку и еще три рюмки. Рябинин повертел рюмку в руках:
– Завод имени Ломоносова? Понятно. Бывший императорский. Помню.
Опять молчание.
– Почти достигли довоенного уровня? Я говорю о Советской России. Допустим. Но чем? Ограбили банки. Потом ограбили церкви, даже колокола стибрили, даже ризы с икон содрали. Что дальше? Наладили промышленность? Ну, это туда-сюда, но доходы-то кому? Государству? Наладили дело на приисках – все золото опять государству, весь уголь, никель, все железо, вообще все, даже прибыль от каждого фунта сахару – все в одни руки... Это, конечно, один-ноль в пользу Советской власти, не спорю. М-да. Тут есть над чем задуматься. Для них один-ноль, а для меня? Нет! Не приемлю! Верую, господи, помоги моему неверию! При социализме полная возможность государству лезть в любой частный карман. С кем спорить? На кого жаловаться? Дери прямые, дери косвенные налоги, устанавливай какой вздумается нищенский оклад – все сойдет, все стерпят. В природе человека в свою пятерню загребать, копить, наживать, а у них как? В общий котел? Да тогда на какой ляд и работать? Тогда и воровать не стыдно, казенное всегда тянут. Тогда – извините, пожалуйста, – пусть другие работают, работа дураков любит, а я уж погожу... Нет, не понимаю я этого, честно говорю, не понимаю! Человек – хищное животное, ему хочется живое мясо рвать, а тут его пичкают травкой социализма. Ничего у них не получится с социализмом! А чтобы наверняка не получилось, мы со своей стороны тоже постараемся. Где под руку подтолкнем, где в бочку меду ложку дегтя прибавим. Теперь, без Ленина, это будет проще, легче. А как же, господин... то бишь товарищ Бобровников? Сочтем своим долгом! Мы должны это делать. Если не это... тогда что же остается?
– У вас безвыходное положение, вот и злобствуете. Вы – макулатура. Знаете, тряпичники собирают обрезки, всякий хлам, и это идет в перемол, на бумажную фабрику...
– Заговорил! – усмехнулся Рябинин, подмигивая князю Хилкову. – За живое задело!
Бобровникова и вправду задело. Он подумал, слушая Рябинина, что хватит, почитал Рябинин мораль в былое время в Петербурге. И чего примчался? Чего ему надо? Предупредить, что морду хотят набить какие-то молодчики? Вряд ли. Это предлог. Утешения для себя ищет! На душе-то скребет, вот и мечется. Так получай же, почтеннейший издатель "Эллады"! Кушай на здоровье!
– Ваша дочь, господин Рябинин, вышла замуж за норвежца. Пройдет несколько лет – и она разучится говорить по-русски. Да и вы-то сами по-русски разучитесь, по-французски не научитесь... Вы... как бы это сказать... рассосетесь, сойдете на нет. Это ваша величайшая трагедия, вы не меньше, чем я, тоскуете по родине, наверное, плачете по ночам, во сне Литейный проспект снится да Адмиралтейство, локти кусаете, но вот какая оказия: я могу вернуться, а вы нет, вы вышвырнуты навечно. Я нагрешил, наделал глупостей, въелось рабское угодничество в меня, казалось, как же так, могу ли я жить не в вашей лакейской? Могу! И все, что наделал, поправимо. Меня примут, мне поверят. И Куприн может вернуться, даже Бунин может! А вам пути отрезаны, батенька, и, конечно, вам это невыносимо, мучительно, больно. Скоро я буду в другом мире, недоступном даже вашему пониманию, в другом, совсем, окончательно другом, я это чувствую, хотя еще плохо разбираюсь. А колокола... что ж? Они сделаны народом, он хозяин, хочет – на колокольне их вешает, хочет – переплавит на снаряды, чтобы по вас бить...
Упоминанием о дочери Бобровников попал в самое больное место. Рябинин так и взвился, но тотчас овладел собой, сел, даже весь багровый стал и жилы надулись. Рябинин больше всего боялся, что его дети забудут Россию, родной язык. В доме Рябинина полагалось говорить только по-русски. И книги у него в шкафах были русские. Но улица, театр, товарищи – все вокруг было иное. И мальчики тайком от отца встречались с французскими девчонками, с французской молодежью, и нет-нет да и дома срывалось у них с языка французское словечко, а то еще брякнут что-нибудь на арго, это и вовсе приводило Рябинина в бешенство. Ведь Рябинин верил (или притворялся, что верит?) в скорое возвращение, в скорое падение советского режима. Ударом для Рябинина было бегство из дому дочери. Она оставила записку: "Папочка, не сердись, ты же не хочешь, чтобы твоя дочь отказалась от счастья. Мы любим друг друга, твоих денег нам не надо. Мы уже повенчаны, а когда ты сменишь гнев на милость, мы оба – Ивар и я – придем просить у тебя прощения за самовольство. Твоя Лидия".
Вся эта история обсуждалась и пересуживалась всюду, о романтической любви Лидочки знали в самых широких эмигрантских кругах. И нельзя сказать, что Лидочку осуждали. Графиня Потоцкая – та была прямо в восторге. Поговаривали даже, что первую ночь влюбленные скрывались именно у нее.
Рябинин был достаточно умен, чтобы не поднимать скандала. Напротив, он немедленно узнал адрес молодоженов и написал, что удивляется, зачем понадобилась такая конспирация, что он не какой-нибудь самодур, чтобы навязывать детям свои вкусы. Рябинин перевел на имя дочери значительную сумму, после чего молодые преспокойно уехали в Осло.
В сущности, дочка пошла вся в отца, была такая же взбалмошная и порывистая. Рябинину не на что было жаловаться. Взять даже и сегодняшний случай: ну зачем понадобился Рябинину Бобровников? Но Рябинин не привык ни в чем себе отказывать. Вздумалось посмотреть на вновь испеченного советского гражданина – выполнил свой каприз.
Бобровников не первый, кто возвращался из эмиграции в Советскую Россию. Это стало распространенным явлением. Но Рябинин читал резкие антисоветские статьи Бобровникова. Что же случилось? Изменились взгляды? Ведь никто Бобровникову не предлагал каких-то особенных материальных выгод, никто не уговаривал его, напротив, сам он каялся и проклинал день, в который решился покинуть родную страну, не разобравшись, что в ней происходит. Рябинин внимательно прочел новые выступления в печати Бобровникова. Как будто они искренни. Бобровников старается во всем разобраться, ничего не замалчивает, ничего не скрывает и с какой неприязнью пишет об эмигрантах!
Прочитав эти саморазоблачения, Рябинин спросил себя, мог бы он, Рябинин, отказаться от своих взглядов, убеждений и пойти работать в Советской России, где-нибудь в ВСНХ? Никогда! Сколько он будет жить на свете, столько будет бороться всеми доступными ему средствами против коммунистов! Рябинин во многом разделял мнение Бобровникова, когда речь шла об эмигрантах. Рябинин и сам презирал всех этих ни на что не способных графов и князей, сам считал бездарью белых генералов, так позорно проигравших все до одной кампании. Но Рябинин считал, что борьба не кончена. Все впереди. Еще будет сказано последнее слово.
Писатель Бобровников талантлив и пишет только то, в чем убежден. Рябинину хотелось добиться в сознании этого писателя этакой трещинки. Пусть сядет за письменный стол в нетопленой квартире в Петрограде (то бишь теперь в Ленинграде!) и, задумавшись, вспомнит некоторые соображения Рябинина, делового человека, практика, убежденного сторонника капитализма, может быть, с поправками, но капитализма.
Все эти мысли вихрем пронеслись в голове Рябинина, и к нему вернулась обычная самоуверенность.
Дал высказаться Бобровникову, нетерпеливо махнул рукой некоторым субъектам за соседними столиками, чтобы не навостряли уши и не вмешивались. Затем сказал:
– А может быть, вас и не расстреляют большевики, с писателей спрос невелик, но мы, когда придем в Россию, уж обязательно вас повесим.
– Я и не сомневаюсь, что вы повесили бы. Что делать! От смерти не посторонишься. Только очень сомневаюсь, что вам удастся прийти. Кто вам поможет? Антон Иванович Деникин? Но он уже мемуарист – сидит пишет исповедь. Или Врангель? Кажется, всех перепробовали.
– Понадобятся, как видно, иностранные штыки.
– Кто же? Немцы?
– Хотя бы.
– Это вы, Сергей Степанович, только сгоряча могли сказать. Даже отпрыск царской фамилии, великий князь Дмитрий Павлович – уж его-то заподозрить в симпатиях к коммунистам трудно – и тот заявил, что в случае войны с Германией эмиграция должна встать на сторону Советской России.
– Мы немцев только используем.
– Ой ли? Смотрите, как бы они не обвели вас вокруг пальца. Вообще же... – Бобровников вдруг споткнулся, пораженный какой-то мыслью, и замолк.
Рябинин выжидательно смотрел. Князь Хилков был невозмутим и явно не намеревался и в дальнейшем произнести хотя бы слово.
Наконец Бобровников сформулировал осенившую его мысль и уже без запальчивости, даже как-то устало произнес:
– Собственно, зачем спорить? Зачем весь этот разговор, да еще в таких нервозных тонах? Не собираемся же мы в чем-то один другого убедить? Вы меня не поймете, я вас. Больше скажу, я и сам-то себя не понимаю. Получил недавно письмо – оттуда, из города на Неве, от Крутоярова – слышали про такого? Писатель, выпустил не один десяток книг. Так вот пишет он мне, словно я несмышленый и, как говорят, трудный младенец. Он старается доступно объяснить мне, что оторваться от родины для писателя – смерти подобно. Ничего, говорит, вы не напишете, если немедленно не приедете сюда. Объяснять, говорит, долго и сложно, сами поймете, когда приедете. Нельзя, говорит, русскому писателю в такое время не быть на Родине. И так он написал, что у меня все нутро перевернуло. Ведь мы ничего не знаем о том, что в России свершается, ничего. Вся эта писанина эмигрантской прессы только мозги засоряет. А поэзия? Боже мой! Даже те, кто покрупнее и, как говорится, смолоду захвалены, помилуйте, какой пишут несусветный вздор! "Я ненавижу человечество, я от него бегу спеша". Глупо! Беспомощно! И не самостоятельно: Шопенгауэр! Иные не без таланта, но и талант не выручает, как на Руси, бывало, случалось: сеяли рожь, а косим лебеду. Я уж не говорю о Нине Берберовой, Вере Лурье – вам попадалось поэтическое повидло этих дамочек не то в берлинских "Днях", не то в "Руле"? Мерзость! Грехопадение! Бежать, бежать отсюда без оглядки! Я русский, понимаете вы это? И я хочу отдать своему народу все силы, все способности. Я ничего не знаю об Октябрьской революции, о новой России. Вероятно, мои убеждения наивны, но и того, что я понял, достаточно, чтобы любить эту новую Россию. Вы вот сказали, что готовы усмирять революцию германскими штыками. А знаете, какой роман я издам, приехав в Москву? Называется – "Бескровное вторжение", я и материал собрал, шесть глав написано. Из вороха газетных вырезок, очерков, монографий в роман войдет сотая доля. А жаль! Авторам исторических романов следовало бы одновременно с самим романом издавать все собранные для работы выписки, заметки, справки – какое было бы богатство для изучающего ту или иную эпоху!
– Вы бы без предисловия рассказывали о своем романе, ведь вам именно этого хочется.
– Я и расскажу, вам это полезно послушать. Мой роман "Бескровное вторжение" – это суровое обвинение вам, властителям предреволюционной России. Место действия – Питер, провинция, фронт. Время действия четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый годы.
– Да? В советских издательствах не напечатают. Им подавай революцию. Придется вам романчик-то сюда прислать, мы издадим.
– Вряд ли он вам по нутру придется. В нем речь о том, как вы продали Россию, всю, с потрохами. О том, как у русской императрицы, истошно ненавидевшей Россию немки, были в руках все государственные тайны. Выпускалась тогда секретная военная карта с обозначением расположения наших войск. Выпускалась в двух экземплярах – один лично для Николая, другой – для начальника штаба генерала Алексеева. А впоследствии нашли в бумагах царицы эту карту, оказывается, у нее каким-то образом очутился третий экземпляр! Это у немки-то, родственницы Вильгельма!
– Да это же всем известно, это в мемуарах Деникина напечатано!
– А известно ли вам, что Прибалтийский край немцы называют попросту "Erste deutsche Uberseekolonie"*, что им покою не дает идея: "Das grossere Deutschland"**, что они ко времени мировой войны тысяча девятьсот четырнадцатого года успели уже захватить ключевые позиции в царской России, завладели русской нефтью, русскими железными дорогами? Куда ни ткнись – немец! Генералы и полковники – немцы, аптекари – немцы, продавцы в магазинах, музыканты, фабриканты, зубные врачи – немцы, немцы, немцы...
_______________
* Erste deutsche Uberseekolonie – первой немецкой колонией
(нем.).
** Das grossere Deutschland – Великая Германия (нем.).
– Известно, – с деланно-безразличным видом отозвался Рябинин. – Все это известно. Боюсь, что ваш роман будет скучноват.
– Известно ли вам, что помещение у нас германских капиталов носило завоевательный характер? Что вместе с капиталом засылались и банкиры, чтобы захватить все сферы влияния?
– Но это же азы! Все капиталистические страны так действуют!
– Известно ли вам, что, засылая к нам немцев, Германия давала им наказ: "Говорите по-немецки за границей, не забывайте, что вы немцы, иначе Германская империя никогда не осуществит своего мирового назначения". А как они Польшу заселяли? Как выкачивали из России денежки? Как завладели семьюдесятью процентами газовых предприятий в России, почти всей электрической промышленностью и половиной химической? Все эти заполонившие Россию Коппель, Кертинг, Вальдгоф и прочие свои отчеты составляли на немецком языке! А швейные машины "Зингер"? Вот образец легальной контрабанды! В военное время компания Зингер оказалась разветвленной шпионской организацией, и в нелепом шаре над зданием Зингера на Невском проспекте была запрятана шпионская радиостанция. А графиня Клейнмихель, приятельница императора Вильгельма? А вдова великого князя Владимира Александровича, урожденная немецкая принцесса и прирожденная шпионка Мария Павловна? А немецкие пасторы, вертевшиеся в Царском Селе? А этот – как его? – гофмейстер двора, член государственного совета? Из его имения на острове Эзель передавались световые сигналы о движении наших кораблей. Барон Пиляр фон Пильхау создал целую шпионскую сеть, камер-юнкеры Брюмер и Вульф шпионили под ширмой лазаретов Красного Креста... Когда эту публику привлекали к ответственности, поступал запрос из канцелярии императрицы Александры Федоровны и шпионы снова оказывались на свободе. Они лезли во все щели, все эти фон-бароны, наглея с каждым днем!
Бобровников перевел дух и собирался обрушить новый поток фактов. Видимо, в нем еще не перекипели собранные для романа и еще полностью не осмысленные материалы, раз он так разговорился. Но он увидел скучающее лицо Рябинина и полное невозмутимого равнодушия пергаментное лицо князя Хилкова и замолк, рассмеявшись неожиданно добродушным и извиняющимся смехом.
– Эка прорвало меня. Но я вам объясню. Я вижу большой глубокий смысл во всем этом. Судя по тому, какую ярость вызывает новый строй России в сердцах американских, немецких и прочих и прочих правителей, этот строй сулит им мало хорошего. Но если взять только одну сторону – освобождение России от всяческих бескровных завоевателей, от иностранного ига и пробуждение ее национальных сил, то и это одно на веки вечные прославит советских освободителей. Вы, господин Рябинин, бьете себя в грудь и клянетесь, что любите Россию. Но вы повинны в тяжком преступлении, вы продали Родину, разбазарили ее, если не сами, то попустительствовали этому, а новые правители России вернули народу все, что у него было раскрадено. Вот это и будет идеей моего романа.
– Браво! – не выдержал наконец князь Хилков. – Крепко сказано! Брависсимо!
– Да обвинение-то прокурора в равной степени относится и к вам! раздосадованно крикнул Рябинин.
– Я не участвую в человеческой комедии, разыгрывающейся на земной планете, – галантно пояснил князь Хилков. – Я только зритель.
3
Перед отъездом в Советскую Россию Бобровников, выполняя обещание, побывал у Марии Михайловны. Она встретила его с меланхолическим видом, пояснила, что ей нездоровится, грустным голосом предложила чаю. Кроме Бобровникова, никого не было. Ему подали чай. В доме была какая-то гнетущая тишина. В огромных комнатах холодно и неуютно. Мария Михайловна говорила тихим упавшим голосом, куталась в пуховый платок, глаза ее припухли, будто она только что плакала.
– Очень любезно, что вы не отказались навестить несчастную одинокую женщину. Ваш отъезд всколыхнул в памяти давнее прошлое. Так странно, что вы спокойно сядете в поезд и поедете... туда! Мне всегда представлялось, что там давно уже ничего нет, пустота, провал... Мне как-то в голову не приходило, что туда можно вот так запросто – сесть в купе и поехать. России нет... То есть я имею в виду – той, нашей России. Та Россия, как град Китеж, погрузилась на дно озера, сгинула, исчезла...
Она говорила медленно и не очень связно. Как будто бредила. Она еще не опомнилась от недавнего сильного потрясения.
Приехал в Париж московский Большой театр – советский балет и советская опера. Мария Михайловна сидела в ложе. На сцене помещичьи девки собирали малину и пели "Девицы-красавицы"... На сцене варили варенье... и Татьяна Ларина назначала свидание Онегину... Прекрасные голоса, изумительная музыка Чайковского... Зрительный зал был наполнен разнаряженными женщинами. Сверкали колье, серьги, браслеты, кулоны, которые каким-то чудом еще уцелели от прежних времен... Сверкали лысины мужчин, неуклонно стареющих, доживающих дни здесь, в эмиграции, не у дел, в ненастоящей, на холостом ходу вертящейся жизни... Мария Михаиловна, потрясенная, растерянная, сидела в ложе и плакала, плакала неутешно, горько, обиженно. У нее было впечатление, что она из загробного мира, из могильного склепа ухитрилась подслушать явственно долетающие до нее звуки той, настоящей, благоухающей жизни.
Не ходи подслушивать,
Не ходи подглядывать
Игры наши девичьи...
– пели помещичьи девушки.
Сердце разрывало это стройное пение. Нет больше помещичьих девушек! Нет больше добрых нянь и соседей-помещиков! Ничего нет, миф, мираж, пустота...
Этот спектакль был рубежом в жизни Марии Михайловны. На следующее утро она поняла как-то сразу, внезапно, что пришла ее старость, что она безнадежно постарела, что не стоит больше притворяться и обманывать себя несбыточными надеждами, пудрой и косметическим массажем...
Люси теперь почти никогда не бывала дома. Она пропадала у графини Потоцкой. Друг дома неизменный корректный князь Хилков, дорогой Жан, по-прежнему приходил, с тревогой смотрел на Марию Михайловну, понимал ее переживания, но избегал затрагивать больную тему.
Мария Михайловна стала исступленно-религиозной. В доме появились какие-то тихие черные женщины. Мария Михайловна не пропускала ни одной службы в церквушке на Рю-Дарю. И вот в ту пору ее стала преследовать мысль, что нельзя допустить, чтобы на крышку ее гроба сбрасывали комья чужой, французской земли...
Напоив чаем Бобровникова, она сразу приступила к делу.
– Вы вправе пренебречь моей просьбой, господин Бобровников, но если бы вы знали, как это для меня важно... Это, пожалуй, уже последнее, что я хочу получить от жизни...
– Вы хотите что-нибудь послать со мной в Россию? У вас там есть родственники? – попытался помочь княгине Бобровников, видя, в каком она затруднении.
– Напротив. Я хотела бы получить оттуда... землю. Мою землю.
– Позвольте, – совсем растерялся Бобровников, с опаской посматривая, не рехнулась ли эта светская старуха, – но всем известно, что помещичьи земли в Советской России конфискованы, переданы народу!