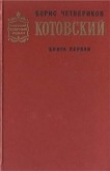Текст книги "Эстафета жизни"
Автор книги: Борис Четвериков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
2
Узнав, что Григорий Иванович Котовский формирует корпус и постоянно проживает в Умани, Орешников решил поехать к нему, чтобы поговорить обо всем начистоту, со всей прямотой и откровенностью, отвести, что называется, душу.
Котовский встретил радушно, оставил у себя ночевать, потчевал обедом, даже показал сына, чего не каждый удостаивался.
– Вот, брат, растет смена!
– Да ведь и у меня, Григорий Иванович, сын.
– Неужели! Поздравляю! Что же вы не известили хотя бы письмом? Леля! Слышишь, какая новость? У Николая Лаврентьевича сын! Сколько же ему? Леля! Ты слышишь? Уже скоро четыре года! Молодец! Имя какое выбрали? Леля! Ты слышишь? Вовка у них! Удивительное дело все-таки... Представляете, пройдет столько-то лет, нас уже не будет, Вовка будет уже не Вовка, а Владимир Николаевич, мой Гришутка будет уже не Гришутка, а Григорий Григорьевич... И будет у них своя какая-то жизнь, своя судьба, может быть даже не предусмотренная нами, своя собственная... Встретятся, скажут: "Кажется, наши отцы знали друг друга? Постойте-ка, давайте разберемся – значит, и мы с вами через отцов вроде как знакомы? Не правда ли?" И ничего плохого о нас не скажут, даже, может быть, похвалят: дескать, папы у нас были что надо! Удивительно все это получается!
– Немножко не так, – поправил Орешников. – Ваш-то, безусловно, скажет: "Славную жизнь прожил мой отец, с благодарностью вспоминают его люди!", а мой Вовка вздохнет и виновато признается: "А у меня отец, знаете ли, из белогвардейцев, чуждого класса. Но был помилован великодушной Советской властью".
Котовский пристально посмотрел на Николая Лаврентьевича, и мечтательная улыбка растаяла у него на лице. Ах вот оно что! Ущемлен человек, что-то у него не клеится!
– Что-нибудь случилось? Обидел кто? Давайте, давайте, выкладывайте без обиняков.
Орешников стал рассказывать. И как только стал рассказывать, самому вдруг представилось все таким мелочным, пустяковым. Даже неловко было ради чего же он специально приехал к Котовскому? На что жаловаться? Где факты? Ничего конкретного нет! И на хорошем счету, и орденом награжден...
Но Котовский понял, не нашел жалобу Орешникова мелочной, уловил даже то, что осталось невысказанным в сбивчивом и взволнованном его рассказе.
– Есть! Есть это у нас! – с огорчением говорил Котовский, морщась, как от боли. – Есть это комчванство и хвастание пролетарским происхождением! Отвратительная черта! Слава богу, от души поздравляю, очень за тебя рад, если ты родился в семье свинопаса, или молотобойца, или волжского грузчика. Это похвально, это ценно. Но расскажи еще, что ты делаешь для революции, как ты живешь? Не шкурничаешь ли? Не пьешь ли запоем? Не бьешь ли смертным боем жену? Да, рабочий класс в содружестве с крестьянством ведет нас к победам. Это факт. Но если человек и из чуждого класса встал на сторону революции, зачем же упрекать его происхождением?! Недавно я в Москве с Куйбышевым встретился – какой деятель, какой революционер! А происхождения непролетарского. Или Коллонтай – дочь генерала, а мы ее полпредом в Норвегию послали. Мало ли таких? А вот я другого знаю – командир, коммунист, и происхождение отличное, а копни глубже – дрянцо порядочное. Как видите, здесь нужен сугубо индивидуальный подход.
– Это-то верно, – грустно согласился Орешников. – Я и другие примеры знаю. Болезненное самолюбие приковывает мое внимание к любому факту, если этот факт говорит в мою пользу.
– Николай Лаврентьевич! Меня-то вы не убеждайте! У меня начальник штаба корпуса – в прошлом царский полковник, а как работает! Что вы мне доказываете? Товарищ Фрунзе организовал в Харькове общество ревнителей военных знаний, и там есть бывшие царские офицеры...
– Обидно читать, когда нашего брата, военных специалистов, обзывают "холопами всякой власти" да говорят, что нас можно использовать только в роли денщиков!
– Где это вы вычитали?
– Отец подшивает комплекты газет. Он и показал мне "Петроградскую правду". Кажется, Лашевич и Зиновьев обрушиваются.
– Так это давнишнее дело! За какой год подшивка? За восемнадцатый? Вот это вы удосужились прочитать, а как Ленин высказался на этот счет в письме ЦК, где призыв на борьбу с Деникиным, – этого не знаете? А там прямое осуждение такого неверного тона по отношению к военспецам и заявление, что партия будет исправлять эти ошибки. Так вот, Николай Лаврентьевич, всем, кто хочет добросовестно у нас работать, широко открыты двери. И мне все-таки кажется, что вы немножко предвзято смотрите на отношение к вам. Конечно, со временем Красную Армию постараются обеспечить командирами из народа. Это ведь вполне законное стремление. Но многие царские офицеры служили и служат в Красной Армии. А уж вас-то, я не знаю, кто мог чем-нибудь попрекнуть?
– Как! А служба в белой армии?
– Я-то об этом лучше других знаю!
– Потому что взяли меня в плен?
– Нет, не поэтому. А потому, что белый офицер Орешников узнал переодетого подпольщика Котовского и не подумал даже выдать его! Даже глазом не моргнул, хотя ехал с ним в одном вагоне и беседовал всю дорогу на возвышенные темы!
– Ах, это? Но ведь у интеллигенции есть особый род предрассудка: стыдно доносить. Даже в школьные годы у нас никто так жестоко не преследовался, как ябеды и фискалы.
– Хорошо. А какой предрассудок заставил вас выручить меня, когда я отбивался от деникинского патруля в Одессе? Какие соображения подсказали вам предупредить меня на званом обеде у французского военного атташе? Нет, Николай Лаврентьевич, не преуменьшайте ваших достоинств. И не проявляйте излишней скромности. Что вы мне твердите про белую армию?! Выводы: сейчас мы познакомимся с кулинарным искусством Ольги Петровны, а затем, если не возражаете, махнем в Харьков, к Михаилу Васильевичу Фрунзе.
– Что вы! Это неудобно...
– Что именно неудобно? Позавтракать? Или поехать к Фрунзе? Так позвольте вам сказать, что и то и другое и удобно, и приятно, и необходимо.
3
И они отправились после завтрака на вокзал, предварительно изучив расписание поездов. Орешников отговаривался и по мере приближения к цели все более смущался.
– Ну что я ему скажу? Зачем явился?
– Я буду говорить.
Однако тотчас, как очутились они в уютной квартире Михаила Васильевича, смущение прошло, осталось лишь светлое чувство радости, ощущение семейного согласия, атмосферы деятельности и творческого горения.
У Котовского было достаточно такта, чтобы не поставить человека в неудобное положение, когда в его присутствии рассказывают о его же добродетели и благородных поступках.
– Познакомьтесь! Мой старый друг, заядлый рыболов, знакомы еще по Кишиневу. Николай Лаврентьевич Орешников. Прошу любить и жаловать.
– Очень приятно познакомиться, – отозвался, улыбаясь, Фрунзе. Рыболов, говорите? Чудесное занятие! Если рыболов, значит, и природу любите, значит, знаете, что такое роса на траве, полосы тумана, сонная гладь реки... и этакая свежесть пронизывает... Я люблю предрассветные часы в лесу – я, к вашему сведению, заядлый охотник.
– Мы приехали разрешить спорный вопрос... – продолжал Котовский.
Орешников покраснел, полагая, что вот сейчас и начнется повествование о том, как благородно поступил Орешников, как выручил из беды подпольщика Котовского-Королевского.
– Сделаю все, что в моих силах! – отозвался Фрунзе, пока еще ничего не понимая, но заметив, как вспыхнул Орешников и как готов был протестовать.
Котовский продолжал с самым серьезным видом:
– Вот уже несколько лет мы с ним спорим и не можем прийти ни к какому решению. Скажите, Михаил Васильевич, когда рыба лучше клюет – перед дождем или после дождя?
От неожиданности расхохотались и Фрунзе, и Орешников, а вошедшая в этот момент Софья Алексеевна с благодарностью посмотрела на Котовского и с удовольствием на мужа.
Сразу исчезла напряженность, всем стало просто и приятно. Орешников разговорился и рассказал о рыбной ловле множество наблюдений и примет. И так же беззаботно рассказал Котовский о своих встречах с Орешниковым, пересыпая рассказ смешными словечками, острыми характеристиками.
Фрунзе все понял, это видно было по его умным глазам, в которых искрилось веселое лукавство.
– Ну что ж, товарищи рыбаки, мы все это обсудим. А мне тоже кое о чем надо посоветоваться...
И завязался оживленный обмен мнениями. Фрунзе рассказывал о перестройке Красной Армии, Котовский – о жизни 2-го корпуса, Орешников – о новом призыве в ряды армии, об удачах и неполадках, о перевооружении, о военной технике.
Когда Орешникову было представлено младшее поколение семьи – Танечка, смотревшая на незнакомого человека исподлобья, и беззаботно-оживленный Тимур, – Котовский немедленно сообщил, что у Орешникова тоже сын четырехлетний Вова.
– А где он? – заинтересованно спросил Тимур, на что Танюша по-взрослому, с той снисходительностью, с какой девочки разговаривают с младшими братьями и сестрами в присутствии старших, пояснила, что дядя здесь не живет, приехал из другою города – ту-ту-ту! – и поэтому Вова не может прийти к ним в гости.
– Пусть он приедет на поезде! – безапелляционно решил Тимур.
Всем понравилась железная логика его рассуждений.
– У них на все своя точка зрения! – воскликнул оживившийся Орешников. И не утерпел, чтобы не рассказать о своем Вовке: – Недавно моя жена (она студентка) растолковывала за обеденным столом всем домашним, какое будет устройство в коммунистическом обществе. Бабушка наша недоверчиво поджимала губы, отец издавал неопределенное "гым-гум" (такая у него привычка), а Вовка слушал крайне внимательно, видимо ухватывая самую суть. И вдруг он спросил: "И все будут давать бесплатно?" – "Да, Вова, – с гордостью ответила Люба (это моя жена), – и ты это время увидишь". – "И хлеб бесплатно? И ездить в трамвае бесплатно?" Мы смотрели на Вову с любопытством и с некоторым самодовольством подтвердили: "Ну конечно, Вова! И в театр бесплатно, и квартира бесплатно, и одежда бесплатно". Наш Вова был в полном восторге. С минуту он мысленно прикидывал и вдруг выпалил при общем молчании; "Вот здорово! А деньги копить будем!"
– Черт возьми! – хохотал Фрунзе. – Вот это сказанул! А вы говорите!
– Что-что? – вернулась из кухни Софья Алексеевна. – Я немножко недослышала... Как он сказал? Что копить?
Орешникова заставили повторить все сначала, и снова все от души смеялись.
Тимур, заметив, каким успехом пользуются рассказы Орешникова, проникся к нему доверием.
– Дядя, а ты умеешь сказки рассказывать?
Но детей отправили спать, и разговор снова принял другое направление. Котовский, высказываясь от своего лица, а отнюдь не ссылаясь на Орешникова, изобразил Михаилу Васильевичу двусмысленное положение военспецов, находящихся в рядах Красной Армии.
– Почему, собственно, они должны быть пасынками? – с обычной горячностью и напористостью говорил Котовский. – Право умирать рядом с нами в бою мы им предоставили, тем самым они стали с нами вровень, нельзя их пускать вторым сортом, нельзя допускать уколов их самолюбию!
– Конечно, – согласился Фрунзе. – Тем более, что число их не такое маленькое. В печати приводились данные. С июня тысяча девятьсот восемнадцатого года по август тысяча девятьсот двадцатого в Красную Армию влилось что-то, дай бог памяти, около пятидесяти тысяч офицеров, больше двухсот тысяч подпрапорщиков, фельдфебелей и унтеров, да еще немало военных чиновников, врачей, лекпомов. Старые кадровые офицеры, офицеры царской армии, в наших рядах, бок о бок с нами боролись за утверждение диктатуры пролетариата. Сейчас нам нужно стремиться, чтобы военные специалисты, как таковые, как обломок какого-то отмершего государственного строя, прекратили свое существование, чтобы их не было у нас, а были только военные работники, одни – партийные, другие – беспартийные, но все являлись бы военными работниками Рабоче-Крестьянской Красной Армии, верными интересам пролетарской государственности. Я об этом говорил и говорю, да так оно и будет в ближайшем будущем.
Фрунзе нет-нет и вспомнит рассказ Орешникова о Вовке:
– Так, говорит, деньги копить будем? Замечательно!
При этом он так заразительно заливался смехом, что заставлял смеяться и других.
– Ваша жена студентка? Небось и вам приходится подтягиваться и знакомиться с марксизмом? Ведь рискованно попасть впросак, как попал Вова?
– Конечно, наверстываю упущенное. Иначе нельзя.
– Особенно в наше время!
– У нас в корпусе, – добавил Котовский, – вовсю идут занятия по ликвидации неграмотности.
– Как же иначе? Каждый красноармеец должен быть вполне грамотным. А скоро мы будем требовать, чтобы он был образованным, всесторонне развитым, политически подкованным, а по части военного дела – опытным человеком, с максимальной военной квалификацией.
Софья Алексеевна, то накрывая на стол, то возясь в кухне, все время в хлопотах, поминутно входила и выходила, но не теряла нити разговора.
– Ну, товарищи, вы теперь пропали! – объявила она, услышав последние слова мужа. – Теперь вам придется выслушать доклад о единой доктрине, о реорганизации армии, это у нас целые дни до глубокой ночи, а затем Михаил Васильевич закрывается в кабинете, и это уже до утра... О единоначалии не говорили? Подождите, будет и о единоначалии!
Михаил Васильевич разводил руками и виновато улыбался:
– А как же иначе, Сонечка? Ведь животрепещущее!
И пояснил Орешникову и Котовскому:
– Она по-своему права, все заботится, чтобы я не утомлялся. А не получается. Нельзя, не можем мы с прохладцей действовать, не такое время!
– Я сейчас особенно остро чувствую, что остался недоучкой, признался Орешников.
– Все мы учимся, наверстываем упущенное. Взять Григория Ивановича. С корпусом работы невпроворот, хватает дел и по общественной линии. Ведь Григорий Иванович, учтите, государственный деятель, без него не проходит ни одной конференции на Украине, ни одного совещания. А он – заочник Военной академии. Тоже не шуточки. Кстати, как идет учеба, Григорий Иванович?
– Идет! – вздохнул Котовский. – Если бы не моя закалка, не гимнастика по утрам, ни за что бы не выдержал. Сейчас начал прорабатывать "Капитал". А без этого как? Легче без весел по океану плавать.
Орешников слушал их и все наматывал на ус.
Фрунзе лукаво посмотрел на жену:
– Софья Алексеевна не ошиблась, о единоначалии я не могу не заговорить. Казалось бы, дело очевидное, а сколько споров, сколько шумихи вокруг этого вопроса, и все под маркой блюстителей революционности!
– Троцкий, конечно? – спросил Котовский отрывисто и хмурясь.
– Да, и он. Все норовят Ленина подправить и свои куцые идейки протащить! Приглядишься – и что же видишь? Оказывается, с кем эта публика солидаризируется – с реакционерами, выступавшими на страницах покойного журнала "Военное дело"! Ведь и они, как Троцкий, утверждали, что мы плохо воевали, то есть не по тем правилам, которые преподавали в Академии генерального штаба при царе.
– Плохо воевали, а морду всем набили, и баронам и адмиралам, проворчал Котовский.
– Дореволюционным военным кругам, – напомнил Орешников, – было присуще поклонение иностранным образчикам, особенно немецким. Только лучшая часть русского офицерства училась военному делу у Суворова и Кутузова, у Румянцева и Петра Первого.
Орешников затронул вопрос, волновавший Михаила Васильевича.
– Я изучал постановку военного дела за рубежом. Основа германской военной доктрины – ярко выраженный наступательный дух. Это хищническое государство готовит армию для захвата, для грызни с конкурентами. В упоении германская военщина утрачивает чувство реальности. Клаузевиц полагал, что военный успех зависит исключительно от разума полководца. Но ведь есть еще экономика, техника – тоже немаловажные факторы! А народ?! Недооценка противника, преувеличение роли внезапности, излишний апломб вот порочная сердцевина германской доктрины. А для Франции характерны неуверенность в своих силах, неспособность смело искать решения боя. Надо отметить переобременение французской армии новой формации элементами техники. Батальонам придаются танковые взводы, ротам – огромное количество пулеметов... И это не случайно: капиталисты больше надеются на мертвую технику, чем на живых людей, – кто их знает, этих людей, каковы их чаяния и надежды! По тем же соображениям французскую армию намечают в значительной мере укомплектовать африканцами. Только призадумались бы господа капиталисты: а вдруг и чернокожие начнут кое в чем разбираться? Очень своеобразно решает военный вопрос Англия. У нее установка – иметь флот, равный соединенным флотам двух сильнейших морских держав. С появлением на мировой арене такого соперника, как Соединенные Штаты, Англии придется придумывать что-нибудь новое.
– Если будет перечислена еще одна держава, – вмешалась в разговор Софья Алексеевна, – то твои гости умрут с голоду, а ты будешь за это отвечать.
– В самом деле, товарищи, – спохватился Фрунзе, – чего это мы стоим? Идемте к столу!
И тут же стал оправдываться и доказывать свою правоту:
– Но это же естественно, Соня! Если повстречаются, скажем, любители природы... Разве им наскучит говорить о грибах, о том, будет ли дождливым лето... Музыканты, собравшись вместе, поведут свои разговоры... А мы о своем. У кого чего болит, тот о том и говорит. Вопросы боеготовности волнуют каждого, не только военных. Пока есть хоть одно жерло пушки, наведенное на нас, мы обязаны заботиться, чтобы все было наготове. И по-моему, нет почетнее воинского звания! Ведь если некому охранять наш дом, наш мирный труд, наши богатства, тогда бессмысленно и огород городить!
– О единоначалии, Софья Алексеевна, мы действительно поговорили, рассмеялся Котовский.
– Мало! Не надейтесь, что это все! Михаил Васильеевич на эти темы может говорить часами. Продолжение, вероятно, еще следует!
Предсказание Софьи Алексеевны сбылось: Михаил Васильевич вернулся к этому разговору. Он рассказал о том, что еще в 1920 году Ленин решительно высказывался за переход армии к единоначалию, как единственно правильной постановке работы. Коснулся Михаил Васильевич и споров с оппозиционерами. Наконец сообщил, что единоначалие в Красной Армии – вопрос решенный.
– Ведение боя, – говорил он с убеждением человека, выносившего свои идеи, – есть в конце концов творческий акт, который только тогда наиболее продуктивен, когда командиру, получившему приказ вышестоящего начальника, обеспечено единство командования, полнота власти над подчиненными.
– А если командир беспартийный? Как же быть с политическим руководством? – настойчиво спрашивал Орешников, имея в виду, конечно, себя.
Фрунзе ответил не сразу. Видимо, взвешивал, насколько серьезно отнесется Орешников к такому пояснению.
– Партия играла и будет играть руководящую роль во всей нашей военной политике, – медленно начал он. – Кто как не Коммунистическая партия является организатором наших побед? Кто вносил элементы порядка и дисциплины в ряды красных полков? Кто поддерживал мужество и бодрость бойцов? Кто налаживал тыл армии, создавая там советский порядок? Кто разлагал ряды врага? Это делали политические органы партии, и делали блестяще. Политическая работа в армии и впредь сохранит свое первостепенное значение. В этом и сила и отличительная особенность нашей армии.
Фрунзе внимательно посмотрел на Орешникова.
– Вы спрашиваете о беспартийных командирах? Но ведь советских? Но ведь наших? Но ведь пополняющих знания и, значит, изучающих марксизм?
– Да! – искренне рассмеялся Орешников. – Вы очень хорошо ответили на мой вопрос! А вот о военной доктрине почти ни слова, хотя Софья Алексеевна предупреждала, что без этого не обойдется.
– Представьте, Николай Лаврентьевич, выступаешь иной раз на совещании, присутствует исключительно командный и комиссарский состав, а приходится защищать, казалось бы, бесспорное положение: что для командного состава необходимо единство взглядов. А ведь это и есть единая военная доктрина.
– Понятно!
– Некоторым слово "доктрина" не нравится. Но дело-то не в названии? Как вы думаете?
– Как же назовешь иначе? Я под единой военной доктриной подразумеваю определенный выработанный взгляд на весь комплекс порядков, методов, задач армии, принятый в том или ином государстве.
Сказал это Орешников и смутился.
– Как? Как вы сказали? – оживился Фрунзе. – Чуточку скомкали, но в основном, кажется, верно. У Германии свои установки, у Франции свои. А наша единая военная доктрина тем более должна существенно отличаться от других, ведь и Советская держава – государственное образование совершенно нового типа!
Фрунзе рассказал, какие споры поднимались по этому поводу, как некоторые люди договаривались до того, что никаких доктрин нам не надо и что вообще военной науки не существует...
– Да уж, не существует! – проворчал Котовский. – Я вот корплю иногда целыми ночами, хотя всего лишь заочник... Легче легкого безответственные фразы запускать!
Беседа перекинулась на другие темы. И вдруг, без всякой видимой связи, Фрунзе обернулся к Орешникову и спросил:
– Вы бы не возражали, Николай Лаврентьевич, против перевода вас в Петроград? Тем более что и семья у вас там...
Орешников даже вспыхнул от столь неожиданного и лестного предложения, особенно когда Фрунзе назвал при этом довольно высокий пост.
– Но ведь я беспартийный...
– Об этом мы, по-моему, уже толковали. У нас сейчас очень высокий процент партийных среди командного состава. Но о многих беспартийных, которые работают с нами, смело можно сказать: хорошо было бы иметь побольше таких партийцев, как эти беспартийные!
И в эту минуту Орешников понял, что – помимо общих рассуждений о военной доктрине, о кадрах – между Котовским и Фрунзе шел еще другой разговор. Котовский "между строк" рассказал о всех переживаниях Орешникова и дал свою рекомендацию, а Фрунзе тотчас прикинул, где и как можно использовать толкового и приемлемого идеологически офицера. Орешников был восхищен и этим тактом и этой оперативностью.
4
Под большим впечатлением от всего виденного и слышанного покидал Орешников гостеприимный дом Фрунзе. Все ему понравилось: и бойкие ребятишки, и душевная Софья Алексеевна. Но особенно – Фрунзе.
Когда они с Котовским вышли на улицу, уже стемнело. Харьков переливался бесчисленными точками освещенных окон и уличных фонарей. Каменные фасады, асфальт, даже перила мостов все еще не остыли после знойного дня и дышали теплом. А от густой листвы деревьев и от реки наплывала благоуханная прохлада.
Котовский шумно набрал полную грудь этого вкусного воздуха. Делая выдох, воскликнул:
– Экая благодать!
Он, конечно, сразу заметил, какое впечатление произвела на Орешникова встреча с Фрунзе.
– Все понял с одного намека! – удовлетворенно подытожил он. Редчайший человек, такие делают эпоху. Увидите, он перевернет все сверху донизу и создаст вполне современную армию. Если он за что берется, можно считать, что дело сделано. А вас я поздравляю. Поезжайте в свой полк, укладывайте чемодан, сидите на нем и ждите приказа о переводе.
– Даже не это главное, – ответил глубоко взволнованный Орешников. Главное, он видит в человеке человека. А ведь обычно начальство имеет в виду подчиненных, а не людей. Если бы меня даже никуда не перевели и вообще мною больше не занимались, я все-таки счастлив, что познакомился с редкостным человеком.
– Может быть, вы скажете, что я Козьма Прутков и говорю о том, что Волга впадает в Каспийское море, но я не перестаю удивляться: до чего легко и до чего выгодно быть хорошим! Гораздо приятнее и выгоднее, чем плохим!
Орешников мягко улыбнулся и не сразу ответил:
– Да, но не у всех это получается.
Д Е В Я Т А Я Г Л А В А
1
Маркову было странно, что никто не догадывается об удивительном происшествии, о великом событии, которое совершилось в природе. Такие же будничные лица у прохожих, так же обыкновенно, спокойно жужжат трамваи, так же судачат на скамейках в сквере няни, предоставив самим себе нарядных ребятишек. А у него, у Маркова, напечатана книжка, первая книжка!
Марков вышел из издательства "Прибой". Во всем его существе было смятение, в сознании полный кавардак. Марков остановился, зажмурился от солнца, бившего прямо в глаза. Под мышкой у него была довольно солидная кипа: издательство выдавало автору бесплатно двадцать пять экземпляров книги – авторские экземпляры.
Марков оглянулся направо, налево.
"Как же это они не знают, что у меня издана книжка?! Не в журнале, не в сборнике среди других мой рассказ, а целая книга моих рассказов, моя собственная книга! Вот она, даже типографской краской и керосином пахнет. "Крутые повороты". Рассказы. 237 страниц. Моя!"
В трамвае Маркову казалось, что пассажиры на него с любопытством поглядывают, а кондукторша с особым почтением дала ему сдачу и оторвала билет. Догадываются все-таки! Марков силился состроить скромное, заурядное лицо – дескать, мне что, мне не привыкать-стать выпускать книги! Но физиономия сама собой расплывалась в счастливую улыбку. Трамвай громыхал. Так они и ехали через весь солнечный город: начинающий писатель Марков и будущие его читатели.
Едва ли не самым чутким, отзывчивым и благодарным читателем была Оксана. Сначала она долго переворачивала во все стороны книжку, посмотрела и на корешок, и на титульный лист, хороша ли бумага, хороша ли обложка, прочитала, в какой типографии напечатано.
– Так! – сказала она удовлетворенно. – Теперь, значит, почитаем!
– Да ты все читала, все как есть!
– Мало ли что. Читала просто так, а это в книжке напечатано. Ой, матенько! Михаил Марков! Неужели это ты?
2
Крутоярову была вручена книга с трогательной надписью автора. Надежда Антоновна получила книгу отдельно.
Крутояров понимающе усмехнулся, глядя на растерянное от гордости и счастья лицо Маркова.
– Первая книга! – вздохнул он чуточку с завистью. – Это, брат, как первая любовь.
Ушел к себе читать книгу, а потом долго расхаживал по квартире, то останавливаясь перед этажеркой и машинально поправляя на ней салфеточку, то сосредоточенно разглядывая что-то в окно.
В этот вечер Оксану и Мишу пригласили поужинать вместе. Пока Надежда Антоновна гремела тарелками, Крутояров тихо, задумчиво рассказывал о работе, о себе, о том интимном, о чем никогда не говорится, разве только вот так, нечаянно, под настроение.
– Я не знаю более глубокого наслаждения, чем работа за письменным столом, чем часы творчества. Я страшно люблю свою работу, без нее не знал бы, как и жить. Уже много лет изо дня в день, без праздников, без выходных, никогда не давая себе спуску, тружусь и тружусь с напряжением всех сил, а уж если говорить точнее, работаю всегда, даже гуляя по улицам, даже беседуя с друзьями, даже во сне...
Все слушали Крутоярова с острым вниманием. Оксана была вся переполнена безудержной гордостью, что в конце концов и она тоже не лыком шита, тоже жена настоящего писателя. Оксана даже и сидела как-то неестественно выпрямясь, в неудобной позе. И лицо у нее было надменное, что ей вовсе не шло. Она только выжидала удобный момент, чтобы со своей стороны ввернуть словечко – насчет того, что вот и Миша тоже... впрочем, не Миша – зачем Миша?! – вот и Михаил Петрович тоже... и так далее... что-нибудь о том, как Марков сидит ночи напролет, а утром розовый, свежий, как будто хорошо выспался... или о том, как собирал-собирал материалы об Евгении Стрижове, а Стрижов вдруг испортился...
Крутояров продолжал свой задушевный рассказ:
– Литературный труд – это подвиг, это труд, помноженный на умение сосредоточиться, подобно тому, как полководец на определенном участке сосредоточивает основные силы и прорывает фронт. Ну, и плюс еще умение воплощаться в различнейших людей, проникать в помыслы и стремления старика, ребенка, женщины, отставного генерала, бюрократа-чиновника, труса и рубаки, шпиона и сенатора... Я знал одного гипнотизера... некий Михаил Михайлович Лединский... он жаловался, что ему страшно среди людей: они перед ним как стеклянные, он видит все их побуждения, читает все их мысли... Нечто похожее испытывает писатель. Даже очень похожее! Странно, что это не приходило мне в голову раньше... Я понял это сейчас, в этот момент...
Так как Крутояров замолк, призадумавшись, Оксана нашла уместным ввернуть:
– Вот и Михаил Петрович тоже...
Марков так взглянул на нее, что она прикусила язык, даже не окончив фразы.
– Надо будет это когда-нибудь написать, – продолжал Крутояров, кажется не заметив маленькой супружеской сцены. – Это ведь необычно, своеобразно. Только как передать? Трудно выразить словами... Композитор, пожалуй, мог бы изобразить...
Он вынул записную книжку, с которой никогда не расставался, и что-то записал в ней. Потом заговорил опять:
– Шесть часов утра, а я еще не ложился. Склоняюсь над белыми листами бумаги. Быстро ходит перо. Затем откидываюсь на спинку кресла и думаю, думаю, весь наполненный неистовой любовью, или щемящей жалостью, или ненавистью, которая душит меня, или терпким презрением... И по мере того как я вглядываюсь в них, моих героев, завеса приподымается предо мной, и я вдруг догадываюсь о некоей сущности, о силах, которые двигают этими людьми, о непреложности их поступков... Не подумайте, что могу распоряжаться их судьбами по своему произволу: хочу – замуж выдам, хочу повешу. В романе никто даже улыбнуться не может, если ему не положено. В романе, брат, строго! Но давайте-ка ужинать, а то я тут растекаюсь мыслию по древу и гоняю вас по лаборатории творчества, а у Надежды Антоновны непременно что-нибудь пригорит, и я виноват буду.
– Ты шуточками не отделывайся, – остановила Надежда Антоновна, начал, так рассказывай. – И обернулась к Маркову и Оксане: – Вам не скучно?
– Что вы! Что вы!
Крутояров растрогался, воодушевился и стал с еще большим чувством рассказывать о ночных часах работы. А Марков раздумался о Надежде Антоновне. Почему он раньше не приглядывался к ней? Она ухитряется всегда остаться в тени. Например, почему она ни разу не предложила почитать ее книги стихов? Да и Марков не попросил у нее книгу... Удивительные существа эти женщины! Они могут жертвовать своим тщеславием ради тщеславия любимого. Они довольствуются тем, что самый дорогой для них на свете человек блистает талантами, умом, благородством – ведь мужчины так падки на почет и одобрение!
Занятый своими наблюдениями и открытиями, Марков упустил нить повествования Крутоярова. Кажется, он рассказывал все о том же – о ночных встречах с героями своего произведения.
– Тишина, – говорил он, – она изумительна в таком громадном городе. Еще я заметил: если тишина звенит, это сигналы мозга – усталость. Тогда надо подняться, пройтись из угла в угол, сделать несколько энергичных движений, а еще лучше – распахнуть настежь окно. Все это занимает несколько минут, а мысль все работает, связывает какие-то нити, находит образы, слова... Можно приниматься за перо! Зеленый абажур, как светофор, приглашает: "Путь открыт! Двигайся дальше!" Я дружу со своим рабочим столом. Мерно отсчитывают минуты настольные часы в чугунной рамке. Они, как метроном музыканту, не дают сбиться с такта. Веточка мимозы в вазе это Надя принесла с Невского. Рядом с мимозой бокал, наполненный множеством пестрых карандашей, среди них и цветные – зеленые, красные, коричневые, они удобны для пометок, для обозначения глав, для вставок или для правки рукописи, когда уже негде вписать хотя бы одно слово, а необходимо выделить какую-нибудь мысль. Непременно купите цветные карандаши, Миша! Или, еще лучше, у меня есть запасные, я вам подарю!