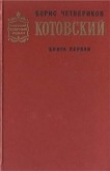Текст книги "Эстафета жизни"
Автор книги: Борис Четвериков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
– Понятно, – сказал Менжинский, делая запись в блокноте.
– А почему он получил десять лет, позвольте вам задать вопрос? Почему не пристрелили его, как бешеную собаку?
– Видите ли...
– Я отвечу сам. Ему дали вместо высшей меры десять лет, потому что судья изобразил убийство как уголовное. Между тем оно политическое! Это и Фрунзе говорил!
– Понятно, – повторил Менжинский. Ему нравилась запальчивость профессора.
– Но это еще не все, что я хочу рассказать. То, что я сейчас вам открою, – видимо, первый случай в истории человечества, когда отец доносит на преступные действия родного сына.
2
Много трагедий разыгралось перед глазами Менжинского за годы работы чекистом, и когда он был заместителем Дзержинского, и когда после его смерти возглавил ОГПУ. Не раз он видел припертого к стене неопровержимыми фактами лютого врага, когда кипела в змеином вражьем сердце бессильная ярость и туманила взгляд смертельная тоска. Не раз случалось распутывать сложнейшие узлы, созерцать предельное человеческое падение, низость, продажность. Не раз приходилось наблюдать, как преступник извивается ужом, лжет, недоговаривает, а потом, махнув на все рукой, выкладывает все карты на стол, называет сообщников, зарубежных хозяев, выдает явки, пароли лишь бы сохранить свою подленькую жизнь.
А сейчас перед Менжинским раскрывалась большая драма. И Менжинскому становилось понятно, почему профессор Кирпичев не обратился в местные органы политуправления: он изверился, он уже не доверял у себя в Харькове никому, после того как увидел убийцу Котовского на свободе, а своего сына участником какого-то заговора.
– Значит, у вас есть сын, – помог Менжинский, так как Кирпичев опять замолчал, видимо переживая свое горе, видимо захлебнувшись своими страшными по сути словами. – Взрослый? Я говорю: взрослый у вас сын?
– Врангелевский офицер. Вернулся – молчком, и я не лез с расспросами. У каждого, знаете ли, свое. Вернулся – и слава богу. Документы в порядке, не то чтобы скрывался как-нибудь. Ну, думаю, или взяли в плен и отпустили на все четыре стороны, или сам не захотел забираться в чужие края. Словом, кто старое помянет, тому глаз вон. Мы с ним никогда и не поминали и этой темы не касались. Поступил он на службу – старшим счетоводом. Ну, думаю, и то хлеб, счетоводом так счетоводом, не о такой его карьере, конечно, я мечтал, да ведь что делать-то. Так уж получилось.
– Отношения у вас отдаленные? О чем-нибудь вы все-таки разговариваете? Как он дальше планировал свою жизнь?
– Меня называет "папахен", считает, что я выжил из ума. Начнешь с ним по-серьезному разговаривать, а он давай всякую белиберду молоть: тирли-мирли... трум-бум-бум... – дескать, о чем с тобой, старым ослом, толковать? А не то скажет: "Вот что, пупсик! Воспитывать меня надо было раньше, этак четверть века назад. Сейчас мне, мил человек, тридцать с гаком, сам как-нибудь о себе подумаю".
– Нехорошо. Это он в армии огрубел?
– У него такая точка зрения: родители – это бросовый хлам, самое подходящее место для них – на кладбище, совесть, справедливость, свобода и так далее и так далее – это все пугала, чтобы народ в страхе держать, это все боженьки, на которые лоб крестят. "А что же есть?" – спрашиваю. "Есть я, говорит, мой живот, который требует пищи, мой мозг, который должен смекать..."
– Нахватался! Импорт, сплошь импорт! Сначала я так понял, что у вас чисто семейные разногласия. Оказывается, дело обстоит значительно хуже. Но пока – я вижу одни слова.
– За словами следуют и дела. Если бы он не презирал меня да не был уверен, что я из чисто животной привязанности к своему детищу не пикну, он был бы осторожнее. А то придут к нему какие-то темные личности, покажут глазами на меня, а он только бросит: "Папахен". Те сразу и успокоятся одного, мол, поля ягода, sapienti sat. Правда, после того уйдут в комнату сына и двери закроют. Но оружие-то я видел, как они в университетский подвал возили. Расчет у них тот, что кому придет в голову университет подозревать? А у меня квартира, видите ли, при университете. И еще кое-что видел. Дома-то боялся писать, а уже здесь, в Москве, на вокзале притулился в почтовом отделении, будто телеграмму составляю, и вкратце набросал.
– Хорошо. Спасибо. Я ознакомлюсь.
– Я, знаете ли, интеллигент старой формации, у меня все сложно получается. Думал, думал, прикидывал и так и сяк и решил, что молчать не могу. Кто знает, может быть, потому и убийца Котовского на свободе, что там эта шайка орудует? Может быть, все это связано одно с другим?
– Понимаю, как вам было трудно. Поступили вы правильно, честно. Только вот... не лучше ли вам повременить с возвращением домой? Все никуда не ездили и вдруг катнули в Москву! А? Они не будут ничего уточнять, малейшее подозрение – и вам будет худо. Как вы думаете?
– Я уехал, никого не извещая. Сказал только соседке, что еду лечиться, подозреваю рак.
– Ну так это же блестяще! Умница! Вот мы и положим вас в больницу на исследование.
– Стоит ли труса праздновать? Я ведь не из робкого десятка. Вы не смотрите, что выгляжу рамоли. Я спортом занимаюсь. Не боюсь я их. Ей-богу, не боюсь.
– Видите ли, народная мудрость гласит, что богу молись, а к берегу гребись. Да и для нас, Зиновий Лукьянович, удобнее, если мы будем знать, что вы в безопасности.
– Если для пользы дела, я готов. Но вы прикиньте-ка: не встревожит ли эту публику длительный мой отъезд? Не поспешат ли они попрятать концы в воду?
– Конечно, можно послать вашему сыну письмо главного врача... Нет! Вот что я скажу. Поезжайте и везите с собой справку из больницы – это мы приготовим, – справку, что вы нуждаетесь в операции. Приедете, покажете, посоветуетесь: боюсь, мол, под ножом умереть, не знаю, как и поступить...
– Сын скажет: "Надо быть дураком, чтобы что-то еще думать! Раз врачи говорят, значит, ложись". Да. Звучит убедительно. Еду.
Они еще долго беседовали. Менжинский вызвал двух своих помощников. Уточняли адреса, имена. Внимательно разобрали заявление, составленное Кирпичевым. Тем временем принесли и справку из больницы – на больничном бланке, все как полагается.
– Переночевать есть где?
Оказывается, у Кирпичева в Москве родня. Кирпичев сообщил и адрес.
– Совсем хорошо. От родни надо взять записочку для сына. Не забудете?
Когда все было переговорено и стали прощаться, Кирпичев почувствовал, что невероятно устал, совсем выдохся.
– Вы, поди, ничего еще не ели? – всполошились чекисты. – Идемте к нам в столовую! И мы тоже хороши, не спросим, не догадаемся...
– Как у вас с деньгами? – заботливо справился Менжинский. – Ведь вы собрались так внезапно...
– Во-первых, деньги у меня есть, – ответил Кирпичев. – Во-вторых, если бы и не было ни копейки, ни за что бы у вас не взял. Что вы хотите? Интеллигент! Со всеми свойственными предрассудками! Гражданское мужество и денежное вознаграждение – нет, никак это несовместимо.
– Ладно, ладно! Вас не переупрямишь. Но руку пожать уж разрешите. Мы обязательно еще увидимся, дорогой товарищ Кирпичев.
Был уже вечер, когда Зиновий Лукьянович вышел из большого здания на Лубянке, бывшего страхового общества "Россия". Был август. Августовский звездопад. На московских улицах было людно. На московских бульварах слышался женский смех, чье-то пение, говор, постукивание каблучков. Ярко светились рекламы кино, витрины магазинов.
3
На вокзале Харьков-Пассажирский суета. На путях – нет счета рельсовым переплетам, тупикам, стрелкам, будкам с крохотными окошечками. Куда только не отправляются поезда! Откуда только не приходят!
В залах ожидания у буфетной стойки пьют пиво и лимонад. На покрашенных желтой масляной краской скамьях женщины с грудными младенцами, узлы, крошки хлеба и корки арбуза... У билетной кассы – тесная очередь и вежливый рассудительный милиционер.
– Не присобачивайтесь сбоку, молодой человек, – просит милиционер. Всем хочется поскорей. А ты, тетка, не толокшись, чего толокшиться? Командировочные? Командировочные в кассе номер два, будьте любезненьки.
Востроглазые девушки грызут семечки, складывая шелуху в карман. Хлопцы в заломленных набекрень бараньих черных шапках отпускают такие забористые шутки, что дряхлый дед слушал-слушал, плюнул и отошел.
Был август. Августовский звездопад. Синее небо томилось, ветер еле-еле шевелил листья пирамидальных тополей в привокзальном сквере. Падающие звезды чиркали по небу. Во мраке нескончаемых путей гукали маневровые паровозы, ползли взад и вперед товарные составы – то платформы, то крытые вагоны с пломбами, то вереницы промасленных цистерн.
Где-то не то на шестнадцатом, не то на девятнадцатом пути беззаботно посвистывал сцепщик вагонов с зажженным фонарем в руке. Помашет – и далеко-далеко отсчитает короткими гудками шестнадцатый или девятнадцатый путь маневровый паровоз, лязгнут тормозами вагоны, медленно поползут и стукнутся на тихом ходу об цистерны – прицепляй, сцепщик вагонов, и снова давай сигнал!
А вот на который-то путь прибыл пассажирский. Приезжих не так-то много. Не больше, не меньше, чем обычно. Среди приезжих двое ничем не примечательных людей, таких, что пройдешь мимо и не оглянешься – мало ли встречных и поперечных.
Двое приезжих почти не разговаривали. Видно, все у них уже говорено-переговорено. Прошли в буфет, что-то заказали, съели, затем выпили по кружке пива. Мало ли кто выпивает кружку пива, слоняясь по харьковскому вокзалу?
Двое приезжих посматривали на часы. Но тоже так, без особенного интереса. Почему не посмотреть на часы, если они сами лезут в глаза, пощелкивая электрическими щелчками?
– Пошли, – сказал один из приезжих.
– Да, пожалуй, – согласился второй.
Видимо, им было недалеко, потому что они не подумали занимать очередь на трамвайную или автобусную остановку. Они пошагали куда-то в темноту, вдоль рельсовых путей. Оба были неразговорчивы. Оба скрылись во мраке, который казался еще черней после яркого освещения вокзала.
В этот вечер в 18.00 по московскому времени вступил на дежурство сцепщик вагонов Зайдер. У сцепщика вагонов работа какая? Дай свисток, помаши фонарем и жди, когда подползет товарняк, лязгнут тормозные тарелки, а тогда делай прицепку и снова давай сигнал. Дело несложное, нужна только сноровка. Вообще же – ничего особенного.
Так было и на этот раз. Машинист видел, как сцепщик помахал фонарем. Отозвался на этот сигнал, повернул рычаг, и состав пополз, кряхтя и позвякивая...
Толчок. Стоп! Коротко гукнул паровоз...
Сцепщик не отвечает.
Маневровик подождал и гукнул второй раз.
Никакого ответа.
Какого лешего он там возится, этот свистун?
Слышал машинист крик или не слышал? Убей бог, он не сумел бы ответить на этот вопрос! Кажется, что-то такое слышал... А скорее всего – нет, не слышал... Какое там! Мог ли слышать, ведь в составе-то по меньшей мере до тридцати платформ!
Однако машинист понял, что какая-то неполадка. Молчит сцепщик, нет сцепщика. Что он там замешкался? Вечер августовский, темно-темно!
– Ну чего там? – крикнул в темноту машинист.
Вот, пожалуй что, в этот момент мелькнуло у него подозрение: уж не случилось ли чего?
– Сашко! – еще через некоторый промежуток времени произнес машинист.
– Чего, Иван Никанорыч? – отозвался с тендера чумазый кочегар.
– Пожалуй, надо тово... сходить бы надо. Сигнала нет... ничего нет... А? Как ты думаешь?
– Раз так, то конечно, – согласился кочегар. – Мне, что ли, пойти?
– Пожалуй, надо тово... обоим вместе. Для точности.
Труп извлекали из-под вагона в присутствии официальных лиц: дежурного по вокзалу, милиционера, представителя ГПУ.
Отмечено было, что фонарь сцепщик уронил далеко от вагона. Кроме того, и кепка сцепщика тоже была найдена метрах в десяти.
Но никому не хотелось раздувать истории. Начнется следствие, примутся строчить протоколы, вести дознание... А чего тут дознаешься? Дело ясное: раздавило колесами. Может быть, сцепщик был пьян и с пьяных глаз сунулся под колеса вагона? Или просто не рассчитал?
Акт был составлен в трех экземплярах: "Числа такого-то... Мы, нижеподписавшиеся... Труп был извлечен в мертвом состоянии. Голова целиком и полностью отделена от туловища... Что и удостоверяется..."
Подписали акт в глубоком молчании.
– Все, товарищи, – сказал уполномоченный. – Можете идти.
– М-да, – сказал машинист Иван Никанорович уже тогда, когда очутился на паровозе. – Кепка-то где лежала? А? Сашко! Выходит так, что он сбросил кепку и полез делать сцепку? Или как? Нас это, конечно, не касается, но кепка... и вообще... Наводит меня на разные мысли...
– Дело ясное, что дело темное! – согласился чумазый кочегар.
В местной газете в отделе происшествий было набрано петитом:
"Погиб при исполнении служебных обязанностей".
4
Профессор Кирпичев крепко спал после утомительной дороги, после всех переживаний да еще после обильного ужина, каким угостила его двоюродная сестра, женщина примерно его же возраста.
Он остановился у нее, объяснил, что бросил все и примчался, чтобы показаться лучшим докторам, потому что боится ракового заболевания.
Сестра посоветовала ему непременно идти к доктору медицины Лихачеву, он и ей помог и вообще славится тем, что буквально воскрешает мертвых.
– Докторов-то хватает, – проворчал Зиновий Лукьянович.
Тут на него посыпались советы, что нужно есть, чего не нужно есть, что некоторые рекомендуют чеснок, а один знакомый уверяет, что все спасение в лимонах. Она же сама стоит за алоэ.
– Алой! Алой надо выжимать! – кричала родственница Зиновия Лукьяновича. – Хочешь, уступлю два горшка алоя?
Она была глуха и поэтому сама говорила очень громко.
Профессор Кирпичев крепко спал, когда раздался звонок в дверях и встревоженная сестрица сообщила, что спрашивают его, а кто – она не расслышала. Ах да, кажется, это самое, – из больницы!
Из какой больницы?
Зиновий Лукьянович тотчас узнал одного из помощников Менжинского, хотя он и был теперь в штатском.
– Здравствуйте! Вы товарищ Кирпичев? Вы просили подать машину в десять ноль-ноль. Машина у подъезда. Прием у профессора начнется через полчаса.
– А-а! Да-да! – сообразил Кирпичев. – Видишь, Маша, какая забота о человеке! И машина, и принимают вне очереди как приезжего!
– Не забудь сказать, что у тебя ломота в пояснице!
Когда сели в машину, чекист пояснил:
– Мы боялись, что вы успеете уехать утренним поездом, а есть важное сообщение.
– Сообщение? Уже? – Кирпичеву почему-то представилось, что его сын уже арестован.
– Не то, что вы думаете.
Менжинский и в эту ночь почти не спал. Но он принял душ и был свеж, бодр и деятелен.
– С постели подняли? Не стыдно ли, какой соня! А говорите – спортом занимаетесь.
Опять тот же знакомый кабинет. И кресло, в котором, казалось, только что сидел, а ведь прошла ночь, прошла почти половина суток.
– Садитесь, пожалуйста. Папиросы.
– Кажется, вы уже предприняли некоторые шаги?
– Мы нет. Но они – предприняли.
– Кто они? Эта самая компания? Сын в том числе?
– Пока нет. К этому мы тоже присмотримся. А пока другое. Нам приходится зачастую решать крайне запутанные ребусы. Вот вчера вы возмущались, что убийцу Котовского неправильно судили, как обыкновенного уголовного преступника. Ваше возмущение вполне понятно. Но давайте разберемся во всей этой истории. Что такое Зайдер? Продажная тварь, мелкая гадина, наемный убийца. Так?
– Так!
– Если мы согласимся на том, что он наемный убийца, значит, его кто-то нанимал?
– Логично.
– Так кто же? Этот вопрос стоял перед нами. Мы обратили внимание на мягкий приговор убийце. Далее, мы выясняли, кто именно и какими каналами действует, добиваясь перевода Зайдера в Харьковскую тюрьму. После этого мы проследили, каким образом преступник вопреки букве закона остался на свободе. Надо было выявить его связи. Но Зайдер, видимо, распустил язык, в пьяном виде говорил лишнее. Кой-кому не понравилась его болтливость, да и сам наймит был им больше не нужен. И вот вчера мы получили сообщение, что Зайдер убит.
– Убит?! Значит, бог есть! Ф-фу! Даже от души отлегло!
– Да, убит. Его подсунули вечером под маневровый поезд.
– Вот оно что. Грешно, но радуюсь. Я сейчас в таком месте нахожусь, где сознаются. Так сознаюсь, я даже думал на старости лет не погнушаться и самолично пристукнуть эту гадину. Говорят, паука раздавить – сорок грехов прощается. Кто же оказался, как вы изволили выразиться, "кое-кто"?
Кирпичев сгоряча задал этот вопрос и по вежливым, непроницаемым лицам чекистов – чекистов школы самого Феликса – понял, что спросил лишнее.
– Извините, опять все та же интеллигентская закваска: подай да выложи. Зайдер убит – и, значит, с этим все. Может быть, я не прав, но на мой взгляд необходимо, чтобы такие подлые имена, как, например, эта самая Каплан, стрелявшая в кого – в самого Ленина! – или тот же Зайдер – такие имена должен знать весь народ, чтобы на веки вечные предавать их проклятиям, чтобы их имена были ругательным словом, чтобы они постоянно напоминали: беречь, беречь жизнь каждого советского человека, а тем более лучших из лучших!
– Для истории все будет записано, – с уважением выслушав профессора, заявил Менжинский, – никому не удастся ускользнуть. Но пока... некоторые факты было бы преждевременно опубликовывать. Иначе нити повели бы нас слишком далеко. Да и вообще полезно знать больше, чем это представляется врагу. Учтите: вы тоже ничего не знаете об обстоятельствах гибели Зайдера. Все это сугубо между нами. Вы вообще ни о чем не знаете, ни о чем не догадываетесь, сына ни в чем не подозреваете – так? У нас вы не были, заняты исключительно своим лечением и делами своей двоюродной сестры так, кажется, она вам приходится?
Тут Кирпичев почувствовал, что нельзя больше злоупотреблять временем этих перегруженных работой людей. Распрощался, взволнованный, взбудораженный, но и в то же время успокоенный, вернулся к сестрице и, присоединив к справке врача тысячу добрых советов старой девы, увесистый пакет с гостинцами и нежнейшую записочку "противному мальчишке, который не хочет нас знать", отправился на вокзал к дневному поезду на Харьков.
"Сумбур! Полный сумбур!" – размышлял он дорогой.
Стал припоминать: что случилось радостное, от чего даже сердце трепещет? Две вещи: выполнил долг. Это относительно сына. И что-то еще? Ах да, убит убийца... Ничего себе радости у вас, профессор! Передали в руки правосудия сына и узнали об убийстве! Ну и что из того? Правильно радуюсь! Правильно поступил! И совесть у меня чиста. Одно грустно – что нет уже в живых Котовского, нет Фрунзе... Молодые! Полные сил! И зачем было Михаилу Васильевичу ложиться на операцию? Так все нехорошо вышло... Крепись, Кирпичев! Нельзя нос на квинту! Как говорил Котовский? Не хныкать! Вперед! Орлы!..
Уже подходя к вокзалу, Кирпичев, остановился посреди улицы и громко произнес:
– Кто сказал, что профессор Кирпичев беспартийный? Вздор! Самый настоящий партийный! Прошу учесть!
Прохожие с удивлением оглядывались. Кирпичев четко, по-военному прошагал в помещение вокзала и отчеканил кассирше:
– Один билет до Харькова! Благодарю!
Д В А Д Ц А Т Ь П Е Р В А Я Г Л А В А
1
Шли недели, месяцы, казалось бы, давно все вошло в норму, а Крутояров все еще переживал дни, которые пробыл в Одессе. Крутояров снова и снова подходил к гробу Котовского, снова и снова смотрел на ослепительные одесские улицы, на лениво играющее переливами бирюзы спокойное, самоуверенное море. Крутояров видел, как ничтожество, жалкий трус, мизерный вертлявый человечек подходил к богатырю, силище, массивному, ладно скроенному Котовскому и стрелял в упор... Это Крутоярову мерещилось много раз, и он настолько воплотился в облик Котовского, настолько стал им, что явственно чувствовал: это в него, в Крутоярова (вместе с тем не Крутоярова), стреляли в упор, это он, Крутояров (но не Крутояров), падал навзничь с пробитой аортой, и кровь лилась у него изо рта... Чрезвычайно сложное ощущение раздвоенности и в то же время слитности!
Никого не касалось то, что переживал Крутояров, это был его внутренний мир, его капище, куда никому нет входа. Даже Надежде Антоновне не положено было этого знать. Это писательское, это то, что впоследствии воплотится в трепещущие страницы произведения и будет вручено людям хозяевам всего на земле.
А так, если посмотреть со стороны, Крутояров жил, как живут обычно: пил крепкий чай, добродушно выслушивал рассуждения Надежды Антоновны о том, что вредно и что полезно, охотно обсуждал ее новые стихи, беседовал с Марковым, с Оксаной, с Орешниковым, с теми писателями, которые были вхожи в его дом и которых он любил. Что еще? Бродил по ленинградским улицам, рылся в книгах у букинистов, ходил в цирк и театр, смотрел в кино "Кабинет Калигарри".
Только иногда прорывалось у него в разговоре то, что было продуктом его размышлений, осмысливания. А так как он никого не впускал в свой внутренний мир, многое, что он говорил, казалось бессвязным, неожиданным.
Опуская ломтик лимона в чай и наблюдая, как ломтик погружается на дно стакана:
– Хм... Всемирная история... М-да-а...
Надежда Антоновна выжидательно смотрит.
– Я о Гейне. "Под каждой могильной плитой лежит всемирная история". Конечно, лежит. А зачем? Надо, чтобы она не лежала. Надо, чтобы она служила. Чтобы люди знали, как обстояло дело раньше и куда двигаться теперь.
– Так и есть, – пожимает плечами Надежда Антоновна. – Историки пишут историю, а школьники готовят уроки по истории и получают пятерки.
– Хм... да... пятерки. Историю писать должны писатели. Что они там насочиняют, эти историки? Или же историки должны быть писателями.
– А писатели историками. Тебе налить еще чаю?
Беседуя с Марковым:
– Вероятно, в будущем появятся еще удивительнее люди. Даже наверняка. Но посмотрите, что за народ у нас сейчас. Я уж не говорю о больших деятелях. Куйбышев, Киров – какие индивидуальности, какие судьбы! Помните восстание чехословацкого корпуса на Волге, спровоцированное иностранцами? Куйбышев, Тухачевский, Блюхер, Сергей Сергеевич Каменев – какие все блестящие имена! – им было поручено предотвратить смертельную опасность. Они успешно действуют. И вдруг страшная весть: покушение на Ленина. Что же делает Валерьян Владимирович? Рыдает? Заламывает руки? Нет, он и этот удар оборачивает успехом: "Освободим родину Ленина – Симбирск! Отомстим врагу за нашего вождя!" А? Гениально? Все потрясены сообщением из Москвы, все жаждут мести. И вдруг этот лозунг. Он попал в самую точку. Все ринулись в бой. По-моему, это потрясающе. Через три дня Ленину можно было отправить телеграмму: "Дорогой Владимир Ильич! Взятие вашего родного города – это ответ за вашу одну рану, а за вторую – будет Самара!"
– Да, это здорово! – отзывается Марков. – И взяли Самару, слово сдержали.
– Так происходит повсюду. Так поступает каждый, самый, казалось бы, заурядный человек, потому что нет уже заурядных, разбужены невиданные силы, расщеплен атом народного гения, раскованный Прометей и в сотой доле не выражает того, что сейчас свершается у нас на глазах. С каким трепетом будут узнавать об этом грядущие поколения, как бережно будут собирать каждую крупинку, как восторженно и благодарно будут читать каждую правдивую строчку об этих днях! Записывать, записывать надо. Ведут ли сейчас дневники? Вы, например, не обзавелись дневником?
– Обзавелся-то я давно, еще в армии. Очень любил дневник, все-все туда записывал, еще Григорий Иванович, помню, удивлялся. А теперь забросил...
– Забросили? Нехорошо. Обязательно продолжайте, Михаил Петрович! Это надо.
– А вы, Иван Сергеевич?
– Как вам сказать. Купил тетрадку, красивую, в клеенчатой обложке. Вывел красивым почерком: "Тысяча девятьсот такой-то год". На этом кончилось.
– Вот видите!
– Ничего не вижу. И себя осуждаю: писать надо. Мы живем в чудесное время. Мы прокладываем первую борозду. Почетно? Почетно. И скажите, какая другая эпоха могла бы продемонстрировать подвиги не одного, не тысячи, а ста миллионов героев? Разве мы, современники, не обязаны рассказать об этом? Если сто миллионов героев, то о всех ста миллионах и рассказать! Разве они этого не заслуживают?
Для всех эти длинные рассуждения или отрывочные возгласы, то полные яда, то восторженные, были всего лишь случайными репликами писателя Крутоярова. А в нем происходил мучительный процесс, он сопоставлял, вникал, за частным случаем искал типическое, за плоским голым фактом высматривал глубину, социальный смысл.
Пигмей стреляет в исполина. Но ведь в этом-то и суть нашего времени. Изверился в своей правоте старый мир. У него дредноуты, пушки, воздушная флотилия... А правоты нет. Нет правоты, да и только. Ноль целых, ноль десятых. Вот почему он не брезгует последней дрянью. Берет в союзники ничтожество. Неужели он воображает, что, убив Котовского, сделает Красную Армию беспомощной? Нет, он не так глуп, чтобы думать это. Но что же ему остается?
Мысль Крутоярова работает дальше. Убийца Котовского не заслан из-за рубежа. Правда, он выходец оттуда, правда, он своего рода космополит. Но ведь жил среди нас? Ходил по улицам наших городов? Ел наш хлеб? Сидел рядом с нами в театре, в трамвае, на скамейке парка?.. Вывод: присмотрись к соседу. Только помни предостережение: будь осторожен, но без подозрительности. Наивно думать, что все враждебные нам люди отбыли в чужеземные края, остались и здесь. Кто заблуждался – и оттуда вернутся, вернулся же Бобровников. А эти, если бы и уехали, – не жалко.
Крутояров походит на шахтера, который глыба за глыбой откалывает пласты. Так он будет корпеть и корпеть, пока раздумья не воплотятся в героев, наделенных плотью и кровью, вкусами, мировоззрением, биографией. И тогда явится потребность написать. Но и это не все. Понадобится еще дать чертежи, построить здание будущего произведения, а здание художественного произведения, как и обыкновенное, не допускает просчетов. Нельзя один угол построить выше, другой ниже, так и крыши не возведешь и дом упадет.
Беспокойство владеет Крутояровым. Придет в комнату Маркова:
– Не помешаю?
– Что вы, Иван Сергеевич!
И тогда все пойдет по установившемуся шаблону. Крутояров начнет по своей привычке прохаживаться по комнате. Марков отложит книгу. Он понимает Крутоярова – тоже познал муки творчества, тоже пьет из этого родника. Каждая встреча с Крутояровым будоражит, наэлектризовывает, но при всем глубоком уважении к Крутоярову, при всем признании его таланта Марков идет своим путем, он и не может иначе, у него по-своему думается, пишется, говорится.
Вот Крутояров остановился. Космы его седеющих волос спутаны, брови сдвинуты. Он пришел не советоваться, но и не вещать. Просто ему необходим слушатель.
– Основной постулат энергетики, – гремит его голос, – при минимуме затрат максимум результатов. Согласны? Но не формула ли это вообще для человеческой деятельности? А? То-то и оно.
Марков говорит, улыбаясь:
– Я не о вас, просто хочу рассказать без связи с нашим разговором. Я сейчас читаю занятную статью о трудовом процессе писателей. Оказывается, Куприн напечатал "Молоха" еще в тысяча восемьсот девяносто шестом году. Через шестнадцать лет, выпуская "Молоха" отдельной книгой, Куприн сделал правку и заменил: слово "гигантский" словом "огромный", "ритмические звуки" – "размеренными звуками", заменил слова "мистифицировать", "дебаты", "процессия"...
– Ерунда, – отрезал Крутояров. – Мистифицировать – это и есть мистифицировать, слово обжилось и нечего его чураться. Дебаты тоже. А впрочем... конечно, не следует сорить у себя в произведении. Это было бы неряшливо.
И вдруг расхохотался:
– А-а, понимаю, это вы меня за мой "постулат" прохватили? Ловко! Но ведь мы с вами не роман пишем, а так, разговариваем. Попробуйте стенографировать обыденные разговоры – мы все очень коряво говорим.
Снова хождение по комнате. Взад и вперед. Взад и вперед. И совсем неожиданно:
– Зря вы вчера в театр не пошли.
– Не мог.
– Почему вы не пишете пьесы? У нас бе-едно с пьесами! Режиссеры вопят. Вот вам сюжет. Дарю! Ставят пьесу о бюрократе, а бюрократ сидит в первом ряду, смотрит и аплодирует: "Актуально, говорит, дельно, говорит, правильно автор сигнализирует. Отреагировано! Будем, говорит, изживать на данном отрезке времени пятна прошлого!" И не догадывается, каналья, что он-то и есть это пятно!
– Это, скорее, годится для фельетона, – смеется Марков.
– О бюрократизме и Ленин предупреждал. А разве не страшная штука пошлость? Она просачивается, липнет. Замечено, что посредственность предприимчива и плодовита. Но у нее и еще свойство: скользит, никак не ухватишь... Но что я вам хотел сказать? Специально за этим шел и забыл... Ах да: помните, как осталась непреподнесенной книга Котовскому? Ничего не откладывайте. Поезжайте навестить Ольгу Петровну. Если у вас есть друзья, съездите к ним, проведайте. Не обижайтесь, что лезу с советами. Хороший тон рекомендует давать советы не раньше, чем тогда, когда к вам за ними обратятся. Но не могу утерпеть!
– Вы не оправдывайтесь, верно говорите. Никак не научусь владеть временем. Захлестывает – и ничего не успеваю. Вот узнаю адреса и поеду. Ничего тут сложного нет. Только наверняка опять не раскачаюсь. К Стрижову, на что он живет здесь же, на Фонтанке, полгода собирался! Тяжел на подъем. Нехорошая это черта, вы правы. Надо перевоспитать себя. Вот освобожусь немного и займусь собой. А знаете, какая главная причина моей медлительности? Творчество! Творчеством заболел! Никогда не предполагал, что к этому зелью можно так пристраститься. Хуже водки! Тянет и тянет. Хожу как сомнамбула. Оксана спросит: "О чем думаешь?" – "О Марианне". "Какой еще Марианне?" – "Ну, ты не знаешь, из рассказа..."
2
В сентябре Марков решил поехать повидаться с Ольгой Петровной, посмотреть на памятные места.
Ольга Петровна поселилась с детьми и сестрой в Киеве. Марков нашел ее спокойной, задумчивой. Она стойко переносила постигшее ее несчастье. На лице ее появилось выражение непреклонности. Взгляд был наполнен затаенной, запрятанной в себя болью и вместе с тем подчеркнутой гордостью. Нет, она не порадует врагов слезами и отчаянием!
Она по-прежнему сохраняла самые сердечные отношения с котовцами. К ней обращались. Ее слово было решающим при всех обстоятельствах.
Побывала она и в Ободовке. Встречали ее коммунары с почетом. И Ольга Петровна радовалась, что дело у них ладится, обещает разрастись.
Там, в Ободовке, доживал свои дни боевой конь Котовского Орлик. Его не заставляли работать. Он свободно разгуливал по всей территории коммуны и осторожно, одними губами брал кусочек сахару, если угощали.
Ольга Петровна и рада была видеть его, и в то же время это было для нее мучительно. Сердце болезненно сжималось, слезы навертывались на глаза. Уж очень живо все вспоминалось, никакого самообладания не хватало, чтобы и тут сохранить хотя бы внешнее спокойствие. Зато маленький Гришутка радовался Орлику шумно, беспечно и очень любил его.