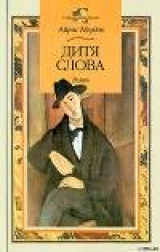
Текст книги "Дитя слова"
Автор книги: Айрис Мердок
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
ЧЕТВЕРГ
Был четверг, утро. Я явился к Кристел, когда не было еще и восьми. Она явно удивилась, увидев меня.
– Что случилось, золотой мой, привет, я не ждала тебя сейчас.
– Почему же ты меня не ждала сейчас? Очевидно, потому, что ожидала увидеть вчера вечером?
– Да, но, когда ты не появился, я решила, что тебя что-то задержало.
– Задержало?
– Мы то и дело поглядывали на улицу, а потом…
– Мы?
– Мы с Ганнером.
– Ты, значит, сказала Ганнеру…
– Да, я сказала ему, что ты будешь прогуливаться по улице, только мы несколько раз выглядывали, но тебя не видели, а потом, боюсь, забыли.
– Забыли?
– Ну да. А потом, когда он ушел…
– В какое же время он ушел?
– Должно быть, около полуночи.
– Ты хочешь сказать, что он был у тебя с семи до полуночи?
– Да. Я кормила его ужином. Я никак не ожидала, что он просидит так долго. У меня ведь был приготовлен для тебя ужин. Но он его съел.
– Вот, значит, как – съел. Что же ты дала ему на ужин?
– Рыбные палочки с горошком и абрикосовый торт. Ему понравилось. Он сказал, что никогда раньше не ел рыбных палочек.
– Господи! А ты не хочешь знать, почему я не явился? Я-то думал, ты будешь вне себя от волнения.
– А что случилось?
– Мальчишки накачали меня наркотиками. Дали мне торта, пропитанного какой-то гадостью.
– А теперь ты в порядке?
– Да, но провел чертовски странный вечер. Пришел в себя только после полуночи. – Я не стал рассказывать Кристел про мистера Османда – слишком это было неприятно. Вечер получился, конечно, престранный. Я вспоминал его не как сои, а скорее как реальность – словно меня действительно куда-то отвезли и показывали всякое-разное, только я не мог четко припомнить, что именно. Передо мной возник мистер Османд в виде таракана. Помнил я и мягкого доброго зверя, вдруг заполнившего собой все пространство. Но ведь было же еще что-то очень важное, что-то вроде математического уравнения или формулы, по что именно?
– Не приготовишь мне чаю, милая? Как же, черт побери, все у вас сложилось, что хотел сказать тебе Ганнер, он, случайно, не приставал к тебе, пет?
– Нет, конечно, нет! Мы беседовали.
– О чем?
– О, обо всем. О прошлом, о тебе, о его работе, о жизни в Нью-Йорке, о собаке, которая была у него в Нью-Йорке, – ее звали Рози, и вот эта собака…
– Перестань, Кристел, перестань, ты сведешь меня с ума. Ты хочешь сказать, что вы с Ганнером сидели тут, ели рыбные палочки и самым обыкновенным образом разговаривали о самых обыкновенных вещах? Я этому не верю.
– Ну, конечно, все было не так уж обыкновенно. Все было очень даже странно. Я так тряслась, пока он не пришел, – думала, в обморок упаду. Но он был такой добрый, такой добрый. Уже через минуту после того, как он вошел, я почувствовала себя лучше, ох, много лучше, и сейчас чувствую себя лучше…
– И вы, значит, беседовали о собаке, которая была у него в Нью-Йорке.
– Мы разговаривали о самых разных вещах – так легко было с ним говорить. Он хотел знать, что мы делали с тех нор, как он в последний раз видел нас.
– Должно быть, получился потрясающий рассказ.
– И он спрашивал разные разности про тебя.
– Например?
– Был ли ты несчастлив, ходил ли когда-нибудь к психоаналитикам…
– Надеюсь, ты сказала ему, что этими глупостями я не занимался!
– Конечно, сказала. Он говорил о тебе так мягко, так по-доброму…
– Жалел, значит, меня – как это мило с его стороны!
– Да, конечно, не так ли… но я сказала ему, что он проявил большую доброту, повидавшись с тобой.
– А что он сказал?
– Он сказал, что это принесло ему облегчение.
– Ох, Кристел, Кристел. Ничего-то ты не понимаешь – ведь все это прах и пепел. Дай мне чаю, ради всего святого. Он пришел лишь затем, чтобы почувствовать к нам презрение, почувствовать презрение к тебе, увидеть нашу бедность и убедиться в том, какая у нас премерзкая жизнь. Он пришел, чтобы торжествовать над нами.
– Он сказал, что ты достоин занимать лучшее место.
– Он увидел эту комнату, увидел твое платье. Это была не доброта, это – реванш. Не можешь ты считать это проявлением доброты. Если ты так считаешь, ты полная тупица.
– Это было проявлением доброты, – сказала Кристел, – было. Ты же не знаешь, тебя здесь не было. А он держался так мягко.
– И снова целовал тебе руку?
– Когда уходил – да.
– Как трогательно. Когда же он еще зайдет полакомиться рыбными палочками и абрикосовым тортом?
– Никогда, – спокойно сказала Кристел. Я пил чай, а она сидела напротив меня, положив руки на стол. Поверх платья на ней был несвежий рабочий халат. Густые пушистые волосы ее были тщательно зачесаны за уши, крупное жирное лицо казалось таким беззащитным, влажная нижняя губа оттопыривалась, широкий курносый нос покраснел. В комнате было холодно. Она сняла очки, за которыми прятались ее подслеповатые золотистые глаза.
– Никогда?
– Мы больше не увидимся.
– Он так и сказал?
– Да.
– Он думает, что он – Бог. А о том, чтобы встретиться со мной, он ничего не говорил?
– Сказал, что, возможно, захочет встретиться с тобой еще раз, но должен прежде это обдумать.
– Как любезно с его стороны.
– Хилари, по-моему, нам надо уехать из Лондона.
– Это его идея?
– Да.
– Кристел, у меня сейчас начнется припадок.
– Он сказал это самым мирным образом, заботясь о нашем же благополучии. Он сказал, что, по его мнению, ты вполне сможешь найти работу в каком-нибудь провинциальном университете. Мы могли бы начать новую жизнь. В Эксетере, или в Глазго, или где-нибудь еще.
– Кристел, милая, я знаю, что ты не очень умна, но неужели ты не видишь разницы между доброй заботой и черт знает каким нахальством?
– Это не было нахальством, не было, мы говорили так откровенно, он был так искренен, я еще никогда ни с кем не разговаривала так – без утайки, мы говорили все, что думали, мы все обсудили, и это было необходимо, это было хорошо – не только для него, но и для меня, он так удивительно все понимает, и это так хорошо. Я сказала ему, что была в него влюблена, и когда я это впервые почувствовала, и…
– Что?!
– Я была влюблена в Ганнера – я же тебе говорила, да и как могла я не влюбиться: ведь он был так добр ко мне… и я все еще люблю его…
– Кристел… а он знал об этом… тогда?
– Я сказала ему… в ту ночь… иначе я бы никогда ему не позволила… о, конечно, он знал… и он все помнит…
– Как это мило с его стороны – все помнить. Кристел, ты убиваешь меня.
– Но я же говорила тебе…
– До меня тогда это не дошло – не так, как сейчас. Неважно. Итак, значит, вы болтали о той незабываемой ночи, и он поблагодарил тебя, и ты поблагодарила его, и вы простились навсегда.
– Не совсем так. У тебя все это выглядит совсем иначе, чем было. Он был очень расстроен, то есть, я хочу сказать, он переживал, он и сюда-то пришел, чтобы переживать, и ему стало легче, когда он рассказал мне, – я знаю, что стало, и я была очень этому рада, ох, так рада помочь ему… Так что теперь мы оба помогли ему и…
– Привет и до свиданья.
– Разве можем мы продолжать знаться с ним?
– Господи, да не желаю я с ним знаться!
– Это и невозможно. Куда лучше сделать то, что в наших силах, и проститься. Мы оба будем лучше себя чувствовать – много лучше и, быть может, это что-то изменит, я уже чувствую, что может изменить. Неужели мы не могли бы уехать из Лондона и поселиться где-то еще и начать новую жизнь? Мне бы так хотелось жить в сельской глуши. Я вдруг почувствовала, что это возможно – новая жизнь, лучшая жизнь…
– Поехали в Австралию.
– А почему бы и нет? Я с тобой куда угодно поеду… и я могу где угодно работать.
– Кристел, ты сама не знаешь, что ты говоришь. Хорошо, что я вчера не явился. Я мог бы убить его. У меня такое чувство, что с меня бы сталось.
– Но почему… почему же… ведь он был так добр…
– Не смей больше употреблять это слово, или я закричу.
– И получилось все хорошо… мне стало хорошо… оттого, что я увидела его…
– Ты действительно выглядишь очень спокойной и довольной собой.
– Я не спокойна, – сказала Кристел. – Я вовсе не спокойна. – Крупные слезы выкатились из ее глаз и побежали по толстым щекам, а глаза тотчас снова наполнились слезами. – Повидайся с ним еще раз, – сказала она. – Повидайся всего один раз и будь с ним добр, прошу тебя, чтобы все было как надо.
– Никогда ничего не будет как надо. Он никогда не сможет меня простить.
– Не в этом дело, – сказала Кристел. – Это ты должен простить его. Тогда ты поступишь как надо. Если ты простишь его, в таком случае… перед ним как бы откроется перспектива… и он сможет…
В этот момент я вспомнил уравнение, которое казалось мне таким важным прошлой ночью, – уравнение, на котором зиждется тайна мироздания. Простить равновелико быть прощенному. Сейчас, при трезвом свете дня, это казалось просто набором слов.
Я допил чай. Кристел продолжала плакать.
* * *
Снова я явился на набережную Челси в пять часов вместо шести. Шел мелкий снег – крошечные снежинки колыхались в недвижном воздухе, не решаясь ни взлететь, ни опуститься на землю.
Весь день на службе мне хотелось кричать – то от радости, то от боли. Я взял у Артура часть моей работы, но делать ничего не мог. Все это бумагомаранье уже казалось мне непостижимой ерундой. Понимал ли я вообще когда-нибудь эти запутанные формальности, находил ли удовольствие в том, чтобы их разбирать? Мы с Артуром в общем-то избегали друг друга по обоюдному согласию, и я вздохнул с облегчением, когда позвонил один из его несчастненьких и он, извинившись, ушел. Я, видимо, не мог по-настоящему простить его за то, что он посмел выгнать меня из своей квартиры, а он не мог по-настоящему простить меня за то, что я оскорбил женщину, которую он любит. Я, конечно, был больше виноват, чем он, но это едва ли имело значение. Похоже, это уравнение насчет простить и быть прощенным не такое уж простое, даже когда все вроде бы ясно.
Часы на службе тянулись для меня нескончаемо долго, но я как-то сумел досидеть до конца, не потеряв рассудка. Дженни Сирл пригласила меня в Архив поиграть в настольный футбол. Теперь, когда стало известно, что я ухожу с работы, я вдруг стал очень популярной личностью – буквально нарасхват. Два моих сослуживца, которых я вообще не знал, – они работали в других отделах, не связанных со мной, – даже пришли ко мне, чтобы расспросить об Австралии. Я пытался размышлять о будущем, но будущее выглядело голой стеной. Это, конечно, очень мило со стороны Ганнера предлагать мне поступить на службу в университет Эксетера или Глазго. Но даже если бы я захотел последовать его совету, я знал, что шансы получить академический пост – в моем возрасте и при моем послужном списке – равны нулю. Кто напишет мне рекомендацию? Ганнер? Как заметил много лет тому назад Ститчуорзи, я ведь на самом-то деле не ученый. У меня нет ничего за душой, кроме некоторых способностей к грамматике, умения манипулировать словами, а его за все эти годы я никак не использовал.
За весь день я создал лишь письмо мистеру Османду, которое послал на адрес школы. Я написал также директору и сообщил, что пытаюсь разыскать мистера Османда. Я знаю, что он уже много лет как ушел из школы, но я уверен, что у них есть адрес. В письме мистеру Османду я выражал сожаление, что он застал меня в таком плачевном состоянии, но что надо мной подшутили, дав мне наркотики, что я надеюсь скоро снова его увидеть и тогда мы сможем поговорить о былых днях. Я заверял его в своей вечной благодарности за все, что он для меня сделал, и выражал надежду, что он чувствует себя хорошо и доволен жизнью. Письмо было сухое – письмо старому школьному учителю. Я был ужасно огорчен, что оно получилось таким, но просто не мог сосредоточиться и написать иначе. Что же до «надежды», которую я выражал в конце, она, по размышлении, показалась мне пустой. Ну как может мистер Османд быть доволен жизнью? Ему наверняка уже за шестьдесят, и он несомненно одинок. «Консультант-наставник» – что это могло означать? Несомненно, нечто трагическое. Он уже явно не преподает, а что еще в этом мире может его радовать? Вышел ли он в отставку, или его просто уволили за то, что он погладил по голове или обнял за плечи какого-то мальчишку после экзаменов? По всей вероятности, я был лучшим его учеником, а посмотрите, что из меня получилось. Я, конечно, так и не объяснил ему, почему ушел из Оксфорда. Интересно, что он об этом думал?
Я вышел со службы в половине пятого и прямиком направился в Челси. Никаких неприятных ощущений после приема наркотиков у меня не осталось. Я даже заставил себя немного поесть за обедом. Голова у меня была удивительно ясная, и я был полон энергии. Мне казалось, что я мог бы одним махом перепрыгнуть через Темзу. Я усиленно старался не думать о том, что будет после моей встречи с Китти, и в общем мне это удавалось. Вполне возможно, это – наша последняя встреча. Если даже мне предстоит снова встретиться с Ганнером, Китти я увижу сегодня, скорее всего, в последний раз. Или она захочет еще раз побеседовать со мной после того, как я увижусь с Ганнером, если я с ним увижусь? Может быть, мне даже предложить это? Мои размышления дальше не шли – они сгорали по мере того, как текли дневные часы, поглощаемые ожиданием встречи.
Без четверти шесть, после того как я раз восемь прошел мимо дома Ганнера, глядя на залитый золотистым светом ряд окон гостиной, я почувствовал, что дошел до точки, и, ринувшись к двери, нажал на звонок. И тотчас обнаружил, что дверь приоткрыта. Я просунул в щель ногу и прислушался.
– Проходите наверх, вы знаете дорогу. – Это был голос Китти.
Я пошел наверх, тихо ступая по толстому ковру, окруженный теплыми запахами новой полироли для мебели и ароматом духов Китти, мимо всяких сверкающих вещичек на полочках и великого множества небольших картин, поблескивавших, как раскрытые глаза, и вошел в комнату, где мы разговаривали с Ганнером. Глазам моим предстало весьма экзотическое зрелище.
Китти, набросив на плечи полотенце, сидела на низком, обитом атласом, кресле у камина. На решетке горел неяркий огонь. Бесчисленные лампы под абажуром бросали мягкий рассеянный свет на разнородные безделушки, расставленные на разнородных столиках. Желтый медальон ковра горел, точно драгоценный камень. Китти в длинном шерстяном вечернем платье синего павлиньего цвета, с капюшоном, висящим на спине, сидела ко мне лицом. За ее спиной, держа в руке щетку, стояла Бисквитик и явно расчесывала волосы Китти. Она была закутана в великолепное сари из темно-коричневого шелка с золотой каймой. Черные блестящие волосы Бисквитика были расплетены и потоком ниспадали по спине. Я продолжал стоять у порога, а она, с бесстрастным видом, внимательно посмотрев на меня, сияла несколько волосинок со щетки, скрутила их в шарик своими длинными тонкими пальцами и швырнула в огонь. Потом застыла – безразлично терпеливая, как животное, уставясь на подол платья Китти. Легонько коснулась щеткой затылка Китти и снова замерла, опустив глаза, видимо, дожидаясь, когда Китти велит ей уйти или продолжать расчесывать волосы.
Темная масса волос Китти была отброшена назад с высокого лба, и на меня смотрело ее лицо, ярко освещенное поставленной на каминную доску лампой, – таким я его еще никогда не видел. Храброе, вызывающе безрассудное, красивое лицо. Я отчетливо видел цвет ее глаз – больших, очень темных, серых с просинью, крупный нос казался еще крупнее, губы – пухлее, они были чуть надутые, дышавшие жизненной силой, волевые, исполненные поистине животного самодовольства. Я посмотрел на это лицо, и вселенная, словно большая птица, тихо совершила круг и остановилась.
– Вы рано пришли, – сказала Китти, нимало не смутившись. Она отвела назад руку и отстранила щетку, которую Бисквитик держала над ее головой. Одновременно она сбросила на пол полотенце. Бисквитик подняла его и перекинула через руку.
– Извините.
– Бисквитик…
– Нет нужды отсылать Бисквитика, – сказал я, – я не собираюсь здесь задерживаться.
– Не собираетесь задерживаться?
– Я разговаривал в этой комнате с вашим мужем. А с вами я разговариваю на улице – на причале.
– Прошу тебя, Бисквитик…
Бисквитик со щеткой и полотенцем двинулась к двери. Я заметил, что ноги у нее под сари – голые. Я отступил, пропуская ее. Блестящая прядь чернильно-черных волос упала ей на грудь – она откинула ее назад, и я заметил, как при этом сверкнули длинные, унизанные камнями серьги. Она прошла мимо, даже не взглянув на меня, слегка прошуршав шелком, и до меня донесся еле слышный звук ее шагов, когда она поднималась по лестнице за моей спиной.
– На улице очень холодно, – сказала Китти. – Снег не идет? – Она перекинула волосы вперед и пальцами принялась энергично массировать себе голову. Беззастенчивость и спокойная уверенность, с какими она проделывала все это, смутили меня.
– Пошел.
– В таком случае не разумнее ли остаться здесь?
– Как вам будет угодно, – сказал я. – А я иду на улицу. – Я вышел из комнаты, спустился вниз по лестнице и тихо закрыл за собой входную дверь. Перейдя через дорогу, я направился к причалу.
Здесь было пустынно, машины с тихим шуршаньем проносились по набережной, слегка присыпанной снегом. Мелкие хлопья его падали с неба – не густо, но непрерывно. Мне было очень холодно, и я порадовался, что надел шарф и перчатки. Кепку я сунул в карман. Начался отлив, и в тусклом свете с причала видна была поблескивавшая полоса грязи со множеством камней. Темная моторка мягко подпрыгивала на воде, тычась носом в дерево. Я начал понимать, что вел себя как круглый идиот. Эта сцена с участием Бисквитика расстроила меня, и я повел себя грубо, агрессивно. Теперь, если Китти не появится, придется покорно тащиться к ней в дом. А что, если она обиделась, а что, если не захочет видеть меня? Я провел пять мучительных минут, кусая себе руки. Потом она пришла.
На ней были черпая шерстяная шапочка и широченное пальто, которое, как я понял с вновь нахлынувшей болью, очевидно, принадлежало Ганнеру. Длинное платье покачивалось под ним. Она направилась ко мне – а я стоял в самом конце причала и ждал, когда она подойдет.
– Должна сказать, ну и холод, а?
– Прошу прощения. Надеюсь, это ничего, что вам пришлось выйти на улицу? Понимаете, я действительно не хочу бывать в вашем доме тайком… тайком от него.
– Вполне вас понимаю.
– Он не знает… ничего… верно?
– Конечно, нет.
– И он едва ли…
– Нет, нет, он сегодня утром уехал в Брюссель.
Я готов был поклясться, что Ганнер ничего не сказал Китти о Кристел. Сейчас, пожалуй, был наиболее подходящий момент это выяснить.
– А где он был вчера вечером? Мне кажется, я видел его на Уайтхолле около восьми.
– Вполне возможно. Он ужинал с приятелем в палате общий.
В искренности ее тона можно было не сомневаться. Значит, Ганнер солгал своей жене. Тем хуже для Ганнера. Я почувствовал, что получил в руки определенную власть, и, хотя это было бессмысленно и ни к чему, мне это было приятно.
– Я рада, что вы не заговорили с ним, – сказала она. – Я хотела, чтобы сначала мы с вами встретились.
– Так я что же, должен снова встретиться с ним?
– Да. Еще раз. Вы знаете, как ни странно, но сегодня утром он почувствовал себя гораздо лучше, был много спокойнее.
Заслуга Кристел. Кто читал мне лекции о «простоте»? Кристел. Вот Ганнер и познал благо этой простоты.
– Я должен написать ему и предложить встретиться?
– Нет. Он сам напишет вам.
Молчание. И это все? Мы дошли до конца причала, где господствовал холод и из кромешной тьмы летело на нас несколько крошечных снежинок. Снежная пелена закрыла звезды, даже великое зарево Лондона – все было накрыто ею, и мы были одни. Снежинки бриллиантами горели на черной шапочке Китти, даже при сумеречном свете видно было, что лицо ее раскраснелось от мороза. Я судорожно подыскивал слова, которые могли бы удержать ее – еще на две минуты, хотя бы на минуту.
– А что же мне делать, когда я снова увижу его? Я хочу сказать – вы можете мне что-то посоветовать?
– Я думаю, вы сами поймете, что надо делать. Скажите, что в последний раз было не так?
– Когда мы в последний раз с ним виделись? Но вы же сами все слышали!
– Да, но я хочу, чтобы вы сами мне рассказали, что было не так.
– Все было не так. Он был слишком холоден, я – слишком оборонялся. Он сказал, что относится к этому как к своего рода технической проблеме. Я замолчал. Мы так и не поговорили по-человечески.
– Вот именно. А вы должны встретиться и поговорить по-человечески, верно?
– Я попытаюсь. Не так легко найти слова…
– Если вы только начнете, так сказать, заведете его, слова сами хлынут потоком – так всегда бывает, когда он говорит со мной. Обещаю, что на этот раз не буду подслушивать.
– Отлично. Я бы предпочел, чтобы вы не подслушивали. Я намеревался сказать ему, как мне жаль, что так все получилось, или что-то в этом роде, но он столько наговорил всякой интеллектуальщины, что такие примитивные простые слова показались мне неуместными.
– Да, да, совершенно верно, вы абсолютно правы, но как раз этот его интеллектуализм и надо разбить. Ганнер столько думал о случившемся, так долго обсуждал это с разными психоаналитиками, что получилось нечто огромное, застывшее.
– Понимаю. Но если он готов встретиться со мной снова, это хороший признак, верно? И вы говорите, что, как вам показалось, ему стало лучше. Конечно, я попытаюсь, если потребуется, еще и еще. Всю жизнь буду пытаться, если вы того хотите, если я смогу видеть вас.
– Этого не потребуется, – сказала Китти. – Я думаю, вполне будет достаточно еще одной встречи.
– Я, конечно, вовсе не собираюсь устанавливать дружбу с ним – это, естественно, было бы невозможно.
Снова молчание. Снег. Я чувствовал в ней какую-то заторможенность, словно она ждала, чтобы я помог ей кончить наш разговор. Я страшно не хотел оканчивать его, но чисто автоматически, не справившись с нервами, вдруг выпалил:
– Ну, это все?
– Да, по-моему, все. Ганнер напишет вам. Я вам так благодарна.
– Не за что. Это я вам благодарен.
Мы оба стояли неподвижно, словно застыв. Я ждал, когда она двинется с места, начнет удаляться. Я чувствовал, что это мой последний шанс в жизни. И я сказал:
– А я вас еще увижу? – Я не мог сдержать отчаяния, и оно прозвучало в вопросе.
Она молчала. И поскольку молчание затягивалось, а она продолжала стоять неподвижно, откуда-то, из глубин земли, в меня проникла божественная жестокая дрожь и поползла по всему телу. На секунду у меня так закружилась голова, что мне показалось, я сейчас упаду. Затем я положил руку на плечо Китти. Я почувствовал холодную, жесткую, припорошенную снегом поверхность – вот сейчас я пищу и чувствую эту ткань. Мы стояли неподвижно – поглощаемые, поглощенные.
И тут она не то вздохнула, не то застонала, словно у нее перехватило горло и она не могла слова произнести, – чудеснее общения не бывает. Китти сделала шаг, словно намереваясь уйти. Я повернулся одновременно с ней, схватил ее в объятия и прижал к себе. Ее лицо уперлось мне в плечо, и я снова услышал вздох. Мы стояли совсем тихо.
Я отпустил ее. Я сам чуть не рыдал. Дыхание с шумом вырывалось у меня из груди. Сердце так колотилось, что казалось, оно сейчас разорвется.
– Ох, Китти, Китти, я люблю вас.
– Хилари…
– Я люблю вас. Простите меня, ради Бога, простите, по я ничего не могу поделать. Я люблю вас. Я вас боготворю.
– Хилари… дорогой мой… – Она прильнула ко мне. Я обнял ее за плечи и поцеловал – сначала едва коснулся, затем медленно впился в нее губами. Не может быть, чтобы все это происходило на самом деле. Я целовал ее – открыл глаза и увидел ее усеянную блестками шапочку, темную массу ниспадающих из-под нее волос и дальше – пелену падающего снега. Мы снова оторвались друг от друга. Она рассеянно стянула шапочку с головы и тряхнула волосами, потом обратила на меня взгляд.
– Китти, я люблю вас, послушайте, я люблю вас. Я думал, что никогда не сумею это сказать. А вот смог. Я люблю вас. Теперь я могу умереть…
– Хилари, мне так жаль…
– Я знаю, что это безнадежно, я знаю, что это безумие, я знаю, что это плохо, я знаю, что я вам безразличен, – да и как может быть иначе, – но я благодарен вам даже за это, даже за сегодняшний вечер; даже если мы никогда больше не увидимся, сегодняшнего счастья мне хватит до конца моих дней. Я так рад, что вы существуете на свете, о Боже, о Китти, как чудесно просто произносить ваше имя, у меня такое чувство, что я сейчас упаду без сознания у ваших ног и умру, если бы я мог умереть сейчас, если бы я мог потонуть…
– Хилари, прошу вас…
– Хорошо, я перестану, я уйду, я знаю, что не существую для вас…
– Но вы существуете, существуете…
– Ох, Китти…
– Конечно, существуете. Мне было так жаль вас. Я столько лет о вас думала и думала, что мы никогда не встретимся, и потом вдруг вы очутились тут, и вы оказались таким – как бы это сказать – реальным, мне было так вас жаль, вы ведь тоже столько об этом думали, я имею в виду о прошлом, и столько выстрадали, и вы оказались таким открытым и таким беспомощным, совсем, как дитя, так что я невольно…
– Что – невольно, Китти?
– Вы стали мне дороги, и я захотела… Ох, мне так не хочется причинять вам боль. Мне хочется сделать так, чтобы вам было хорошо, чтобы вас больше не преследовали кошмары…
– А вы это и делаете. Ох, Китти, Китти, спасибо, вы пожалели меня, спасибо…
Мы стояли, беспомощно свесив руки, и смотрели друг на друга, ошарашенные этим внезапно происшедшим чудом. Я задыхался от волнения и радости, – дыхание облачками вылетало в холодный воздух, – и вдруг почувствовал, что на волосах у меня, на бровях, на ресницах лежит снег.
– Я не знаю, что это значит, – сказала она. – Простите меня…
– Не говорите так… вы такая… такая великодушная… такая добрая…
– Я должна теперь вас покинуть. Мне не следовало… Ох, милый мой, милый Хилари…
– Но я ведь увижу вас еще, верно, я должен вас увидеть. Ну разрешите мне снова увидеть вас…
– Я напишу вам…
– Вы сердитесь на меня? Мне так жаль, что я… я просто не мог с собой совладать…
– Я не сержусь. Да благословит вас Бог, да благословит вас Бог… Мне надо идти…
– Но мы еще увидимся?
– Я напишу…
– Ох, Китти, я так счастлив… Даже если мир сейчас рухнет, я все равно буду счастлив…
– Это не может так кончиться, – сказала она. – В общем, все у вас должно быть в порядке, должно. Да благословит вас Бог. Спокойной ночи.
И она ушла. Какое-то время я стоял неподвижно и вдруг застонал от восторга и муки. А потом опустился в снег на колени и закрыл руками лицо.
Было пять минут девятого, и я находился у Импайеттов, как всегда в это время по четвергам. Мы сидели в гостиной. Кроме меня были Лора и Фредди. А также Кристофер.
Не помню, как я ушел с набережной Челси. Очнулся я уже на Кингс-роуд – я шагал очень быстро, прокладывая себе путь между людьми, лицо у меня сияло. Человек всегда чувствует, когда лицо у него расплывается от радости, разглаживается. У меня было такое ощущение, точно кожа на лице у меня растянулась, как блин, черты исчезли – осталось одно сияние. Конечно, все это ужасно, конечно, мучительно, конечно, вполне может получиться, что мы никогда больше не встретимся. Но я целовал ее. Я сказал, что люблю ее. Я слышал, как она произносила мое имя и говорила, что я дорог ей. Конечно, это из чистой жалости и склонности романтизировать, свойственной не обремененной заботами женщине. Но в словах ее звучало столько доброты, и она разрешила мне поцеловать себя и не сказала, что мы никогда больше не увидимся.
Я дошел до станции Слоан-сквер, взял билет за пять пенсов, спустился на платформу, от которой отходили поезда в западном направлении, и зашел в бар. Заказал джину. Сел. У меня было такое чувство, словно я получил в дар саму истину, пробный камень истины, который мне вручили просто и без оговорок. И, однако, то, что мне вручили, никогда не останется у меня. Мне не хотелось думать сейчас об этом, пока еще не хотелось, – хотелось просто насладиться моим новым достоянием в сияющем безмятежном настоящем. Но через некоторое время я осознал – и напомнила мне об этом та часть моего мозга, которая работала автоматически, следуя установившимся привычкам, – что сегодня четверг, а когда ты находишься в состоянии незамутненной безотчетной радости, лучше всего быть среди людей и что, следовательно, мне надлежит отправиться, как всегда, на ужин к Импайеттам.
Я позвонил, и Лора впустила меня, но, не проронив ни звука и даже не посмотрев на меня, тотчас вернулась в гостиную. Я сиял пальто, встряхнул его – оно было совсем сырое и кое-где на нем еще поблескивали снежинки, хотя вообще снег почти перестал, – и повесил на вешалку. Затем протер мокрые волосы концом шарфа. И вошел в гостиную.
– Привет, – сказал я. – Снег почти перестал.
И тут почувствовал, что меня встретило напряженное молчание.
Фредди с чрезвычайно мрачным видом стоял спиной к камину. Лора смотрела на него какими-то странно блестящими глазами. На ней было обычное дневное платье, а не один из ее балахонов. Кристофер – в строгом костюме и при галстуке – сидел очень красный, уставясь в пол. Фредди, смотревший на Лору, когда я входил, теперь перевел взгляд на меня.
– Почему вы пришли? – спросил он.
– Сегодня же четверг, верно?
– Вы разве забыли, что произошло вчера вечером? Самое удивительное, что я действительно забыл. Так уж устроены сны, что они забываются – в них заложено семя забвения. Возможно, это присуще и человеку, находившемуся под действием наркотиков. Теперь я отчетливо вспомнил и большого ласкового зверя, и метафизическое уравнение, но напрочь забыл, что Фредди приезжал в час ночи и что я сказал ему, будто Лоры у меня нет, а потом отослал Лору домой в такси с Джимбо.
– О, конечно, – сказал я. – Теперь я вспомнил.
– Надеюсь, что вспомнили! – сказал Фредди.
– Мне дали наркотик, – сказал я. – Извините, что так получилось. Кристофер, ты не объяснишь, как все было?
– Ну… м-м… – промямлил Кристофер, глядя себе под ноги.
– Вот видите, – сказал Фредди.
– Ему дали наркотик, – сказала Лора. – Как и мне.
– Выглядел он вполне нормально, когда вышел ко мне, – сказал Фредди, – если не считать того, что, видимо, только что оделся!
– Не следовало мне говорить, что вас у меня не было, – сказал я, обращаясь к Лоре. – Теперь мне это ясно.
– Я думаю, Кристоферу лучше уйти, – сказал Фредди. – Не могу понять, что на тебя нашло, когда ты пригласила его.
– Я не думала, что Хилари придет.
– Извините, Кристофер, никто ни в чем вас не винит. Мне хотелось поговорить с вами по поводу пантомимы, но не сегодня.
– А я хочу, чтобы Кристофер остался, – сказала Лора. – Кристофер, вы должны остаться.
– Во всяком случае, с Лорой я не спал, – объявил я Фредди. – Верно, Лора? Ведь вы об этом думаете?
– Я лучше пойду, – сказал Кристофер.
– Кристофер, я запрещаю вам уходить, – сказала Лора.








