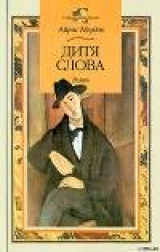
Текст книги "Дитя слова"
Автор книги: Айрис Мердок
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
СУББОТА
Было ровно шесть часов вечера. Я так и не возвращался в квартиру из страха перед набегом Томми. Мне бы хотелось еще раз побриться, но, когда время подошло к шести, это уже перестало иметь для меня значение. Я с пяти часов вышагивал по набережной и теперь находился в полуобморочном состоянии от волнения. Вечер был холодный, ясный, и над рекой сияли редкие звезды. Ноги у меня не стояли на месте, и по ним от холода то и дело пробегала дрожь, да и вообще я никак не мог угомониться и избавиться от страха. Меня тянуло выпить «Кингс хед», но я удержался от соблазна. Я ведь почти не обедал. А сейчас не время было искать вдохновения в алкоголе. Я должен быть целомудренным и хладнокровным. Но от холода и голода я превратился в дрожащего паралитика.
Зубы у меня стучали. Я открыл железную калитку, подошел к входной двери и нажал на звонок. Бисквитик открыла дверь, и из дома на меня пахнуло теплом. Бисквитик, конечно же, не была в белом переднике и белой наколке с ленточками, но именно такое впечатление почему-то произвел на меня ее костюм. Она холодно посмотрела на меня.
– Входите, пожалуйста! Мадам наверху.
– Прекрати, Бисквитик.
– Пальто, пожалуйста, положите сюда. Мадам наверху.
– Ну, так не будешь ли ты так добра попросить мадам спуститься, – сказал я. – Я не собираюсь заходить.
Бисквитик все с тем же бесстрастным видом направилась к внутренней лестнице, оставив меня на пороге. Секунду помедлив, я прикрыл, но не захлопнул дверь, прошел назад по дорожке, вышел за калитку и стал ждать на тротуаре. Я посмотрел вверх на плотно зашторенные окна второго этажа, где виднелась тонкая полоска золотистого света.
Я все обдумал заранее. Не мог я войти в дом Ганнера. Мое появление там без его ведома было бы оскорблением. И как я стану разговаривать с Китти, прислушиваясь, не раздастся ли звук ключа, вставляемого Ганнером в замок? Я буду все время бояться, подозревать, что Ганнер скрывается в затененной нише или за ширмой. И дело не в том, что, следуя доводам разума, я опасался оказаться в западне. Просто не хотел я ступать на его территорию. И не хотел встречаться с его женой в их супружеском доме. Лучше уж провести этот предстоявший нам разговор на пустоши, открытой всем ветрам.
Ждал я, как показалось мне, довольно долго. Затем Китти выскользнула из двери и закрыла ее за собой. На ней было шикарное меховое пальто, схваченное на талии металлическим поясом; на голове – шарф. Она быстро шла по дорожке, и я увидел, что она улыбается, словно мой отказ зайти в дом был самой обычной вещью на свете.
– Как вы любезны, что пришли.
– Как вы любезны, что пригласили меня.
– Пройдемся по набережной?
– Да, если хотите.
– А вы ведь без опасения могли зайти. Ганнер ужинает в Чэкерс.[57]57
Чэкерс – официальная загородная резиденция премьер-министра.
[Закрыть]
– Я предпочитаю разговаривать с вами здесь.
– Вполне понимаю вас.
Мы прошли через сквер, пересекли дорогу и подошли к парапету набережной. Был прилив – черная вода стояла довольно высоко и медленно колыхалась под самым парапетом, задумчиво завихрялась и текла к морю.
Мне не хотелось стоять возле дома Ганнера, и мы пошли дальше, пока не достигли деревянного причала, к которому были пришвартованы две-три моторные лодки, подпрыгивавшие на воде. Примерно на середине причала горел фонарь. Мы прошли под ним и углубились в темноту. Теперь нас окружала вода, мы слышали, как она плескалась под нашими ногами, тихонько ударяясь об опоры.
– В каком приятном районе Лондона вы живете, – сказал я. Весь мой озноб и вся дрожь куда-то исчезли. Я был абсолютно спокоен, мне было даже тепло. Поток несказанной радости затопил меня от одного присутствия этой женщины, оно согрело меня, я чувствовал, как все мое тело трепещет от счастья. Я мог смотреть на нее сколько угодно – на роскошный мех пальто с поднятым воротником, на ее тонкую талию, на обрамленное шарфом лицо, которое казалось от этого более тонким, более хищным. Я ощущал запах ее духов. Пар от нашего дыхания смешивался в вечернем воздухе.
Глубоко засунув руки в карманы, она заметила:
– Да, здесь прелестно, это верно. Когда я была девочкой, я жила в Челси.
Это когда ей понравилась маленькая индианка и она получила девчонку в качестве подарка на Рождество.
С минуту мы молчали – не от смущения, просто мы рассматривали друг друга. Я видел в полутьме ее лицо – длинный нос, блеск ее глазных яблок.
Я спросил:
– Как Ганнер? Он хочет видеть меня?
– В том-то и вопрос, – сказала Китти. – Как раз об этом я хочу поговорить с вами. – Можно подумать, что у нас была сотня других тем для разговора. – Ганнер – в исступлении.
– О Господи. – Сейчас она скажет мне, что все это ни к чему, и затем простится.
– В полнейшем исступлении. Он ни о чем не может думать, кроме вас.
– Он что, хочет убить меня?
– Иногда.
Я подумал: «А что, если я подставлю себя ярости Ганнера – как заяц, который сам прыгает в огонь? Этого хочет от меня Китти? Ей приятно, что Ганнер жаждет убить меня? Возможно. Бывают такие женщины».
Я холодно произнес:
– Должен ли я понимать, что наша короткая встреча у него в кабинете ничего не дала? Я полагаю, он рассказывал вам о ней?
– Да, конечно. Но он в исступлении, он как одержимый, у него в голове все перепуталось, он сам не знает, чего хочет, что собирается предпринять. Раньше у него такого состояния не было. Когда вы заговорили с ним, он не мог не откликнуться, но…
– Не знал, разговаривать со мной или задушить меня?
– Вот именно.
– Ну, а мне-то что теперь делать? Вы говорили, что я должен попытаться встретиться с ним. Я это сделал. Ему это было крайне неприятно. А теперь что?
– Прошу вас, немножко терпения, Хилари.
При звуке моего имени, произнесенного ею, я чуть не упал в воду. Мне вдруг захотелось закружиться, как в танце. По-моему, я даже слегка ахнул.
– Я ведь могу звать вас Хилари, или нет?
– Конечно. И я вовсе не нетерпелив. Я готов ждать до бесконечности, если так надо. Но все-таки что я могу сделать?
Вы это обсуждали, вы пытались убедить его встретиться со мной?
– О да, мы обсуждали это до бесконечности, мы долго-долго говорили о вас.
– Какая открывалась передо мной перспектива!
– Видите ли, – продолжала она, – я ведь говорила вам: мы уже не один год думаем о вас. Отчасти поэтому я и назвала вас сейчас Хилари.
Отчасти? И что же, они перекидывают, как мяч, мое имя во время этих долгих бесед, которые ведут «уже не один год»? Я почувствовал себя униженным – это возмутительно, захотелось съежиться и застонать, но внешне я остался хладнокровен. Мы по-прежнему стояли друг против друга, как два противника. Она откинула голову назад, и шарф соскользнул ей на плечи, обнажив копну темных волос. Руки она по-прежнему держала глубоко в карманах.
Я решил не касаться волнующих материй. Лишь довольно резко сказал:
– Ну, я ведь пришел сюда за инструкциями, а у вас, похоже, их нет.
– Мне ужасно жаль. Я понимаю, что вся эта история невероятно для вас обременительна, что это невероятно… назойливо.
Какое нелепое слово. Мне захотелось рассмеяться от отчаяния. На что я трачу эти драгоценные минуты жизни, освященные ее присутствием, – веду себя, как тупица, и мы не находим общего языка, и она никогда не узнает, не может узнать, что я чувствую, у нее, пожалуй, даже может возникнуть впечатление, что она раздражает меня. Хотелось закричать, а я стоял неподвижно. По набережной с грохотом несся транспорт, по задумчиво плескавшаяся в отливе река призывала к молчанию.
– Леди Китти, – сказал я, – мне ужасно жаль, что так получилось. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам и Ганнеру. Вы хотите, чтобы я попытался снова встретиться с ним? Или написал ему?
– Нет, нет. Просто подождите. Дело в том, что… сейчас кое-что сдвинулось. Очень хорошо, что вы встретились с ним на службе: это был мужественный шаг с вашей стороны, и я так рада, что это произошло. Шок был страшный, но ко благу. Понимаете, все сейчас пришло в движение, началась динамика, он уже не может сидеть спокойно, он скоро что-то решит, вынужден будет решить, иначе он не выдержит, он вынужден будет встретиться с вами, чтоб уничтожить наваждение.
Это звучало не слишком успокоительно. А кроме того, у меня мелькнула мысль, что до сих пор Китти не сообщила ничего такого, чего нельзя было бы написать, передав записку через Бисквитика, – всего одно слово: «Ждите». Интересно, подумал я, будет еще что-нибудь? Естественно, я надеялся, что будет. Я боялся, что она сейчас скажет: «Прощайте». Так или иначе, все равно мы скоро скажем друг другу: «Прощайте», причем – навсегда. Быть может, именно это она сейчас и произнесет. Я сжал кулаки, изо всех сил стараясь придумать, что бы сказать такое важное.
– Я хотела поговорить с вами, – довольно неожиданно прервала она молчание, словно до этой минуты мы и не разговаривали.
– О чем вам будет угодно.
Китти заходила по причалу – шаги ее негромко, глухо звучали на покрытых морозным настилом досках.
– Видите ли, – продолжала она, – как ни странно – хотя, наверное, это вовсе не странно, – но вы – единственный человек, с которым я могу говорить о некоторых вещах. Конечно, я говорю с Ганнером, как я вам уже рассказывала, но у нас такой ограниченный круг тем – я хочу сказать, мы все снова и снова перебираем одно и то же: как Ганнер себя чувствует; меняется ли со временем его состояние; чувствует ли он себя лучше, чем год тому назад; помогло ли ему посещение того или другого психиатра, и так далее, и тому подобное. Ведь это все равно, как если бы я жила с тяжелобольным. Вы меня понимаете? Я вам не наскучила?
– Не говорите глупостей, – сказал я.
– Извините, я не хотела, чтобы это так выглядело, я просто хотела, чтобы вы поняли, что в известном смысле такая жизнь ужасно скучна и в общем-то безнадежна. Когда человек чем-то одержим, это так скучно. Он всегда говорит одно и то же, ходит и ходит по однажды заведенному кругу, хочет вырваться из него, хочет полной, абсолютной перемены, а это-то и невозможно. – Она умолкла, но и я молчал. – Когда мы встретились с вами у статуи Питера Пэна, я сказала вам… по-моему, сказала… видите ли, я так часто мысленно разговариваю с вами – я просто не уверена, что я вам действительно сказала, а что мне только кажется, будто сказала… Так вот, я жила все эти годы… в ее тени.
– Да.
– Но мы с Ганнером никогда по-настоящему не говорили о ней – мы не могли. Я-то как раз могла бы, но он не мог. Мы говорили о другом, об его одержимости, его болезни, но ее имя ни разу не было произнесено. И, однако же, она всегда была с нами, рядом.
– Да.
– Я жила рядом с призраком – вернее, с двумя призраками.
– С двумя?
– С ее призраком и с вашим.
– Ну, конечно. И вы должны оба эти призрака утихомирить. – Никогда я еще так отчетливо не понимал, что не только обречен, но и обязан исчезнуть – проделать необходимый ритуал, а потом рассыпаться в прах и больше не вступать в круг их жизни.
– Наверное, не очень хорошо так говорить, но – да. Понимаете, мы ни разу по-настоящему, впрямую не разговаривали об этом с Ганнером. Он все твердит, что жизнь ко мне несправедлива, что я вышла замуж за больного человека. Наша любовь была всегда какая-то увечная, неполноценная, я не могла добраться до источника его страданий и помочь ему. А мне так хочется – о, я и сказать вам не могу, как хочется – увидеть, что он избавился от прошлого, освободился, что он может шагать в будущее вместе со мной.
Я стоял, не шевелясь, весь напрягшись, как человек перед расстрелом, который изо всех сил старается думать лишь о своей приверженности делу, которое привело его к этой минуте. Горечь могла тут все испортить, она была более опасным противником, чем любая мягкость. Где-то посередине проходила очень узкая неуютная полоса, какой я и должен держаться. Я сказал, но без горечи:
– Она ведь существовала.
Китти ни слова не сказала мне на это. Лишь продолжала вышагивать, а чуть погодя спросила:
– Какая она была?
– Разве Ганнер вам не говорил?
– Никогда в жизни. Вы просто не понимаете. Это абсолютно исключено.
Я задумался.
– Едва ли я смогу описать вам ее – во всяком случае, не так вот сразу.
– Скажите хоть что-то. Прошу вас. Хоть что-нибудь. Какого цвета у нее были волосы?
– Мышиного.
– Она была красивая?
– У нее были чудесные… такие сияющие… умные… глаза. Извините, я не могу… не могу…
Китти глубоко вздохнула – теперь она стояла неподвижно и смотрела на темную, стремительно уносимую отливом воду.
– Вы ни разу не видели ее фотографии? – помолчав, спросил я.
Она покачала головой. Уж не плачет ли она, подумал я, но лицо ее было от меня скрыто.
Когда она снова заговорила, голос ее звучал твердо. Она явно решила переменить тему.
– Вы говорили мне, что эта… история… сломала вам жизнь.
– Да. И жизнь моей сестры тоже.
– У вас есть сестра?
Видно, Ганнер не так уж подробно рассказывал Китти обо мне, если не всплыло даже это. Я и сам не знал, обрадовало меня это обстоятельство или нет.
– Да.
Китти не стала развивать тему сестры.
– Но, как я уже говорила, не следует ли вам тоже подумать о себе, попытаться излечиться или дать себя излечить, чтобы жизнь стала легче, и так далее? – Сказано это было как-то неуклюже и прозвучало невольно холодно.
– От призраков нельзя излечиться. Они просто исчезают, и все. – Вот этого не следовало говорить.
– Вы сами понимаете, что это глупо, – парировала она, пожалуй, еще более холодным тоном. – Вы должны и вы в состоянии попытаться. И если вы поможете Ганнеру, то вы хоть что-то сделаете, чтобы спасти прошлое.
– Да. Пожалуй. – Я с отчаянием почувствовал, что ток взаимопонимания между нами иссякает, прекращается. Вот сейчас она простится со мной, и я ничего не сумею придумать, чтобы помешать ей это сделать. И веду я себя так, точно все, что бы она ни говорила, раздражает меня. Как стереть это впечатление – может быть, схватить ее за руку и выложить все? И я вдруг спросил: – Вы получили мое письмо?
– Да, конечно. Благодарю вас… благодарю за то, что вы написали так подробно…
Молчание. Напрасно я заговорил о письме – это было ошибкой. Что бы я ни делал сейчас, все оборачивалось ошибкой.
Китти заговорила снова – на этот раз, казалось, и она хочет «спасти» наш разговор:
– Вы не должны так волноваться.
– Волноваться? Но без этого не обойтись!
– Извините, я что-то все не так говорю сегодня. Я хочу сказать: вы считаете, что во всем виноваты вы, но это не так.
– А кто же еще может быть тут виноват!
– Ну… он… даже я…
– Уж вы-то едва ли!
– Отчего же, и я. Я во всяком случае… не принесла ему счастья… не сумела по-настоящему помочь ему… другая женщина, возможно, сумела бы… и у меня нет детей… а ему так хочется иметь детей…
– Еще бы – после того, как он потерял двоих, но все равно я не понимаю… – У меня было такое ощущение, точно я барахтаюсь в вязкой тине.
– Двоих?
– Да… – Я прикрыл себе рот рукой.
– То есть как – двоих?
– Ну, в общем… я полагаю… мог бы потерять… я ведь сказал просто так…
– Но почему двоих? Вы же сказали – двоих?
Китти стояла передо мной. Глаза ее взволнованно сверкали. Отступать было некуда.
– Энн была в положении… это был его…
– Он ни разу мне об этом не говорил.
Я немного отошел от нее. Мне не хотелось видеть ее лицо, да и свое хотелось закрыть руками.
Китти тоже отвернулась от меня. Словно прозвучал гонг и борцов разделило пространство ринга. Или точно два самолета, летящих один на запад, другой на восток, вдруг оказались разделенными всей широтой неба. Китти опустилась на край причала, не заботясь о том, что может испачкать дорогое пальто.
Никогда еще я не чувствовал себя в такой мере жертвой прошлого. Я сказал:
– Мне очень жаль…
– Прошу вас, уйдите.
– Могу я…
– Уйдите, пожалуйста. Благодарю вас, что пришли. А сейчас, пожалуйста, уйдите.
Я повернулся и медленно пошел прочь, к набережной.
СУББОТА
Было всего лишь половина восьмого, когда я добрался до Норс-Энд-роуд. Все предшествовавшие дни и даже сегодня, и даже во время свидания с Китти я, конечно, не забывал о том, что встречусь с Кристел в субботу вечером. Суббота – день, отведенный мною для Кристел, и, если я не предупреждал ее о том, что не приду, она ждала меня. Когда я позвонил ей в четверг вечером, до меня долетело одинокое эхо ее печального существования. Я, конечно, понимал, что Кристел из-за меня так обеднила свою жизнь, что она одинока из-за меня. А ведь я когда-то намеревался окружить ее друзьями, которые дарили бы ей радость, раз и навсегда возместить ей то, чего она не знала в страшные годы детства! И все это было бы возможно, даже легко осуществимо, если бы я сам был счастлив. А теперь вот она живет в бедности, совсем одна, и из двух друзей, которых я ей привел, один (Клиффорд) доставил ей лишь горе, а от другого (Артура) она отказалась из-за меня. Попытался ли я измерить ее одиночество или хотя бы вообразить? Нет. Я ведь никогда не задумывался над тем, как она проводит долгие часы и дни между нашими встречами.
Мне всегда было приятно и радостно встречаться с Кристел, хотя среди сложных химических процессов, происходивших в моей душе, ни разу не возникло желания чаще видеть ее, а вот сейчас я страстно, слепо, с лихорадочным нетерпением гонимого жаждал видеть ее. В твердой уверенности, что все будет абсолютно так, как всегда, я бегом взбежал по лестнице к ней наверх.
Все и было абсолютно так, как всегда. На кружевной скатерти стояло два прибора, и в углу горела лампа под пергаментным абажуром, по которому плыл кораблик, горела только для декорации, поскольку яркий свет в центре комнаты и без того хорошо освещал жалкое ее убранство. На столе стояло шерри. Сухое же вино принес я, купив его, по обыкновению, в ближайшем баре. Кристел сидела у стола и шила. Она сразу увидела по моему лицу, что я взволнован, отшвырнула шитье и обошла стол. Мы обнялись и, крепко прижавшись друг к другу, закрыв глаза, какое-то время стояли так. Во мне ведь было шесть футов с лишним, а в Кристел – всего пять футов с небольшим, так что наше объятие всегда походило на замысловатый фокус. Я чуть приседал, она вставала на цыпочки. Сейчас мне особенно легко было присесть – я готов был рухнуть на землю, как только руки ее коснулись меня.
Я разжал объятия и тяжело опустился на кровать, не заботясь о том, что могу смять зеленое шелковое покрывало. Несколько мгновений Кристел в упор смотрела на меня, словно осторожно пыталась проникнуть в мой мозг щупальцами своей любви. Затем она налила в рюмку немного шерри и поставила на стол возле меня, так чтобы я мог до нее дотянуться. Я стащил пальто и извлек из кармана бутылку вина.
– Что на ужин?
– Рыбные фрикадельки с жареными помидорами и картошкой и бисквит с клубникой и взбитыми сливками.
– Отлично.
Продолжая наблюдать за мною, Кристел принялась открывать вино – для этого уже настало время.
– У тебя все в порядке, Кристел, родная моя?
– Да, вполне.
– Ты видела Артура?
– Нет.
– Ты не переменила своего решения послать его подальше?
– Нет.
Я поднял взгляд на Кристел, Ее прекрасные золотистые глаза были скрыты за толстыми стеклами очков, на которых, стоило ей повернуть голову, возясь с бутылкой, начинали играть блики. Ее пушистые ярко-рыжие волосы густою плотной копной свисали вниз, словно на голову ей положили небольшую перину. Влажная нижняя губа была оттопырена, что всегда указывало на волнение и озабоченность. Ноздри короткого курносого носа раздувались и опадали.
Я большими глотками пил шерри. Мне необходимо было выпить.
– Ты видел Томми? – спросила Кристел.
– Да, но с этим я уже завязал, покончил. – У меня было такое ощущение, точно я сто лет назад вычеркнул Томми из моей жизни и мыслей, и только сейчас мне пришло в голову, что я ведь до сих пор не сказал об этом Кристел.
– Я знаю. Она была здесь.
– Томми была здесь, надоедала тебе? Разрази ее гром. Что же она сказала?
– Она плакала.
– Она везде плачет.
Кристел молчала. Она осторожно опустила бутылку с вином на маленькую раскрашенную пробковую подставку, которая была специально положена для этой цели на стол. Я и без слов понял, что Кристел, хоть немного и сочувствовала Томми, однако же была рада нашему разрыву.
– Плесни мне еще немного шерри, родная.
Тема Томми для нас обоих была исчерпана. По дороге к Кристел я решил, что расскажу ей все. Ну, почти все.
– Ты уже приготовила рыбные фрикадельки?
– Да, все готово. Стоит в плите. Можем приступать, как только захотим.
– Отлично. Сядь сюда, душа моя. Рядом со мной.
Она села на стул у кровати, положив на колени шитье. На ней было бесформенное старое шерстяное платье в синюю и зеленую полоску, которое когда-то принадлежало тете Билл и которое Кристел не раз уже перешивала. Вещи Кристел носила бесконечно долго. Она ничего никогда не выбрасывала.
– Послушай, Кристел. Я встречался с леди Китти. Ну, ты знаешь – с женой Ганнера.
Темный, багрово-красный румянец залил лицо Кристел – на секунду показалось, будто оно налилось свинцом.
– Ты видел Ганнера?
– Нет. Хотя вообще говоря – да, но я не разговаривал с ним. И не знаю, буду ли… это все так… ох, до чего же все сложно… – Тут мне впервые пришло в голову, что, раз я питаю определенные чувства к Китти, мне, пожалуй, не стоит больше встречаться с Ганнером, делать еще шаг по дороге, на какую толкало меня, хоть и из самых лучших побуждений, женское безрассудство. Я с наивной верой воспринял картину, которую нарисовала мне Китти. Но почему я должен верить ее суждению о том, что требуется Ганнеру?
– А каким же образом ты встретился с леди Китти?
– Она попросила меня об этом. Прислала ко мне свою служанку. Я дважды с ней разговаривал. Ганнер не знает об этом.
– Ганнер не знает, что ты с ней виделся?
– Нет. Понимаешь ли… – Какой нелепой казалась мне сейчас вся эта история, когда я попытался ее пересказать. – Понимаешь ли, она считает, что я мог бы помочь Ганнеру. То есть я хочу сказать, что все эти годы он жил, одержимый прошлым, он ненавидит меня и хочет мне отомстить, и она говорит, что это… это как болезнь… если бы он мог просто встретиться со мной и… в общем, не важно, о чем мы стали бы говорить, лишь бы разговор начался…
– Но если он ненавидит тебя, если он хочет тебе отомстить?
– Это может у него пройти, если мы встретимся. У него могут возникнуть другие чувства… во всяком случае, все может стать менее…
Он может ударить тебя.
– Не говори глупостей, Кристел. Это же связано с его духовным состоянием. – Так ли?
– Я не хочу, чтобы ты встречался с ним, – сказала Кристел. Она обеими руками теребила лежавшее у нее на коленях шитье, раздирала его. Я слышал в наступившей тишине, как трещат нитки. Я отобрал у нее шитье и положил на стол.
– Нечего наливаться краской, как индюк. Ничего плохого тут произойти не может.
– Может. Я не хочу, чтобы ты встречался с ним или снова встречался с нею. Я не хочу, чтобы у тебя были какие бы то ни было с ними отношения. Все у нас было в порядке. Зачем они появились? Почему они не могут оставить нас в покое? Прошу тебя, Хилари, перемени работу, уйди от него, прошу тебя. И тогда все будет так, как прежде. Вот и сейчас, видишь, – мы снова с тобой вдвоем. А если ты встретишься с ним, то тебе будет больно, очень больно – я это знаю, знаю…
– Дитя мое родное, любовь моя, не будь ты такой чертовски взбалмошной. И попытайся подумать обо мне – ну, я знаю, что ты всегда думаешь обо мне, – пораскинь немного умом. А что, если я хочу встретиться с Ганнером? А что, если я чувствую, что мне станет легче после разговора с ним? Ведь не только его преследует то, что произошло, ведь не только повергает в ужас то… что…
Кристел молчала, глядя вниз, не на меня.
– Ты хочешь с ним встретиться?
– Не знаю. Я хочу поступить так, как хочет она.
– Как хочет леди Китти? Почему?
– Потому что она… Потому что я люблю ее… и я ничего с собой не могу поделать…
Вот этого я не собирался говорить ей, по, раз уж разговор начался, удержаться я не мог. К тому же без этого вся история выглядела бессмысленно.
– Понятно, – не сразу сказала Кристел. Она снова взяла свое шитье, стала перебирать в руках материю, провела пальцем по шву. Затем отыскала иголку и с поразительно четкой ритмичностью принялась шить.
– Я люблю ее, – сказал я. – Да, люблю. – Я произнес что-то огромное, и надо мной словно раскинулся высокий темный шатер и загорелись звезды. – Но, конечно…
– Ты ей сказал?
– За кого ты меня принимаешь? Конечно, нет.
– А она любит тебя?
– Не будь идиоткой, Кристел. Я жалею, что сказал тебе. Ты сразу ухватилась не за тот конец палки. Все совсем не так. Скорее всего я вообще никогда больше ее не увижу. Они хотят наладить свою жизнь, и я играю тут роль как бы инструмента. Я абсолютно безразличен ей – она только хочет, чтобы я встретился с Ганнером и тем помог ему, но она вовсе не хочет, чтобы он знал, что она подала мне эту идею.
– А почему она не хочет?
– Потому что тогда наша встреча может произвести меньший эффект, меньшее действие. – В том ли причина? Ведь по-настоящему я над этим не задумывался.
– Ну, а ему это может совсем не понравиться… – произнесла Кристел. Игла так и сверкала в ее проворных руках.
– Ох, да перестань ты шить, Кристел, у меня нервы и так все в клочья разодраны!
– Ты хочешь, чтобы я подавала ужин?
– Нет. Дай мне вина.
Кристел снова отложила шитье и налила мне вина.
– А у них есть дети – у Ганнера и у нее?
– Нет. Послушай, Кристел, то, что я люблю леди Китти, – это реальность, реальность, не имеющая ни к чему отношения…
– Но ты же сказал, что поэтому хочешь выполнить ее желание.
– Да, но я бы в любом случае так поступил – просто из чувства долга. Если есть хоть малейшая возможность помочь. Ганнеру, я обязан попытаться это сделать, ты согласна? За этим ничего не последует. Я не стану другом семьи – это же невозможно! Просто встречусь с Ганнером раз-другой, и все. И уж безусловно не стану больше встречаться с ней – возможно, как я говорил, я вообще больше ее не увижу. Постарайся меня понять.
– Я, пожалуй, выпью немного шерри, – сказала Кристел. Это было нечто необычное. Она сказала: – Я не хочу, чтобы ты встречался с ним. Я не хочу, чтобы между вами вообще что-то было.
– Но почему же? Сам я искать его не стал бы. Но ведь он тут. Мы сталкиваемся на этой чертовой лестнице!
– Вот почему ты должен сменить работу.
– Ох, перестань ты твердить об одном и том же! Это, черт побери, совсем не просто. Возможно, через какое-то время я так и поступлю. Мне не ясно, что будет дальше. Но сейчас…
– Я не хочу, чтобы ты встречался с ним.
– Ты говоришь это уже шестой раз – но почему? Не можешь же ты всерьез думать, что он убьет меня!
На сей раз Кристел долго молчала – сидела, глядя на свою рюмку с шерри, но не пила, – и в душу мне закралась тревога. Она вела себя как-то странно, словно в ней рождалось другое, более жестокое существо.
– Кристел, в чем дело? Наконец она произнесла:
– Золотой мой, я должна тебе кое-что сказать.
– Что – ради всего святого? У тебя не рак, ты не заболела? – От панического страха у меня сжалось сердце.
– Нет, нет, это связано с прошлым, с тем, что тогда произошло.
– Ты клянешься, что у тебя нет рака?
– Клянусь. А теперь слушай. Я никогда не говорила тебе о том, что было тогда, что было со мной.
А ведь в самом деле. Мы никогда не говорили про аварию, про то, что было до нее и что было потом. Я рассказал Кристел ровно столько, чтобы она могла составить себе общее представление. Иными словами, рассказал ей, что у меня был роман с Энн. Обо всем остальном она могла лишь догадываться. Я никогда не спрашивал ее о том, что она пережила в те дни, пока я лежал в больнице – разбитый, при смерти. Лучше было этого не касаться. Мы с Кристел в детстве натерпелись столько всяких ужасов, что заключили молчаливый пакт – никогда ни о чем не спрашивать, никогда не «пережевывать» того, что случилось.
– Ты хочешь рассказать мне сейчас? Но почему? Какой смысл? По-моему, лучше не надо.
Кристел снова с минуту молчала. Потом сказала:
– А мне кажется, я должна. Думаю, в этом есть смысл. Сейчас было бы слишком ужасно молчать.
– Что, ради всего святого, ты хочешь мне сказать? Ты меня с ума сведешь своими намеками.
– Подожди. Сейчас скажу. Только слушай. Пожалуйста, наберись терпения. Наверно, мне будет легче рассказывать по порядку, чтоб было ясно, как оно произошло. Теперь слушай. Я узнала о случившемся, лишь когда кто-то позвонил из колледжа. Мне сказали, что ты попал в серьезную автомобильную катастрофу и находишься в изоляторе Редклиффской больницы. Это было во вторник вечером, вернее, совсем уже поздно – около полуночи или даже позже: я уже легла. Когда произошла авария?
– Около десяти.
– Ну, словом, к тому времени ты уже был в больнице, и мне позвонили, и я, конечно, сразу помчалась на вокзал, но никакого поезда до пяти утра не было. Я стала ждать и села на поезд до Бирмингема, а потом пересела на другой, который шел в Оксфорд, и около одиннадцати добралась до больницы, и первым, кого я там увидела, был Ганнер. Энн тогда была еще жива.
Я налил себе еще вина. Рука у меня отчаянно тряслась. Лицо Кристел изменилось, стало жестким. Она смотрела в пол.
– Ганнер сказал мне, что вы оба серьезно пострадали, и я сначала не могла его понять, а потом до меня дошло, что Энн была с тобой в машине. Я хотела видеть тебя, но меня не пустили: тебя как раз оперировали. А Энн лежала в больнице где-то в другом месте. Ганнер пошел со мной справиться о тебе. По-моему, он тогда не знал, как плоха была Энн, а может, ему не сказали, или, может, они и сами там не знали. Я сидела на стуле в коридоре, и мне казалось, я сейчас упаду, и он сказал, не поехать ли нам к нему домой, чтобы я могла прилечь: в больнице нам обоим все равно делать нечего, только ждать; тогда я пошла с ним, села к нему в машину, и мы поехали к нему домой, а ты помнишь, это… это было совсем рядом… Мы приехали, и он предложил мне чего-нибудь поесть, но только оба мы, конечно, ничего есть не могли. Маленького мальчика – сына Ганнера, не помню, как его звали, – дома не было, по-моему, он был у каких-то родственников. И я легла в спальне наверху, а Ганнер поехал назад в больницу и сказал мне, что, конечно, узнает, как ты там. Это было, наверно, часов около двух или трех, и я чувствовала себя совсем разбитой. И я то ли уснула, то ли потеряла сознание, – словом, лежала в каком-то странном состоянии. Когда я снова очнулась, на меня напал такой несказанный ужас – было шесть часов вечера, и я была совсем одна в доме; я встала и решила пойти вниз и только стала спускаться, как входная дверь отворилась и вошел Ганнер и сказал: «Эпн умерла»; прошел в заднюю комнату и сел за стол. Я слышала, что он сказал, и это дошло до моего сознания, но я не могла ни о чем думать, кроме тебя, и спросила его: «А Хилари умер?», но он ничего не сказал, только сидел и смотрел сквозь то большое окно в сад – сидел как статуя, точно его парализовало, и не отвечал мне, и я побежала к телефону, я хотела позвонить в больницу, только не могла вспомнить, как она называется, и потом я так плакала, что все равно не видела цифр на диске; тогда я взяла и выбежала из дома. Я знала, в какой стороне находится больница, и, плача, побежала туда. Тут кто-то схватил меня за руку – это был Ганнер – и потащил назад, к своему дому, и я, конечно, пошла за ним – я себя не помнила от страха, – и он втащил меня в дом, посадил на стул в холле, позвонил в больницу и связался с отделением, где ты лежал; говорил он так спокойно, так ясно, и ему сказали, что операция прошла успешно и что ты отдыхаешь, и это слово «отдыхаешь» в ту минуту показалось мне таким чудесным, но меня продолжало трясти от страха, и Ганнер спросил, могу ли я тебя видеть, – говорил он так спокойно, так ясно; и ему ответили – да, наверное; и тогда он вывел меня из дома – просто взял и потянул за рукав, – и посадил в машину, и отвез в больницу, и проводил к тебе в отделение, и я увидела тебя, хотя ты этого потом и не помнил, – ты как раз приходил в себя после наркоза, и челюсть у тебя была перевязана, а остальное лицо – в порядке и глаза открыты, и ты смотрел на меня и выглядел целым и невредимым, точно ничего и не случилось, так что я расплакалась от радости, а сестра сказала, что все будет в порядке и ты скоро поправишься, хотя, думаю, она не могла наверняка это знать, и тогда я вышла, и Ганнер ждал меня в коридоре, и я все рассказала ему, и мы спустились вниз, сели в его машину и поехали к нему, и тут он рухнул – мы словно поменялись местами. А тут позвонил телефон – это была мать Энн… ты, конечно, помнишь, нет, ты, наверно, и не знаешь, что утром до нее не могли добраться: она отдыхала в Испании, так вот она позвонила из Испании, и я заставила Ганнера поговорить с ней, а потом он попросил меня отвечать на телефонные звонки или, если кто придет, говорить всем, что случилось и что он никого не хочет видеть. И несколько человек звонило, а человека два-три даже приходили, и я всем говорила что надо, а Ганнер все это время сидел опять в задней комнате – просто сидел у стола и смотрел в окно. А я – ох, мне так полегчало, когда я узнала про тебя, что я уже могла жалеть Ганнера и жалеть Энн: ведь они оба были так добры ко мне, так бесконечно добры, добрее никого не было, – и я пошла на кухню – я вдруг почувствовала голод, и это тоже было чудесно, – и я сделала себе несколько тостов, И открыла банку с бобами, и хотела заставить Ганнера чего-нибудь съесть, только он не стал – сидел неподвижно, не шевелясь; я поела бобов, потом нашла, где он держал напитки, – он предлагал мне днем выпить бренди, только я отказалась, – достала бренди, виски и стаканы, поставила все на стол и вынула – просто смешно, до чего ясно я все помню, просто вижу, как все было, – блюдо с шоколадными бисквитами. И я налила Ганнеру бренди, а сама выпила виски – наверно, мне подумалось тогда, что виски слабее бренди; так вот Ганнер выпил бренди и расплакался, да так страшно – слезы у него текли крупные-крупные, и он все смотрел в одну точку; потом постепенно стал успокаиваться и съел шоколадный бисквит, а потом заговорил, и было это уже часов в десять вечера, а то и позже. Странное дело – говорил он почему-то о своем детстве и о матери, которая была наполовину норвежка; о том, как он ездил к своим бабушке и дедушке на какую-то ферму у какого-то озера, а потом как он поехал в Лапландию и видел там оленя – он долго рассказывал про оленя и про то – вот смехота! – как они любят запах человеческой мочи, и что они едят особый мох, и вообще про то, как оно на севере, – а ведь там месяцами не бывает ночи, а потом месяцами не бывает дня; рассказал мне и про северное сияние. И все это время мы пили – по-моему, он выпил все бренди, что было в бутылке, а я выпила немного виски, и чувствовала себя так странно, и все говорила ему, что надо бы ему лечь, но почему-то никому из нас не хотелось ложиться спать, а хотелось сидеть так и сидеть, и говорить и говорить, и все было так странно, точно мы находились в трансе. А потом мы до того устали, и он снова заплакал, и я поняла, что пришел конец нашему сидению, и он встал и пошел наверх спать, и все плакал, плакал. И я тоже поднялась наверх – я была совсем без сил и чувствовала себя так чудно; я прошла в комнату, где лежала днем, разделась и надела ночную рубашку – потому что, уезжая из дому, я взяла с собой чемоданчик со спальными принадлежностями, – потом я пошла взглянуть, что делает Ганнер, а он лежал одетый на кровати, и я сказала ему, чтоб он разделся и лег в постель как следует; и он снял ботинки, снял брюки и весь как-то размяк. Наверно, это от бренди. И я открыла ему постель, и он залез под одеяло и потом сказал таким… таким невероятно грустным, несчастным голосом: «Не оставляйте меня». Я стояла возле него, а он вдруг начал стонать, и мне стало его так жалко, что я легла рядом с ним, обняла его, и тут все и произошло.








