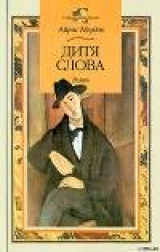
Текст книги "Дитя слова"
Автор книги: Айрис Мердок
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц)
ЧЕТВЕРГ
Громко стуча каблуками, я шел очень быстро, как машина, по Куинс-Гейт-террейс, вниз по Глостер-роуд, затем но Кромвель-роуд, вниз по Эрл-Корт-роуд, затем по Олд-Бромптон-роуд, затем по Лилли-роуд. Вечер стоял ветреный, холодный – дождя не было, подмораживало. Я чувствовал, как под ногами на мокрых тротуарах образуется слой льда – скользкий, блестящий. Проходя мимо ограды Бромптонского кладбища, я физически чувствовал, как мороз шевелится там, в темноте, ходит, щупая траву, щупая могилы, – призрак, тщетно ищущий других призраков. Я шел со скоростью машины – голова высоко поднята, руки болтаются, сердце стучит, качая кровь. Я не в состоянии был думать о разговоре, который только что оборвал. На сердце у меня лежал камень – камень ненависти, страха.
К Кристел я пришел раньше обычного. Тихонько открыл парадную дверь, на цыпочках поднялся до середины лестницы и прислушался. Наверху царила полнейшая тишина. Из-под двери виднелась полоска желтого света. Горе и ярость кипели вокруг меня в темноте, проникая мне в мозг и вырываясь оттуда снопом черных атомов. Одним прыжком я одолел последние ступени и распахнул дверь. Кристел и Артур сидели за столом. Я так внезапно ворвался в комнату, что успел все увидеть. Кристел с Артуром молча сидели за столом; стулья их стояли боком, так что они сидели совсем рядом и смотрели друг другу в глаза. Оба сняли очки. Артур сбросил и пиджак. Рукава у обоих были закатаны, и они ласково гладили друг другу руки.
Оба тотчас повернулись ко мне с виноватым видом, красные от смущения, поспешно опустили рукава и надели очки. И вскочили на ноги.
Я тяжело опустился на третий стул, со скрежетом протащив его по полу. Изрядное количество выпитого виски и быстрая ходьба не улучшили дела. Атомы продолжали кипеть вокруг меня, только теперь они были уже не черные, а золотые. Артур надел пиджак, затем взял пальто и свою вязаную шапочку.
– Садись, – сказал я ему. Он сел, села и Кристел. Я плеснул себе в бокал остатки бургундского, пролив немного на стол. – Давайте поболтаем, – сказал я.
– Чем вас сегодня кормили на ужин? – спросил Артур.
– Забыл. Я вообще ничего не ел.
– А мы ели рыбные палочки, жареный картофель и заказной фруктовый пирог от «Лайонс», – сказал Артур. Он видел, что я пьян, но он и раньше уже видел меня таким. Он был до того счастлив, что идиотская улыбка все время растягивала его губы, делая лицо каким-то чужим. – Как ваш грипп, Хилари?
– Какой грипп?
– Мне казалось…
– От меня разит чесноком, – заметил я.
– Я не чувствую, – сказал Артур.
– А я говорю, что разит.
– На улице холодно? – спросила Кристел.
– Я не заметил.
Настало молчание. Оба смотрели на меня: Кристел – с явной тревогой, Артур – со смутно-счастливой доброжелательностью. Кристел снова сняла очки и потерла глаза. Она смотрела на меня теперь своими незащищенными прекрасными золотистыми глазами, словно так между нами могла возникнуть более прямая связь. Она подстерегала хоть какой-нибудь знак благоволения с моей стороны. Какой угодно. Я не подал никакого. Я сказал ей:
– Попробуй догадаться, кто у нас новый начальник?
– Кто же?
– Наш давний друг Ганнер Джойлинг.
Кристел судорожно глотнула воздух. Затем она медленно надела очки, рот ее раскрылся, пухлая нижняя губа задрожала, увлажнилась, по лицу и по шее разлилась краска.
Артур, который в этот момент не смотрел на Кристел, спросил:
– Вы что, знаете его?
– Знал. Ну что же! Двинулись. Пошли, Артур. Спокойной ночи, зверюшка.
– Подождите, – сказала Кристел. – Подождите, пожалуйста… Хилари, а мы не могли бы… – Ей явно хотелось поговорить со мной наедине.
А мне хотелось быть жестоким и несговорчивым. Я даже не взглянул на нее. Встал из-за стола. Пальто я так и не снял и теперь, громко напевая, чтобы не разговаривать, помог Артуру надеть пальто.
– Ты не мог бы задержаться, прошу тебя! – громко сказала Кристел, перекрывая мое пение.
– Извини. Мне пора. Увидимся в субботу. – Я взял бутылку с бургундским, намереваясь вылить себе остатки, по рука у меня так дрожала, что я вынужден был снова ее поставить. И взглянул на Кристел. Она тихонько охнула. Я вытолкал Артура из комнаты, не давая ему времени даже попрощаться, и вышел следом за ним.
За дверью я снова принялся напевать. Было ужасно холодно. Артур на ходу натягивал на уши вязаную шапочку. Он вежливо ждал, пока, дойдя до Хэммерсмит-роуд, я не прекратил свое мурлыканье.
– Как интересно, что вы знаете Джойлинга. Он славный человек?
– Очаровательный.
– А где вы с ним встречались?
– В колледже.
– Ему приятно будет увидеть на работе знакомого человека, – заметил Артур. Произнес он эти глупые слова вполне искренне. Он действительно считал, что человек вроде Джойлинга может поначалу почувствовать себя одиноко и ему станет веселее, если он увидит друга детства.
– Мы не очень-то близки с ним – мы ведь долгие годы не виделись. – Нелегко было, конечно, втягивать Артура в эту историю, но мне хотелось как-то отыграться, перепугав Кристел и удалившись без всяких объяснений. А ведь мне было просто необходимо, чтобы Кристел узнала о случившемся. Мне всегда, всю жизнь легче было переносить несчастья, если Кристел знала о них. Даже если она ничего не могла поделать, одно сознание, что ее любящая душа делит со мной горе, облегчало мою боль. Вот и сейчас я нуждался в ее поддержке, раздумывая о том, что же будет дальше и как мне быть в связи с появлением на службе Ганнера Джойлинга. – В колледже я вызывал у него немалую досаду, потому что получал все призы. И когда мы встретимся теперь, то, по всей вероятности, будем вежливы друг с другом, но сдержанны. Кстати, Артур, я не хочу, чтобы на службе знали, что мы знакомы. Это между нами.
– Конечно, я не скажу ни слова, – заверил меня Артур. То обстоятельство, что Ганнер Джойлинг после колледжа получил от жизни все возможные призы, а я не получил ни одного, должно быть, пришло Артуру в голову, но, возможно, его поистине кретиническая тактичность помешала такой мысли даже созреть. Мозг Артура склонен был отталкивать от себя порочащие кого-либо мысли.
Мы перешли улицу и остановились под фонарем.
– Ну, спокойной ночи.
– Хилари, а насчет меня и Кристел все по-прежнему в порядке, да? Вы ведь не против, верно? Если б вы были…
Я хотел сказать: «О да, все это великолепно», но вместо этого я зацепился за неоконченную фразу:
– Ну, а что вы стали бы делать, если бы я был против? Артур какое-то время молчал, и впервые за этот вечер я заглянул ему в лицо. Оно было красное, мокрое и горело от холода.
– Не знаю, – сказал он. И посмотрел на меня покорно, даже как-то отрешенно.
А я смотрел на него, в его взволнованные карие глаза, влажные, напряженные, чуть прищуренные от холода. Нелепая вязаная шапочка придавала ему вид иностранца, а усы делали похожим на французского солдата времен первой мировой войны. И вдруг он начал уменьшаться. И стал похож на призрак. И исчез. Я рассмеялся и, смеясь, повернул на восток и зашагал по Хэммерсмит-роуд. Наползал легкий туман, и фонари уходили в даль почти пустынной улицы, окруженные – каждый – расплывающимся ореолом.
ПЯТНИЦА
Была пятница, утро. Когда я подошел к нашему учреждению, уже почти совсем рассвело. Ночью весь Лондон окутало туманом, но не плотным, густым туманом, а чем-то похожим на дымку над морем – сероватую, а не коричневую; в воздухе словно висела вуалевая завеса, испещренная холодными капельками воды, и они садились на пальто рано вышедших из дому лондонцев, покрывая их паутиной влаги, которая в тепле поездов метро и контор превращала вышеуказанные пальто в дымящиеся пудинги. Снова всюду запахло шерстью с примесью грязи и пота. Я повесил мое мокрое вонючее пальто на вешалку в вестибюле, оставил там же зонт и кепку, которая в то утро впервые познакомилась с зимней улицей, и, войдя в Залу, которая, как всегда в это время дня, была еще погружена во тьму, включил свет, – на потолке тотчас зашипели две длинные неоновые полосы. Они дважды мигнули, и холодный, очень яркий свет озарил Залу.
Все переменилось. Прежде всего я увидел, что весь пол затянут ковром. Затем я увидел, что мой стол снова стоит в «фонаре». Стол миссис Уитчер поставлен за моим, а стол Реджи Фарботтома – у двери, там, где еще совсем недавно стоял мой стол. На ближайшей ко входу стене над столом Реджи появилась еще одна гравюра – портрет герцога Веллингтонского. Теперь Зала выглядела даже уютной. Должно быть, из-за ковра.
– Вам правится, мистер Бэрд? – послышался за моей спиной голос Скинкера.
Я обернулся. Скинкер и Артур стояли в коридоре. Они, должно быть, спрятались в чулане у Артура, чтобы подстеречь мое удивление, когда я войду. Глаза у Артура блестели. Я сразу понял, какого мужества эта акция потребовала от Артура и как вдохновляла его любовь Кристел, если он отважился на такой шаг.
Я даже не улыбнулся. Я сказал:
– Я вовсе не желаю, чтобы миссис Уитчер сидела сзади и заглядывала мне через плечо. Пожалуйста, поставьте ее стол туда, где он стоял.
Скинкер с Артуром быстро передвинули стол миссис Уитчер и поставили его у стены.
– Прекрасно. Вот теперь все в порядке. – И тут я улыбнулся. (Это было для Скинкера. Артур же и так мог все прочесть по моему лицу.)
– Мы считали, что вы будете довольны, право же, – сказал Скинкер.
– Я и доволен, – сказал я.
– Очень мне охота посмотреть на лица нашей парочки, когда они увидят эти чудеса в решете.
– А где вы взяли ковер? – спросил я Артура.
– Я слазил на чердак, – сказал он. – Не знаю, имеем ли мы на это право. Там оказалось несколько комнат, забитых всякой всячиной – старыми коврами, ломаными стульями и тому подобное. Там же я нашел и герцога. Надеюсь, у меня не будет неприятностей. – Смутная мысль о возможных «неприятностях» частенько отравляла Артуру жизнь на службе. И то, что он подверг себя опасности ради меня, было выше всякой похвалы.
– Спасибо, Артур, спасибо, Скинкер. Я это очень ценю. Явилась миссис Уитчер. Мы втроем молча наблюдали за ней. Она задержалась на пороге, увидев происшедшие перемены, и проследовала мимо нас к своему столу.
– Ну и умники, ничего не скажешь! – бросила она через плечо. И опустилась на стул.
Прибыл Реджи.
– Эй, кто это сделал?
– Мы, – сказал я. – Есть возражения?
– Чертовски самонадеянный вы тип, вот что, – заметил Реджи. – Мерзкий самонадеянный тип. Верно, Эдит? Ну, ладно, детка, пусть будет по-твоему… – Эдит молчала. Реджи уселся за свой стол. Мы победили.
Я направился к двери в сопровождении своих союзников. Скинкер отбыл, сияя от удовольствия. Я зашел с Артуром в его чулан.
– Спасибо.
– Все в порядке, Хилари. Надеюсь, они не будут возражать против ковра.
– Конечно, нет.
– Послушайте… вчера вечером… вы не…
– Не сказал того, что тебе хотелось услышать. Я скажу сейчас. Конечно, я не возражаю, чтобы ты женился на Кристел. Даю вам свое благословение, если оно чего-то стоит. Самому себе мне как-то не удается пожелать счастья. Но вам я желаю его много-много.
– О, слава тебе, Господи, – сказал Артур. – То есть, я хочу сказать, я знал, что вы не… и все же чертовски приятно, чертовски приятно услышать это от вас. Мне только это и было нужно.
– Для полного счастья.
– Ну, в общем, да.
– Значит, все в порядке. Все отлично.
Я вернулся в Залу и прошел к своему столу у окна. Все еще освещенный циферблат Биг-Бена смотрел на меня сквозь туман. Я соскучился по нему.
– Надеюсь, вам доставляет удовольствие эта мелкая месть, – заметила Эдит.
– Но даже и тут ему потребовалась помощь, – сказал Реджи. – Сам он способен был только хныкать, пока Артур не взялся за дело.
Я погрузился в изучение очередной бумаги. Скоро в Зале узнают о помолвке Артура. Известие это будет встречено ахами и охами.
Внезапно потух свет.
– Чертовы электрики, а, чтоб их, – раздался в полумраке голос Реджи. Послышался звук отодвигаемых стульев, в коридоре зазвучали шаги. Смех.
– Сейчас принесут свечи! – произнес голос Скинкера. Я продолжал сидеть на своем месте, вперив взгляд в серый мрак за окном. Циферблат Биг-Бена тоже потух. Я думал о Бисквитике. Кто она и увижу ли я ее еще когда-нибудь?
– Свечи – это даже занятно, верно? – сказала Томми.
Лондон был по-прежнему погружен во тьму. Томми попыталась устроить из этого праздник. Я был костяком этого празднества. Я промолчал.
Гостиная у Томми, обогреваемая парафином, была довольно холодная. В тот вечер она накрыла стол индийской материей с коричневыми запятыми по желтому полю. В современных глиняных подсвечниках стояло шесть свечей. Наш ужин состоял из бифштекса с салатом и пирога с патокой, который она приготовила сама. Она знала, что я люблю такой пирог. А я не мог есть. Я выпил немного «Сент-Эмилиена». Вино покупала она. Вкус у него был отвратительный, однако я выпил еще. Я подумывал о том, чтобы рассказать все Томми. Я просто вынужден буду рано или поздно все кому-то рассказать. Но нет, не Томми. Ведь такое признание свяжет меня с тем, кому я сделаю его.
Томми выглядела сегодня совсем викторианкой. В известной мере из-за кудряшек. Вид у нее был усталый, И это ей шло. Неверный свет подчеркивал контуры ее лица, выделявшегося белым пятном на темпом фоне, но не обнаруживал цвета глаз. Носик ее и рот морщила гримаса озадаченности, сочувствия и любви. На ней была сегодня белая кружевная блузка с гагатовой брошью в форме креста, длинный черный жакет и черная бархатная юбка до лодыжек, которую она чуть приподняла, обнажив изящную икру, топкую лодыжку в белом ажурном чулке и маленькую бархатную туфельку. Ноги у нее были совсем маленькие. Ее унизанные серебряными кольцами руки то и дело нервно отбрасывали назад длинные волосы, закрывавшие высокий воротник блузки, белизну которой подчеркивало пламя свечей. Все эти детали, несмотря ни на что, я подметил и даже нашел Томми привлекательной – секс ведь заявляет о своем всепоглощающем присутствии почти при любом положении вещей. В моих глазах притягательность Томми то возрастала, то убывала по совершенно неопределенным законам. Когда меня начинало тянуть к ней, я пытался с этим бороться, и на время обычным проявлениям доброты и нежности приходил конец. Я подумал было дотянуться до нее через желтую скатерть, а ей так этого хотелось, но не стал. При том, как обстояли нынче мои дела, мне уж безусловно придется избавиться от Томми.
А она была сейчас бесконечно терпелива и изобретательна. Она все испробовала – и разговор на самые разные темы, и молчание. Кусок пирога со взбитыми сливками лежал у меня на тарелке и мокнул. Я выпил еще немного вина и скривил в гримасе лицо. Я ничего не говорил Томми про Кристел и Артура. Мне была бы невыносима ее радость.
– Не налить еще виски, родной?
– Нет.
– А что ты хотел бы получить на Рождество?
– Заряженный револьвер.
– В чем дело… Хилари… любовь моя… что-то с тобой происходит. И явно не из-за меня.
– Извини, Томкинс.
– Ты сегодня точно мертвый, точно зомби.
– Мне бы и хотелось быть мертвым.
– Не говори так – это грешно. Расскажи мне лучше. Расскажи хоть немножко. Расскажи намеками.
– Смешная ты девчонка. Ты иногда мне нравишься.
– Ты тоже иногда мне нравишься. Расскажи же.
– Не могу, Томми. Много лет тому назад я поступил очень дурно. И забыть об этом никогда не смогу. – Настолько я с Томми еще ни разу не был откровенен, и она это знала. Я услышал, как она судорожно, победоносно вздохнула, и я сразу ушел в свою скорлупу.
– Продолжай же. Пожалуйста. Ты ведь знаешь, что я тебя люблю. Мне просто хочется стать на твое место. Быть для тебя прибежищем, где бы ты мог расслабиться. Избавиться от боли.
– Я не могу избавиться от боли, – сказал я. – Грех и боль неразрывно связаны друг с другом. Один только Господь Бог способен их разделить.
– Так позволь мне быть Госиодом Богом. В конце-то концов… говорят же… что мы можем…
– Нет, Томкинс, извини, ты не можешь. Ты – это ты. Вот ты приготовила мне пирог с патокой, который, к сожалению, я не в состоянии есть. Надеюсь, он не пропадет.
– Патока долго не портится.
– Ты маленькая шотландочка, которая знает, что патока не портится. А моя беда – космическая.
– А не слишком ли много ты мнишь о себе? – сказала, помолчав, Томми. – В конце-то концов ты – это всего лишь ты, человек с вьющимися волосами, с угрюмым лицом и разными носками на ногах…
– Это придумала Лора Импайетт.
– Почему ты вспомнил сейчас про Лору?
– Сам не знаю. Не потому, что она имеет к этому какое-либо отношение.
– Значит, Лора. Вот в чем дело. Лора. Почему ты вдруг вспомнил о ней?
– О Томми, перестань… Я пошел домой.
– Почему ты вдруг упомянул Лору?
– Не знаю. Потому что у меня мысли скачут. И, конечно же, я слишком много мню о себе. Ну, кто я такой, чтобы у меня было космическое горе? Ладно, Томас, будь ко мне подобрее.
– Ты даешь мне слово, что это не…?
– Да, да, да, Томми. Мне надо идти. Извини уж.
Томми вскочила и опустилась на пол у моих ног, что с ней иногда случалось. Она стояла на коленях, уткнувшись головой в мои колени, ища руками мои руки, волосы ее, пахнувшие шампунем (она всегда мыла их по пятницам), разметались по полам моего пиджака.
– Ох, Томас, маленькая моя…
– Любовь моя… о любовь моя… позволь мне тебе помочь… я ведь так люблю тебя.
– Просто не могу понять – почему. Томми, мы должны расстаться.
– Не говори мне так сейчас, когда между нами установилось взаимопонимание…
– Никакого взаимопонимания между нами нет. Ты в каком-то трансе. А я холоден, как селёдка.
– Ты же хочешь меня.
– Нет. – Я грубо оттолкнул ее, чтобы она не почувствовала, что это так. Она качнулась назад и села на пол. Я встал.
– Ненавижу тебя..
– О'кей, Томсон. Доброй ночи.
– Не уходи. Расскажи мне. Расскажи, что ты наделал. Расскажи намеками.
Я оторвался от нее. Улицы были черные, если не считать крошечных огоньков то тут, то там, – это брели в потемках люди, освещая себе дорогу электрическими фонариками. А наверху, над их головой, шел праздник. Ярко сверкал широкий, бриллиантовый пояс Млечного Пути, молча услаждающий слух Разума. Звезд было столько, и они лепились так близко друг к другу, что с земли казались сегментом золотого кольца. Однако светили они лишь друг другу, видимо, не подозревая о нашем существовании, и здесь, внизу, было темно. Но я знал мой Лондон наизусть. Я двинулся на север. На дорогу от Томми до Артура у меня ушло почти полчаса. Было половина одиннадцатого, когда я позвонил в дверь Артура. А минуту спустя я уже сидел в его маленькой комнатке, освещенной одинокой свечой. Я решил рассказать все Артуру.
ПЯТНИЦА
* * *
Теперь я расскажу о том, что является основой данной истории, но о чем нельзя было рассказывать до тех пор, пока по ходу повествования я сам об этом не стал рассказывать. Расскажу я все с той достоверностью, на какую способен, и так, как это было на самом деле, а не так, как я рассказывал вечером в ту пятницу Артуру. В своем рассказе Артуру я опустил некоторые детали – правда, несущественные – и, естественно, описал все в благоприятном для себя свете, хотя обелить себя, поскольку я изложил ему основные факты, – все равно не мог. Ну и, конечно, рассказ мой шел рывками, с паузами, во время которых Артур задавал мне вопросы. И были детали, которые я вспомнил позже, в последующие дни, когда снова говорил с ним об этом. Я рассказал ему потому, что он (теперь я в это уже верил) собирался стать мужем Кристел, и потому, что он был мягким, безобидным существом, и еще потому, что мне надо было кому-то все рассказать, выпустить призрак из склепа, каким являлись наши с Кристел души. Сейчас трудно даже представить себе, что в тот памятный летний день, когда я устроил вечеринку у себя на квартире в колледже, а Кристел воскликнула: «Это счастливейший день в моей жизни», там была и Энн Джойлинг. Действительно была в той комнате, в тот день.
Я впервые встретился с Ганнером Джойлингом, когда учился на последнем курсе, а он был младшим преподавателем по другой дисциплине (преподавал историю литературы) и в другом колледже. Вместе с моим наставником, мягким человеком по имени Элдридж, он читал курс «Французская революция и литература», и я посещал эти лекции. Мы собирались но вторникам в колледже Ганнера, в темной комнате за длинным столом, накрытым зеленым сукном. Семинар был устроен для весьма узкого круга избранных, и все посещавшие его гордились этим. Я решил там блеснуть. У меня уже была к тому времени репутация лингвиста-полиглота.
Ганнера впервые я встретил не там. В первый раз я увидел его на противоположной стороне Главной улицы. Он шагал в своей мантии под руку с Энн. Кто-то сказал: «Вон идет Ганнер Джойлинг». – «А кто эта хорошенькая девчонка?» – «Миссис Ганнер Джойлинг». У Ганнера была особая репутация – есть такие люди, которые пользуются особой репутацией по не очень попятным причинам. Он был, конечно, человек умный, по в Оксфорде полно умных людей. Внешность его привлекала к себе внимание, но тоже – не в такой уж мере. Он был шести футов двух дюймов росту (па дюйм выше меня), крупный, грузный (он играл в сборной по регби и отменно боксировал), с густыми прямыми светлыми волосами, синеглазый, бело-розовый, гладкий. Глаза у него были довольно красивые – цвета летней лазури с темными крапинками. Кто-то из его предков был скандинав. Сам же он был англичанин из англичан, воспитанник привилегированной частной школы.
Мне нравился семинар, и я отличался на нем – но, к сожалению, отличались и другие. Мы считали себя поистине блистательной когортой. Поскольку Ганнер был личностью более яркой, чем Элдридж, я стремился заслужить его доброе мнение, и мне это удалось. Уже в середине семестра Элдридж, человек сухой, но не лишенный человечности, сказал, что Ганнер расспрашивал его обо мне. Элдридж вкратце рассказал Ганнеру о моем происхождении, и это, очевидно, вызвало у того интерес – к такому я, во всяком случае, пришел выводу, судя по тому, как внимательно смотрели теперь на меня синие в крапинку глаза. Я, наверно, вообще казался немного странным. Хотя ничего такого уж особенного в моем поведении не было. Просто я старался заслужить доброе мнение каждого дона,[45]45
Так называют преподавателей в Оксфорде и Кембридже.
[Закрыть] которого я уважал. Я всегда считал, что любому почтенному Дамету[46]46
Дамет – пастух, имя которого встречается у Вергилия в его «Буколиках».
[Закрыть] приятно будет услышать мою песню. Через некоторое время (думается, подсказал эту мысль Элдриджу сам Ганнер) я стал посещать лекции Ганнера по Рисорджимеито.[47]47
Рисорджименто – политическое движение, ставившее своей целью освобождение и объединение Италии.
[Закрыть] Время от времени мы беседовали с Ганнером после занятий, и раз или два я встречался с ним на улице, но он ни разу не пригласил меня к себе. Да я особенно и не домогался этой чести, хотя такое приглашение, безусловно, польстило бы мне. Когда я на экзаменах занял первое место, Ганнер прислал мне карточку, на которой его мелким почерком было написано: «Хорошо сработано». Затем, когда некоторое время спустя меня избрали членом совета ганнеровского колледжа, он послал мне приветственное письмо, составленное в приятно-дружественных тонах, что побудило меня прийти к выводу, что мое избрание, видимо, произошло не без его участия.
Оксфордский колледж представляет собой весьма любопытную демократическую общину. И члены совета, управляющие колледжем, могут играть в его жизни существенную роль. Я был прекрасно осведомлен (ибо подобного рода вещи не остаются тайной) о том, что мое избрание не прошло гладко. Были люди, которые утверждали, что я – лингвист в самом узком и нудном смысле слова. «Бэрд читает стихотворение лишь с точки зрения грамматики», – такую крылатую фразу пустил обо мне мой враг Ститчуорзи, который, как мне, естественно, мигом сообщили, отчаянно возражал против моего избрания в совет. И тут доброе мнение Ганнера, должно быть, имело немалое значение. Узнав, что меня избрали, что я добился того, чего жаждал больше всего на свете, я задрожал от счастья и одновременно от страха. Мне ведь пришлось с боем завоевывать каждый дюйм пройденного теперь уже пути, и я ничего не мог бы достичь, если бы не был уверен в том, что я настоящий ученый. Однако знал я и то, что был еще очень далек от желанной цели, когда можно сказать, что ты – «на уровне». В моих познаниях еще были большие лакуны, провалы, в которые я мог упасть, пробелы, которые люди типа Ганнера, или Элдриджа, или Клиффорда Ларра спокойно заполнили еще в школе, даже и не заметив, как это произошло. И сейчас меня страшило то, что я могу публично допустить какую-нибудь ошибку, которая запомнится всем. Словом, вступая в мой рай, я был внутренне чрезвычайно уязвим для сарказмов Ститчуорзи и ему подобных и соответственно исполнен благодарности к Ганнеру за то, что мог положиться на его уважительное отношение.
Итак, я обосновался в колледже. Студенты спокойно приняли меня и не падали со стульев от хохота, когда я представал перед ними в качестве преподавателя. Мои коллеги оказались куда менее значительными (а в некоторых случаях и гораздо менее блестящими), чем я предполагал. Доны помоложе издевались над Ститчуорзи, называя его между собой Госпожа Ститч. Я начал потихоньку обставлять свое жилье, беря пример с Ганнера и других моих коллег, которые, как мне казалось, обладали хорошим вкусом. Я даже начал строить планы о том, чтобы перевезти Кристел в Оксфорд и устроить ее в каком-нибудь элегантном гнездышке, а потом, возможно, даже подобрать ей весьма высокопоставленного мужа. Я начал также составлять план ее образования, которым наконец следовало заняться. Все это время мы оба с Кристел были вне себя от счастья. Она по-прежнему жила на севере, где закапчивала курсы шитья. (Тетя Билл, хвала Всевышнему, к тому времени уже умерла.) Кристел, по-моему, немного волновалась в связи с предстоящим переездом в Оксфорд, боясь «опозорить» меня. Ее мало занимала перспектива блестящего замужества, как, впрочем, если говорить серьезно, и меня. Больше всего ее восхищала – после моих успехов, конечно, – мысль о том, что я буду учить ее. Буду говорить ей, какие книги надо прочесть, и она будет их читать. Она будет трудиться ради меня, – трудиться, чтобы стать более достойной, более полезной, более подходящей мне сестрой.
Постепенно я начал успокаиваться и, вживаясь в мою среду, стал приобретать защитную окраску. Я купил машину. Это привело в полный восторг Кристел. Довольно скоро я установил вполне приемлемые отношения с большинством моих коллег, хотя и не приобрел еще среди них друзей. Я все еще был неловок и легко раним, держался агрессивно и особняком. Ганнер вел себя со мной как со своим протеже, что иногда раздражало меня, несмотря на его неизменную доброту. Я восхищался им, мне хотелось стать его другом, и в то же время я бывал резок с ним. Собственно, мы однажды чуть даже не поссорились из-за Ститчуорзи. Этот Ститчуорзи, который был еще и историком, написал статью для одного ученого журнала о Кромвеле, в которую включил высказывания Марвелла[48]48
Эндрю Марвелл (1621–1678) – английский поэт, автор памфлетов и сатир, в которых он яростно нападал на правительство Карла Второго и монархию вообще.
[Закрыть] и цитату из «Посланий» Горация. Анализ приведенной им цитаты показывал, что он неправильно ее толкует. Обнаружив это, я с трудом поверил своему счастью. Я написал в журнал короткое деловое письмо, указав в нем на ошибку Ститчуорзи, и закончил так: «Грамматисты, возможно, и не способны должным образом прочесть стихотворение, но люди, невежественные в грамматике, не способны прочесть его вообще». Я показал свой маленький шедевр Ганнеру в расчете позабавить его, однако это вызвало у него лишь досаду, и он сказал, что мне не следует публиковать письмо. Он сказал, что оно составлено в ядовитом тоне и что нехорошо, не успев стать членом совета, нападать на старшего дона из своего же колледжа и злорадствовать по поводу его ошибок. Все мы можем допустить ошибку, сказал он. Я счел его позицию нелепой, и на этом мы расстались, весьма недовольные друг другом. Мое письмо было опубликовано. Ганнер меня простил. А Ститчуорзи, естественно, – нет.
Еще до этой истории я познакомился с Энн Джойлинг. Мы встретились впервые, когда я осматривал мою новую квартиру до того, как переехать в нее. Был июль, стоял солнечный жаркий день, и в каком-то блаженно-счастливом состоянии я любовался из моего окна необычайно изысканным фасадом моего нового колледжа; тут Ганнер и Энн вышли из-под арки. На Энн было сиреневое платье в цветах из какой-то очень легкой, как газ, материи, с широким сиреневым поясом. Она была очень тоненькая. Подняв глаза, она увидела меня в окне и улыбнулась, тем самым давая попять, что знает, кто я. Потом сказала что-то Ганнеру. Он крикнул: «Можно нам зайти посмотреть ваши комнаты?» Я сказал – да, конечно, пожалуйста. «Мы будем у вас через несколько минут». И они с Энн явились с бутылкой шампанского и тремя бокалами. «Мы решили, что надо отметить ваш переезд». От благодарности и счастья я еле мог говорить. Это была одна из тех идеально счастливых минут, которые довольно редко выпадают на долю человека, когда люди встречаются не только в силу обстоятельств, но и потому, что так хотят. Ганнер представил меня Энн, которая сказала, что много уже слышала обо мне и давно хотела со мной познакомиться.
Описать Энн не так просто. Лицо ее до сих нор кажется мне самым прекрасным из всех, какие я когда-либо видел, хотя, быть может, и не все сочли бы ее такой уж красавицей. Была в ее лице какая-то скрытая чистая росистая прелесть, которая взывала ко мне. Ее тускло-каштановые прямые волосы были подстрижены коротко и просто. Высокий лоб венчал довольно худое лицо с голубовато-сероватыми, большими, навыкате глазами и длинным, красиво очерченным, подвижным и нервным ртом. Она не употребляла косметики. Тонкая кожа ее казалась почти прозрачной и чуть влажной. В глазах, положительно светившихся умом, тоже был влажный блеск. Сказать, что это было «умное лицо», хотя оно было, конечно, умное, значило бы ничего не сказать. У нее было светлое лицо, лучившееся добрым умным любопытством, заинтересованностью, и остроумием, и теплом. Оно светилось в тот момент, когда мы пили шампанское в моих пустых комнатах в тот солнечный Летний день, и болтали, и смеялись, и были бесконечно счастливы. Мы были очень молоды тогда. Мне было двадцать три. Ганнеру – двадцать семь. Эпн – двадцать пять. Они оба были членами совета. У них был сын четырех лет.
Я сказал, что надеюсь видеть их на вечеринке, которую устраиваю на будущей педеле на своей старой студенческой квартире, – вечеринке, на которой Кристел была потом так счастлива, – и они сказали, что придут. (Это была первая вечеринка, которую я в своей жизни устраивал.) И они пришли, и оба постарались проявить поистине ангельскую доброту к Кристел, и я готов был за это целовать им ноги. Кристел, наверное, выглядела на этой вечеринке презабавно. Должен сказать, что я сам выглядел, наверно, презабавно. Как-то во время этих долгих летних каникул Джойлинги, не уезжавшие из Оксфорда, пригласили меня поужинать. Потом пригласили еще раз. Они жили в северной части Оксфорда, в большом запущенном викторианском доме, полном красивых вещей, но отнюдь не казавшемся музеем. Оба (как я тогда понял) происходили из зажиточных семей. Их маленький сынишка по имени Тристрам был умненький, хорошенький, воспитанный мальчик. (Правда, я не люблю детей.) Они производили впечатление очень счастливой пары. И были чрезвычайно добры ко мне. Начался осенний Михайлов триместр, когда я впервые выступил в качестве наставника, и я часто встречался с Ганнером и Энн – встречался у них дома, в других домах, в колледже.








