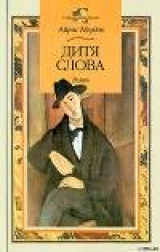
Текст книги "Дитя слова"
Автор книги: Айрис Мердок
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)
В бытность мою студентом я машинально, как это бывает у мужчин, интересовался девушками, которые попадались на моем пути. Ни в каких обществах я не участвовал (лишь ненадолго заинтересовался Марксом, следуя любви к русскому языку) и спортом занимался лишь чисто мужским. Все, казалось, умели заводить друзей среди мужчин или женщин лучше меня. Я иногда заговаривал с девушками, с которыми сталкивался по работе (одна довольно умная девушка посещала семинар Ганнера), по они тут же принимались хихикать, я мгновенно оскорблялся и отступал. Несколько раз я даже приглашал девушек на чай, но мне было так трудно поддерживать с ними беседу, я казался самому себе таким нескладным и был так застенчив, что они быстро уставали от меня, да и я – от них. И уж конечно, ни одна не пошла бы прямиком ко мне в спальню и не легла бы сразу со мной в постель – сначала надо было мило поболтать с нею. (Так, во всяком случае, мне казалось. Возможно, я был не прав.) На протяжении моих студенческих лет я оставался девственником, нимало по этому поводу не волнуясь, что часто случается с мужчинами, не имеющими возможности проверить себя в этой области. Куда больше меня волновали экзамены. Я был занят. Словно рыцарь, принявший присягу, я чувствовал себя посвященным, всецело принадлежащим моему ордену. Я должен был спасти себя и Кристел, вытащить нас обоих на солнечный свет, на волю из мрачной дыры, в которой мы выросли. Я должен был добыть те несомненные привилегии, которые совершенно необходимы для нашего спасения. Я должен был полностью обезопасить себя. И пока этого не произойдет, все остальное не имело значения. А вот в тот июльский день, когда я стоял в моих новых комнатах и смотрел из окна, я чувствовал себя наконец в безопасности. Я вытянул жребий. Я это сделал.
Сказать, что я тогда почувствовал себя вправе влюбиться, – значило бы упростить дело. Это был лишь один аспект. Шоры, побуждавшие меня смотреть только вперед, на одну-единственную цель, были сняты. Я внезапно увидел широкий мир. Я отдыхал. Или, во всяком случае, старался отдыхать. Привычку к непрестанной деятельности так сразу не сломаешь. Да, я готов был открыть мое сердце любви. Но я влюбился не в первую встречную, а влюбился в Энн, хотя все, казалось, должно было удержать меня от этого, – влюбился потому, что ее сияющие умные ласковые глаза каким-то образом с первой минуты проникли мне в душу и я почувствовал, что впервые в жизни меня понимают. Конечно, Кристел понимала меня, но мы с Кристел были так неразрывно связаны, что правильнее было бы сказать: Кристел – это я. Между нами не было разграничения, мы не пытались посмотреть друг на друга со стороны. Энн же встретилась со мной как с чужим человеком, судила обо мне как о чужом человеке и чудом поняла меня. В ее присутствии я отдыхал, каждый мой мускул, каждый атом моего тела успокаивались и расслаблялись. Я жил, я видел, я существовал. Время, представлявшееся мне в виде огромных часов, отсчитывающих минуты моей гонки – экзамена, на котором я просто не мог провалиться, – внезапно остановилось и стало огромным. Нельзя сказать, чтобы наши беседы были так уж содержательны – во всяком случае, вначале. Просто от одного ее присутствия я чувствовал необыкновенное спокойствие и радость, которые сначала не принял за любовь.
Только к зимнему триместру святого Иллариона я уяснил себе, что впервые по-настоящему влюбился, что это так, что я безумно влюблен в Энн Джойлинг. Сознание, что ты влюблен, автоматически преисполняет тебя восторгом, если нет каких-то очень сильных противодействующих факторов. А в данном случае сильные противодействующие факторы существовали. Она была женой человека, которого я любил и уважал и который к тому же был моим благодетелем. Их брак был счастливым. И она не была влюблена в меня. Но, поскольку я вовсе не собирался обольщать ее или как-либо ей докучать признанием о моем удивительном состоянии, я решил, что могу наслаждаться им втайне, чувствуя, как поразительно расширяется вокруг меня мир, как он таинственно трансформируется, каким он становится прекрасным, – иными словами, могу наслаждаться втайне всем тем, что приносит с собой любовь. Конечно, я в то же время и страдал – я чувствовал себя пронзенным, пригвожденным, я извивался в агонии. Я ходил по Оксфорду с тайной мукой и радостью, совсем не думая о будущем и, уж конечно, даже и отдаленно не помышляя о том, чтобы завоевать любимую. А потом настал день, когда она поцеловала меня.
Конечно, это было не впервые. Взрослые люди в Оксфорде то и дело целуются, что удивило и даже шокировало меня, когда я начал свободно вращаться в этом весьма своеобразном обществе. Оксфорд – очень гедонистическое место. (Говорят, Кембридж совсем другой.) На ужинах и далее на коктейлях люди, едва знающие друг друга, обнимаются и целуются. Энн донельзя удивила меня, поцеловав в щеку, когда я во второй раз пришел к ним на ужин. Тогда я еще не был влюблен в нее или, во всяком случае, не сознавал этого. Я до сих пор отчетливо помню прикосновение свежих губ к моей щеке на крыльце большого дома в летних сумерках почти двадцать лет тому назад. Но, как я уже сказал, это был поцелуй того рода, какими в Оксфорде вообще то и дело обмениваются, и он ровно ничего не значил.
По-настоящему мы поцеловались у меня на квартире второго марта – это было на шестой неделе зимнего триместра. К этому времени у Энн уже вошло в привычку приносить мне всякие мелочи – украшения для квартиры, крючки для занавесок, крючки для картин, пепельницы, подушечки. Она вела себя так не только со мной: ей правилось делать подарки и «опекать» молодых донов-холостяков. Она поставила крест (быть может, неразумно? Они с Ганиером часто обсуждали это) на собственной академической карьере. (Она ведь тоже получила диплом первой степени.) Ребенок у них был всего один, хотя они очень хотели иметь еще. Поэтому у Энн было достаточно свободного времени да и творческой энергии тоже. К тому моменту, о котором я рассказываю, я уже месяц как был по уши влюблен в нее. Я как-то умудрялся преподавать и вести себя нормально, только вся моя светская жизнь, если можно так выразиться, прекратилась, поскольку я все время проводил дома: а вдруг позвонит Энн. В тот день, о котором я рассказываю, ярко светило солнце, было около одиннадцати утра. У меня сидел ученик, но лишь только появилась Энн, я отпустил его. Она побранила меня за это. Она принесла мне промокашки. (Я как-то пожаловался на то, что у меня нет ни одной.) И сейчас она принесла мне толстую пачку промокашек разного цвета. Разорвав обертку, она со смехом веером разложила их на столе. Я предложил ей шерри, но она отказались, заметив, что пить еще рано, да и вообще она спешит. Ей надо идти. Мы не виделись целых шесть дней, и я за это время выбегал из своей квартирки лишь в столовую. И вот теперь она пришла и тут же собирается уходить. Мы оба стояли, прислонясь к каминной доске, – она любовалась своим веером из промокашек, а я смотрел на нее. Она отпустила какую-то шутку и рассмеялась. Потом повернулась ко мне, и смех ее оборвался. Выражение моего лица, должно быть, говорило само за себя, и тайна перестала быть тайной. Наверное, терзаясь мыслью, что она вот-вот уйдет, я сам положил этому конец. Она с минуту смотрела на мое мрачное лицо, затем поцеловала меня в губы.
Я тотчас потерял власть над собой. Я схватил ее в объятья, притянул к себе и крепко прижал в слепом экстазе безмолвной страсти. Не говоря ни слова, я долго-долго изо всех сил сжимал ее в объятьях. Сначала она не противилась, потом стала вырываться.
Я медленно отпустил ее. Я увидел ее лицо – совсем другое, изменившееся уже навсегда. Я все еще не владел собой. Я сказал:
– Я люблю тебя. Давай пойдем туда, пойдем со мной, ляжем! Хотя бы на минуту. Я хочу почувствовать тебя всю. Я ведь никогда никого еще не любил. Пойдем со мной, прошу тебя, прошу.
Она повела себя удивительно прямодушно. Ее рука, как бы сдерживая меня, еще лежала на моем плече.
– Хилари. Извините. Прекратим это. Вы просто… вы хотите убедиться… можете ли обладать женщиной?
– Я люблю вас, Энн, я боготворю вас. Я все время думаю о вас. Я никого еще не любил. А вас полюбил до безумия, до смерти, я ничего не могу с собой поделать. Ох, пожалуйста, не уходите, не оставляйте меня. – Я упал на колени и, обхватив ее ноги, принялся целовать ее юбку, плащ, потом прижался головой к ее бедру.
– Вставайте, Хилари. Да вставай же!
Дверь очень тихо и бесшумно отворилась, и, словно кошка, в комнату вошел Тристрам. Я встал с колен.
Энн с пылающим лицом быстро повернулась, взяла Трист рама за руку и исчезла вместе с ним за дверью.
Только после ее ухода я, словно в галлюцинации, почувствовал, как отчаянно билось ее сердце рядом с моим. Я вбежал в спальню, кинулся лицом на постель и долго лежал, стеная и кусая себе руки.
Через три дня мне предстояло вместе с Джойлингами идти на ужин. Эти три дня были для меня кромешным адом, мрак которого лишь изредка прорезали короткие вспышки преступной радости. Я, конечно, довольно скоро все объяснил себе про этот поцелуй. Она поцеловала меня в порыве великодушия, от сознания полноты своей счастливой жизни, из чувства симпатии, которую ей не жаль было проявить по отношению к такому обездоленному, как я, человеку. Словом, инцидент закрыт. И поцелуй этот ровным счетом ничего не значит. Разве лишь то, что Энн больше уже не придет навестить меня. Я даже не был уверен, следует ли мне ехать на ужин. Тем не менее поехал, потому что не мог поступить иначе. Не мог не видеть ее. А когда я ее увидел, все мои объяснения рассыпались в прах. На ужине были Элдридж и один приезжий итальянский ученый. Мы говорили по-итальянски. Энн владела этим языком даже лучше, чем Ганнер. Держалась она как обычно – разве что, когда я вошел, глаза ее сказали мне, что она все помнит. И мне почему-то стало ясно, что она ничего не говорила Ганнеру. За эти три дня мне ни разу не пришло в голову, что она может рассказать все мужу. Я просто забыл о существовании Ганнера. Когда я уходил, она, по обыкновению, поцеловала меня в щеку. Я крепко сжал ей руку, а потом пожалел об этом: я ведь лишил себя возможности почувствовать, пожала ли она мою.
Вот после этого действительно разверзся ад. Конечно, рано или поздно Энн все расскажет Ганнеру. И они никогда больше не пригласят меня и не придут ко мне. Что же я буду делать? А единственным моим серьезным занятием было думать об Энн. Я продолжал преподавать и есть, но делал все словно в полубессознательном состоянии – впрочем, семестр все равно подходил к концу. Я избегал встреч с Ганнером в колледже, хотя, когда мы встречались, он был неизменно дружелюбен и вел себя как обычно. А потом я услышал, как кто-то сказал в холле, что Джойлинги, лишь только начнутся каникулы, уезжают в Италию. Я еще больше замуровался. Триместр кончился, и я сидел у себя, не в состоянии даже отвечать на письма Кристел. Я не размышлял, не раздумывал и не строил планов. Просто страдал от отсутствия Энн, как человек, всецело поглощенный своей физической болью. Ничего, кроме боли, не было – лишь временами возникало дразнящее желание помчаться к ней и выяснить, там ли еще она. Итак, я сидел в кресле у себя дома и страдал. Даже не ждал ее, а просто страдал. Я желал лишь – если я вообще чего-то желал, – чтобы поскорее прошло побольше дней и я бы уже не сомневался, что Энн уехала из Оксфорда. А потом как-то утром – опять около одиннадцати – она вдруг появилась в моей квартирке.
Она подошла ко мне, и я схватил ее в объятия. Я не мог слова вымолвить. С минуту она стояла тихо, потом попыталась высвободиться.
– Хилари. Пожалуйста. Только послушайте, что я скажу, поверьте тому, что я скажу, и не думайте, что тут что-то другое. Мы уезжаем в Италию. Я просто не могла вот так уехать. Думала, что смогу. Но меня не оставляет тревога за вас. Я не могла уехать, не увидев вас снова. Так что я пришла, только чтобы попрощаться. Только для этого. Не страдайте, ох, пожалуйста, не страдайте, не надо… Прощайте… – Она кинулась к двери и исчезла. А я продолжал стоять, словно пригвожденный. Ах, если бы, если бы она не приходила вообще! Не приди она, я бы, возможно, сумел совладать с собой, сумел безжалостно утопить свою любовь в безнадежности ради спасительной лжи соблюдения приличий. Не будь этого, я бы не дал себе поверить, что интересую ее, снова бы не почувствовал, как слитно бьется ее сердце с моим. А теперь у меня было чем жить – даже больше, чем просто жить – до конца каникул. Теперь я знал, что снова увижу ее, снова буду держать в объятиях. И вдруг я почувствовал неизъяснимое счастье. Я смог даже работать. Приехала Кристел, и я повозил ее в машине по Котсуолду. Однако я сократил ее визит и уже не говорил с ней о будущем – просто не мог. И, конечно же, ничего не сказал об Энн. Оставшуюся часть каникул я провел в моей квартирке – читал, работал. Читал много поэзии, наслаждаясь и грамматикой стихов, и самими стихами. С восторгом изучал русский. Побаловался с турецким. Продвинулся в венгерском. Подготовил лекции к следующему семестру. А потом – стал ждать.
Джойлинги вернулись перед самым началом занятий. Я встретил Энн на университетском дворе. Ганнер стоял у входа – достаточно далеко, чтобы не слышать нашего разговора, – и беседовал с органистом колледжа. (Он был большой мастер устраивать музыкальные вечера.) Ганнер помахал мне рукой. Я махнул в ответ. И сказал Энн: «Я хочу тебя, хочу, и пусть потом я умру, но я хочу и добьюсь своего». Шагая прямо по траве, к нам подошел Ганнер. «Привет, Хилари». – «Привет. Хорошо провели время в Италии?» – «Отлично. Мы были в Калабрии. Чуть не купили там ферму. Почему бы вам не зайти к нам завтра поужинать? Это было бы о'кей, верно, Энн?» Я пришел на этот ужин и коленом крепко прижался к колену Энн под столом. Она отодвинулась. Через три дня она пришла ко мне.
Сдалась она наконец в среду днем, на четвертой неделе весеннего триместра. Она пришла ко мне, сказала Энн, прежде всего из жалости и потому что боялась, как бы я не совершил какого-нибудь отчаянного поступка. Думается, если бы я не сказал ей тогда, что никогда не любил и хочу переспать с ней, если бы я сказал более нежно и сентиментально, что влюблен в нее, возможно, она нашла бы в себе силы сопротивляться. А так ей, видимо, показалось, что все обстоит очень просто и быстро кончится, ибо она способна дать то, что мне необходимо, и из великодушия рано или поздно все равно мне это даст. Ей хотелось, чтобы я убедился, что способен любить. Я-то, собственно, никогда в этом и не сомневался – просто нам обоим было легче оттого, что я не мешал ей так думать. Я был влюблен по уши, но в то же время жаждал физической любви, жаждал обладать Энн с такою силой, с какой я ничего еще не желал, и такая моя любовь сыграла свою роль, как сыграла свою роль и псевдооткровенная оболочка, в которую я ее облек. Конечно, Энн понимала и все другое тоже и не согласилась бы, если бы не знала, что я безраздельно принадлежу ей. Но прежде всего она пошла навстречу моей физической страсти. Остальное могло подождать. Мы делали вид, будто никакой огромной любви не существует, тогда как оба знали, что это – единственно возможная почва для сближения. Так в молчаливом сговоре мы обманули друг друга. Собственно, Энн к тому времени, хоть она и пыталась это скрыть, уже физически тянуло ко мне. Вначале я с трудом мог этому поверить, и как ярко вспыхнул окружавший меня мрак, когда я это понял. Ее влекло ко мне словно магнитом, и она не могла ко мне не прийти. Она, как на крыльях, летела по Оксфорду на юг, летела в мою квартирку, потеряв голову от острой потребности быть со мной, со вздохом облегчения раствориться в счастье моего присутствия. А я по-прежнему твердил о ее доброте, о моей благодарности.
После великого священнодействия в ту среду днем мы оделись и стояли потрясенные, держась за руки, оба такие несчастные, точно жалели друг друга, ошарашенные силой урагана, который взмыл нас ввысь и переселил в другую страну. Простая ситуация, когда один нуждается, а другой дает, – исчезла. Мы создали лабиринт и затерялись в нем. И теперь мы увидели, что может возникнуть боль – для нас и для наших близких. После того как Энн впервые пришла ко мне по возвращении из Италии, я положил конец всем затеям, связанным с Кристел. А она намеревалась прожить большую часть весеннего триместра в Оксфорде. Я сказал ей, что это невозможно, что я не могу подыскать ей подходящую квартиру, что я слишком занят и вообще надо подождать. Кристел, конечно, не стала хныкать. Словом, я очистил арену для действий, – но каких? Что я мог еще сделать, кроме того, чтобы молить замужнюю женщину тайно посещать меня? Да и как долго это может сохраниться в тайне? Энн посещала уйму людей, но всякий раз, когда она пересекала университетский двор, десятки любопытных глаз могли подметить, куда она идет. Наше расставанье было пылким, однако без всяких планов на будущее. Мы не могли даже говорить о каких-либо планах. И я целую неделю не имел от Энн вестей.
В конце недели я получил от нее письмо, в котором она писала, что лучше нам больше не встречаться. Я не ответил. Я сидел у себя и ждал. Она пришла. Мы кинулись в объятия друг другу. Звучит сейчас все так, словно мы занимались любовью, никакого чувства при этом не испытывая. Любую историю можно ведь рассказать по-разному, и есть какая-то справедливость в том, чтобы нашу рассказывать цинично: молодая жена и мать развлекается втихомолку; распутник обманывает своего лучшего друга и так далее. Сами факты уже предосудительны – от этого никуда не уйдешь. Во всяком случае, я вовсе не хочу оправдываться, но хочу попытаться оправдать Энн. Все было так сложно и произошло не сразу, а скачками, каждый из которых был по-своему неизбежен и имел свой особый смысл. Мы были молоды и попали в тенета страшной всесокрушающей физической любви. Я-то с самого начала был безоглядно влюблен. А Энн влюбилась постепенно. Она жалела меня. Жалость незаметно переросла в поработившее ее влечение. Она чувствовала во мне зародыши буйства, и это ее огорчало. Я рассказал ей о моем прошлом. Рассказал то, чего не рассказывал даже Кристел. Она рассказывала о своем прошлом. Я чувствовал полнейшую общность с ней – общность, граничащую с чудом. Она понимала меня, она пеклась обо мне больше, чем кто-либо на свете, больше даже, чем мистер Османд. Такое впечатление, точно я оказался под благостным оком Господа Бога. Энн купала мою уязвленную душу в живительной росе. И однако же оба мы были в аду. Она ужасно страдала. Я видел, как меняется ее сияющее личико, как из него уходит радость, и от отчаяния и злости на судьбу скрипел зубами. Если бы эта женщина не была замужем, если бы все обстояло иначе, если бы… Она не хотела ко мне приходить – и, однако же, хотела и приходила. Она любила мужа и сына, но любила и меня, ее тянуло ко мне с такою силой (я так думаю – сама-то она никогда мне этого не говорила), как никогда не тянуло к мужу. Мы терпели эту муку весь май и июнь, и утешали друг друга, и решали расстаться, и не могли расстаться, и плакали.
Потом настал день, когда она пришла, и по ее лицу я сразу понял, что произошло. Ганнер узнал. Мы так и не выяснили, как он узнал, но узнать было нетрудно. Он напрямик спросил ее, и (как мы и условились) она сказала ему все. Я не стал ее спрашивать, как он повел себя. Ушла она от меня глубоко несчастная – такой несчастной я никогда еще ее не видел; она была, как ходячий труп. На другое утро я получил от Ганнера записку, в которой было сказано всего лишь: «Пожалуйста, оставьте Энн в покое. Пожалуйста». Потом несколько дней – ничего. В колледже Ганнер не появлялся. Кончился триместр. Я был как в лихорадке, зато теперь у меня появилась безумная надежда. Я не собирался отказываться от Энн. Мы, так сказать, ждали момента, когда Ганнер узнает, так же, как мы ждали, когда Энн сама сдастся, – это были своего рода барьеры, стена, за которой все должно измениться, за которую бесполезно заранее заглядывать. Теперь, когда последний барьер был пройден, я понимал, что должен просто убедить Энн прийти ко мне, прийти навсегда, разорвать свой брак, покончить с ним и выйти за меня замуж. Понимал я и то, что при той власти, какую я имел тогда над ней, это было возможно. В качестве первого шага надо просто увезти ее, украсть, если нужно, пробыть с ней подольше наедине – долго-долго, чтобы между нами больше уже не стояла ложь. Ожидание теперь превратилось в муку, так как я чувствовал, что каждый час, проведенный Энн с Ганнером, ослабляет мою власть над нею. На четвертый день я позвонил ей и попросил встретиться со мной в Сент-Джонсском парке. Моя квартирка перестала быть безопасным убежищем. Мы встретились, и Энн плакала целый час. Мы ушли в самую заросшую часть парка, и она все плакала и плакала. Я сказал ей о своих чувствах, о своих намерениях. Она что-то бормотала на грани истерики. А я голову терял от горя. Ничего ни планировать, ни даже обсуждать было невозможно.
На другой вечер, часов около девяти, она явилась ко мне – лицо у нее было белое, застывшее, она вся тряслась и дрожала. Я дал ей виски и выпил сам, не разбавляя водой. Она сказала: «Мне буквально пришлось сбежать из дому». Именно этого я и ждал. Я сказал: «Я увезу тебя. Поехали». Я швырнул несколько вещей в чемодан, спустился вместе с Энн по лестнице и посадил ее в мою машину. Я весь вспотел от страха: а вдруг Ганнер явится сейчас. Боялся я не того, что он может напасть на меня, избить, – мне хотелось использовать этот ниспосланный Богом случай, чтобы увезти Энн, пока она была в состоянии, способствовавшем бегству. Меня самого так трясло, что я с трудом мог завести машину. Энн, словно в трансе, сидела рядом и тупо смотрела перед собой. Когда мы мчались через Хедингтон к шоссе, ведущему на Лондон, она спросила: «Куда мы едем?» – «В Лондон». – «Нет… пожалуйста… отвези меня домой…» – «Ни в коем случае. Я увожу тебя навсегда. У нас теперь с тобой будет общий дом». Она заплакала. Перед самым выездом на шоссе она сказала: «Хилари, остановись, пожалуйста. Я должна тебе кое-что сказать». – «Нечего больше мне говорить, дорогая. Мы любим друг друга. А для сожалений время уже прошло. Ты – моя». – «Остановись, пожалуйста. Я должна тебе кое-что сказать. Остановись же».
Я сбавил скорость и свернул на обочину. Спускались голубые летние сумерки, небо все еще горело, а земля уже лежала темная. В полумраке я повернулся к Энн. Мчавшиеся мимо машины с зажженными фарами на мгновение освещали ее лицо.
– Энн, дорогая, я люблю тебя. Не покидай меня. Ты теперь пришла ко мне, не покидай меня больше, иначе я умру.
Она обвила руками мою шею с таким доверием, с такой безграничной любовью, что на минуту страх покинул меня. Затем она отстранилась и сказала:
– Хилари, все это ни к чему.
– Не надо. Я завожу машину. Мы ведь уже сбежали, остается лишь продолжать. Ты – моя.
– Нет, нет, послушай. Мы не можем уехать. Я беременна. Я уставился на ее лицо, смутно белевшее в сгущавшихся сумерках. Глаз ее я видеть не мог, по но дрожи, сотрясавшей ее тело, понял, что она плачет.
– Так скоро, – сказал я. – Ну, вот теперь мы и связаны навсегда. Теперь ты уже не можешь от меня уйти. А ты уверена? – В душе я был все же несколько потрясен.
– Да. Но, Хилари, ты не понял…
– Что… ты хочешь сказать…
– Да. Это не твой ребенок, это ребенок Ганнера. Ледяной холод заполнил мое сердце, растекся но сосудам.
Но голос у меня звучал жестко и твердо:
– Ты хочешь сказать, что это не исключено?
– Нет. Так оно и есть. Об этом говорят сроки. Никаких сомнений. Я думала, может быть… мне так не хотелось знать. Я только теперь в этом уверилась… считала, что это просто невозможно… и потом я ведь раньше собиралась порвать с тобой… собиралась порвать, как только узнает Ганнер: я считала, что придется на это пойти… и вот я… просто плыла по течению… и все надеялась, что это не так… и не ходила к доктору… ох, какая же я плохая, какая глупая…
– Понятно, – сказал я. – Ты намеревалась порвать со мной, как только узнает Ганнер. Но мне-то ты об этом никогда не говорила.
– Ничего я не намеревалась. Что я могла поделать? Я не думала, что будет дальше. Я очутилась в капкане. Я люблю Ганнера. Я люблю Тристрама. И такая уж мне выпала судьба – полюбить тебя. Ты не знаешь, даже ты до конца не знаешь, сколько я выстрадала за эти последние месяцы…
– Ты говоришь с какой-то обидой, – сказал я все тем же холодным, жестким тоном.
– Наверное, так оно и есть. Я ведь была счастлива – до того, как появился ты.
– Очень жаль. Я тоже был счастлив до того, как появилась ты.
– Значит, все ясно… верно… мы должны расстаться… о Господи… мы оба должны постараться… чтобы все было как прежде… иначе – такая мука… мне очень жаль, мой дорогой, очень, очень, очень жаль… Пожалуйста, отвези меня домой, хорошо? О Господи, я так люблю тебя, так люблю тебя… Но все это безнадежно… – Она всхлипывала, и ее всю трясло.
Я спросил:
– Ганнер знает?
– О ребенке? Да.
Если бы она солгала мне хотя бы тут. Если бы она мне не сказала и этого.
– Значит, он считает, что ты привязана к нему… из-за этого чертова ребенка?
– Я действительно к нему привязана.
– Нет, – сказал я. – Ничего ты не привязана. Ты ошибаешься. И ты поедешь сейчас со мной – с ребенком или без ребенка. И куда бы мы сейчас ни направились, мы поедем вместе, моя дорогая. – Неуемная ярость и горе владели мной, превратив меня в жестокий, четко работающий автомат. Я включил зажигание, и машина тронулась с места.
– Хилари, пожалуйста, отвези меня домой, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста…
Я молчал. Мы выехали на шоссе.
– Хилари, прошу тебя, не гони так, ты что, хочешь, чтобы мы разбились… Хилари, не гони так… Хилари, Хилари… ох, пожалуйста, пожалуйста, отвези меня домой… ох, остановись, остановись же, остановись, не гони так…
Машину занесло – она пересекла среднюю полосу на скорости около ста миль в час. С какой машиной из шедших нам навстречу мы столкнулись – решил случай. Столкнулись мы с «бентли», в которой почти с такой же скоростью ехал биржевой маклер. Обе машины были разбиты вдребезги и еще шесть машин серьезно повреждены. Биржевой маклер отделался переломом ног. Никто больше серьезно не пострадал, кроме меня и Энн. У меня было много травм. Энн умерла в больнице на другой день.
У меня не было ни малейшего сомнения в том, что я вел себя тогда подло. Это сознание многие годы потом жило со мной. Но наш роман представлял собою такое сплетение противоречий, недопониманий, ошибок, мелких хитростей и просто слепого ожидания и надежды. Откуда нам было знать, что все придет к такому концу? Я был отчаянно влюблен – я любил эту женщину какой-то безнадежной, властной, всеобъемлющей любовью, так глубоко проникающей в душу, что она как бы служит сама себе оправданием. On n'aime qu'une fois, la première.[49]49
Любят всего лишь раз – первый (франц.).
[Закрыть] Я думаю, это верно, если иметь в виду единственного и неповторимого Эроса, хотя, быть может, единственный и неповторимый Эрос и не величайший из богов. Энн тоже была отчаянно влюблена, только у нее любовь была с надрывом – от безнадежности, которую она, очевидно, понимала, а я – нет. Она любила мужа, и я помнил – даже в минуты величайшего моего торжества, – как она была счастлива, когда мы впервые встретились, и я видел потом, как она бывала сломлена, как рухнуло ее счастье из-за меня и моей страшной любви.
Позднее – не раз за эти годы, проведенные почти в непрерывных размышлениях о событиях того лета, – мне приходило в голову, что я, пожалуй, переоценивал силу ее страсти. Вполне возможно. Даже если бы она не обнаружила, что беременна, решилась бы она когда-нибудь бросить Ганнера и прийти ко мне? Как складывались их отношения после того, как Ганнеру стало все известно? Я этого не знал, да и не хотел знать. С другой стороны, если бы я не обезумел от ярости после слов Энн, если бы я просто увез ее в тот вечер, осталась бы она со мной, не вынужден ли был бы я уступить и отвезти ее назад, к Ганнеру и Тристраму? Она, конечно, любила меня, в этом нет сомнения. Возможно, ее поразила сила моей любви, а этого иногда вполне достаточно, чтобы полюбить. Ах, если бы она не вернулась ко мне после того первого поцелуя. Если бы не сказала мне, что Ганнер знает про ее беременность. Это известие в тот момент почему-то произвело на меня страшное впечатление. Если бы она мне этого не сказала, я бы посчитал это осложнением, препятствием, чем-то требовавшим от меня решения, я бы не впал в такую ярость и отчаяние. Есть люди, которые утверждают, что мир давно потерян для любви. Я так не считал. Я любил Энн всем своим существом, что бывает только раз. Но я всю жизнь жалел, что это случилось. Жалел, что вообще встретил ее, ибо мир теперь был действительно для меня потерян – потерян не только для меня, но и для Кристел.
Я, естественно, тотчас подал в отставку. Подал в отставку и Ганнер. Он ненадолго занялся политикой, баллотировался даже в парламент от лейбористской партии, потом стал государственным чиновником, приобрел имя и известность. А я на многие годы заболел (по-моему, это точно описывает мое состояние). Заболел не психически. Я никогда не считал, что могу сойти с ума. Просто я был раздавлен, уничтожен. Я утратил самоуважение и с ним – способность управлять своей жизнью. Грех и отчаяние сопутствуют друг другу, и только покаяние может трансформировать грех в чистую боль. А я не мог отделить от горя обиду. Раскаивался ли я? Этот вопрос не раз волновал меня на протяжении лет. Может ли испытывать раскаяние полураздавленное, кровоточащее нечто? Может ли эта бесконечно сложная теологическая концепция проникнуть в поистине страшные закоулки человеческой натуры? Возможно ли такое, если у тебя нет Бога? Сомневаюсь. Можно ли одним лишь страданием обрести искупление? Мне искупления оно не принесло, а только сделало более слабым. Я, столь долго взывавший к справедливости, готов был за все заплатить, но платить было нечем и некому. Я сознавал, что убил Энн (и ее нерожденное дитя) – совсем как если бы ударил ее топором. Вся эта история была мастерски замята Ганнером. (Неудивительно, что он потом так преуспел в дипломатии высокого уровня.) Он распустил слух, что я любезно согласился подвезти Энн в Лондон. Потом мое имя и вовсе выпало из этой истории. И я исчез из Оксфорда, словно никогда там и не жил. Много времени спустя я слышал, как кто-то говорил, что первая жена Ганнера Джойлинга погибла в аварии, разбившись в своей машине. А я-то считал, что всю жизнь буду носить на груди бирку «Убийца». Но у каждого свои заботы, и люди склонны забывать. Не так уж ты всем интересен. Даже Гитлера и то мы забыли.








