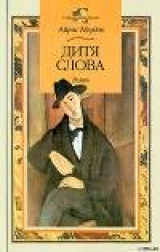
Текст книги "Дитя слова"
Автор книги: Айрис Мердок
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
– Нет. В этом-то все и дело. Вы просто… просто…
– Мелкая рыбешка, жертва случая, неудачник, похотливое ничтожество, нарушитель супружеской верности…
– Ну…
– И теперь вы все это увидели.
– И теперь я все это увидел. И это принесло с собой… своего рода жалость к ней… которая позволяет мне… которая позволит мне… не тревожить ее. Видите ли… самым ужасным было то, что я винил ведь и ее тоже.
Мысль сама по себе довольно простая, но когда он произнес ее вслух, я понял, что хотя она, возможно, и приходила мне в голову, но до конца я как-то ее не прочувствовал. Бедная Энн, ох, бедная Энн. Если бы только я мог произнести эти слова. Но исцеление – не для меня, мне вообще здесь нечего ждать. Я должен сидеть тихо и подстерегать «ошибку» или «случайность», когда какие-то слова вырываются и уже не забываются никогда. Я здесь присутствую как экспонат, объект презрения, чтобы наконец увидели, что я не жестокий злодей, а маленькая, мерзкая, едва ли отдающая отчет в своих действиях козявка, зубец в величественном колесе случая.
– Получилось все скверно, – сказал я. – Произошла авария.
– Да, – тихо произнес Ганнер, по-прежнему не глядя на меня. – Если бы я только мог увидеть… и прочувствовать… это.
– Вы хотите, чтобы я…
– Конечно, нет.
Ненадолго наступило молчание – он смотрел в огонь, медленно покачивая головой из стороны в сторону; синие глаза его затуманились, и, казалось, взгляд их вот-вот смягчится. Но не для меня. И на меня навалилось такое отчаяние, горе, страх, нижняя губа задрожала, стало холодно.
Ганиер взял со стола свой стакан, отхлебнул немного. И сказал:
– Поразительно.
– Что?
– То, что происходит, стоит что-то сказать вслух, или хотя бы подумать, подумать, быть может, впервые – при вас. Поразительно – это как катализатор.
– А не нанять ли вам меня – чтобы я сидел в углу комнаты, как собачка? Ваши гости едва ли станут против этого возражать, верно?
– Это куда лучше… о Боже… столько лет заниматься психоанализом, посещать этих надутых психоаналитиков, как я их всех ненавидел, потратить десятки тысяч долларов… Да, собственно, ведь один из них это и предложил.
– Чтобы вы повидали меня?
– Да. «Почему бы вам не пойти и не посмотреть на этого малого?» – сказал он.
– Вот вы и посмотрели. И помогло? Рановато еще делать выводы.
– Да, рановато, – подтвердил Ганнер, и в глазах у него появилось задумчивое выражение. – Но мне кажется… что… то, что можно было сделать, – сделано… и ждать мне уже нечего. Ведь в конце-то концов все очень просто – произошло диалектическое изменение, кошмар рассеялся, что-то окружавшее меня разбилось и теперь, естественно, само собой отпадает.
– Я не вполне понимаю, – сказал я, – но надеюсь, что вы правы. Каким образом будем продолжать лечение?
– О, мне нет больше нужды беспокоить вас, – сказал Ганнер.
– Я знаю, что вы сказали «только раз», но я… Теперь мне кажется… Собственно, никакого труда это для меня не составляет… Я буду только рад явиться…
– Нет, нет, – сказал Ганнер. – Лучше оставим все как есть. Последующие встречи могут только ослабить внечатление…
– Ну, и потом, конечно, есть риск!
– Да. Прошу извинить меня за такую энигматичность и эгоцентризм, но я был долго вынужден жить в самом себе. – Он помолчал. – Конечно, я законченный эгоист…
Это что – ключ к разгадке? Я не в состоянии был думать, не в состоянии понять чутьем и – упустил момент. Ганнер снова заговорил как сторонний наблюдатель:
– Вот этому я, кажется, научился у аналитиков: вытаскивать наружу эмоции, чувства, то, что лежит в самой глубине, в опасной близости к бьющемуся сердцу; постигать связи и осмыслять вещи страшные, не приукрашивая их. Пусть собака видит зайца, как мы в свое время говорили, и пусть заяц тоже видит собаку. Только этого ужасно трудно достичь. И тут-то и приходит на помощь психоаналитик, вот почему…
– Я помог.
– Вы помогли одним тем, что стоите тут точно…
– Точно неразумный младенец, или столб, или…
– Да, да. Я чрезвычайно благодарен. Что-то безусловно изменилось, а такого рода перемены обычно необратимы. Глубины сознания неподвластны времени. Вы здесь, здесь вы и останетесь: воздействие вашего образа не исчезнет…
– Если не считать того, что самого меня здесь не будет.
– Вас здесь не будет. Иначе ведь невозможно, не так ли?
– Невозможно.
– Я хочу сказать…
– Естественно, я уйду со службы, – сказал я. – Нет никакой необходимости подвергать вас риску встречаться со мной на лестнице. Раз я теперь всегда буду присутствовать в вашем сознании в качестве целителя, было бы очень жаль, – не так ли, – если бы я все испортил, являясь вам во плоти.
Ганнер улыбнулся, глядя в огонь.
– Я рад, – сказал он, – что вы оказались именно таким человеком. Вы дали мне возможность проявить мой эгоизм до конца.
– Каким же я оказался человеком?
– Я боялся… о-о… эмоций, призывов о помощи, сантиментов, всякой… слащавой чувствительности. Я боялся, что вам понадобится помощь.
– А откуда вы знаете, что она мне не нужна, коль скоро вы, как вы сами заявили, не желаете вдаваться в мои чувства?
– Ну, у человека ведь складывается определенное впечатление. Вам, конечно, было неприятно, что вас используют. Ваша досада, возможно, даже сыграла свою ценную роль.
– Досада?
– Я хочу сказать, она позволила не накалять атмосферы. А как раз это мне и требовалось. И я вам очень благодарен. Я еще хотел кое о чем вас просить, но, пожалуй, не стану. Благодарю вас. Благодарю.
– Успех эксперимента А.
– И я благодарен вам за то, что вы собираетесь уйти со службы. Конечно, я рассчитывал на то, что вы уйдете. Разрешите пожелать вам всяческих успехов на новом поприще?
– Благодарю вас.
– А теперь… мне кажется, вы сказали, что пришли без пальто?
Я направился к двери. Когда я вышел из комнаты, в нос мне ударил запах духов Китти. Я сошел вниз по лестнице – Ганнер тяжело топал сзади. Дойдя до двери на улицу, я распахнул ее. Холодный воздух тотчас когтями вцепился в меня.
– Ну, так, значит, теперь все, да? Я рад, что наша встреча прошла ко взаимному удовлетворению.
– Да, – сказал он. – По-моему, мы хорошо ее провели, да, насколько это возможно при сложившихся обстоятельствах.
– Я немедленно ухожу со службы.
– Отлично. Спасибо. В таком случае прощайте.
– Прощайте.
Ни один из нас не протянул руки. Я шагнул за порог, и дверь тотчас за мной захлопнулась.
Я дошел до сквера на набережной, затем обернулся и посмотрел на дом. Показалось мне или в самом деле за темным окном второго этажа виднелось чье-то лицо? Пройдя еще немного вперед, я пересек мостовую и пошел по набережной. Был прилив, вода стояла высоко, от нее веяло холодом и легким запахом гнили, она несла всякий хлам – так близко от меня, что, казалось, можно достать рукой. Ветер дул резкими обжигающими порывами. Я двинулся на восток, затем повернул на север, к Кингс-роуд.
Ганнер все-таки отомстил. Отомстил сильнее, гораздо сильнее, чем если бы физически напал на меня, расквасил мне лицо или переломал ребра. Я чувствовал себя морально выпотрошенным. Я позволил ему надеть на меня ослиную маску мелкого низкого циника и не сбросил ее. При воспоминании о том, что я говорил и каким топом, я закрыл глаза и заскрипел зубами. Этому никогда, никогда не изгладиться из памяти! Ганнер заявил, что я теперь навсегда останусь с ним, но и со мной навсегда останется мой собственный образ – каким я выглядел в его глазах, каким я был. Я же смирился с представлением Ганнера обо мне – о том, что случившееся не глубоко меня задело, что я превратился в напыщенное, толстокожее ничтожество, закосневшее в своей иронии и обиде. Неужели он этому поверил? По всей вероятности; да к тому же Ганнеру вовсе не обязательно знать мое душевное состояние – в этом состоит безжалостная логика, с которой я обязан считаться. Если уж он пошел на такую, в общем, существенную уступку, признав, что я способен ему помочь, то, конечно, он имеет право использовать меня, как ему угодно. И ему вовсе не обязательно утруждать себя выяснением того, что я думаю. Он мог даже счесть это неделикатным. Его устраивало – при той настоятельной потребности во мне, какую он испытывал, – видеть во мне циника, и я все сделал, чтобы подкрепить такое его мнение обо мне. И он сказал: «Прощайте». Все они теперь распростились со мной – Бисквитик, Ганнер, Китти. И вся удивительная история осталась позади. А я вернулся туда, где мне и надлежит быть, к тому, на что я обречен с детства, – стою один на холодной улице, без пальто.
ПОНЕДЕЛЬНИК
– Что это с Хилари? – спросила Эдит Уитчер у Реджи Фарботтома.
– Горюет из-за своей девчонки.
– А что с ней случилось – забеременела?
– Нет, ее выкинули из пантомимы.
– Бедненький Хило – это после всех-то интриг. Неудивительно, что у него такой вид, будто его сейчас вывернет наизнанку.
– А он и в самом деле какой-то зеленый.
– Может, у него к тому же еще и грипп.
– Попытаемся пообщаться с ним?
– Пытаться общаться с Хилари – все равно что послать спутник на Марс.
– Неважно, попытаемся. Хилари!
– Хилари-и! Ау-у! Хило!
– Да? – Я сидел за своим столом, а они обменивались репликами у меня за спиной. Утро сегодня, в понедельник, было холодное, желтое, и сквозь эту желтизну виднелся Биг-Бен.
– Хилари, вы принимаете нашу волну?
– Да.
– Вы в порядке? У вас не грипп?
– Да. Нет.
– Что он хочет сказать своими «да», «нет»?
– Да – я в порядке, нет – у меня нет гриппа.
– Хилари…
– Да?
– Что вы там пишете? Могу поклясться, это не имеет отношения к работе.
– Он пишет письмо своей девушке.
– Если угодно, то это прошение об отставке.
– Ну, конечно, как он мог остаться после того, как его девушку выкинули из пантомимы, – это же себя не уважать!
– Нам повезло: сегодня Хилари упражняется в остроумии.
Я запечатал прошение об отставке и отослал его со Скинкером, который тоже – только более дружелюбно – осведомился, не заболел ли я. Скинкер только что оправился после гриппа и подробно рассказал мне о том, как он болел, а теперь, судя по всему, свалился Артур. Это было приятное известие, поскольку я сейчас вполне мог обойтись без Артура. Да и он не станет завтра ждать меня к себе, поскольку знает, как я боюсь подцепить заразу. Теперь мне предстоит за месяц подыскать себе работу. А это штука нелегкая.
Я чувствовал себя бесконечно усталым и даже не пытался заняться делом. Накануне я вернулся домой около полуночи. Я не стал выяснять, когда ушла Томми, так и не дождавшись меня. Около полудня я вышел из своего учреждения и позвонил Кристел из автомата близ Скотланд-Ярда. Я очень редко звонил ей, хотя знал, что ей было бы приятно услышать мой голос, что она сидит дома одна, шьет и думает обо мне.
– Привет. Это я.
– О-о… как хорошо… мой дорогой.
– Что ты поделываешь?
– Шью.
– А что ты шьешь? Платье для коктейлей этой твоей новой заказчице?
– Нет, это я уже закончила.
– Хорошо получилось?
– Потрясающе.
– А что ты сейчас шьешь?
– Перешиваю пальто для соседской девочки.
– Угу… Кристел…
– Да?
– Ты не переживаешь из-за того… что ты рассказала мне в прошлый раз?
Молчание. Чувствуется, что Кристел сейчас расплачется.
– Нет.
– Не надо. Мне очень жаль, что я так отвратительно себя вел. И мне жаль, что я не остался и не поел твоих рыбных фрикаделек. Они были вкусные?
– Я их тогда тоже не ела. Я съела их холодными в воскресенье на обед. Они были вкусные.
– Вот и прекрасно, Кристел…
– Да?
– Не грусти, мне невыносимо, когда ты грустишь. Все это не имеет значения, ничто в прошлом не имеет значения. То есть я хочу сказать, конечно, имеет, но я буду так несчастен, если ты…
– Я в полном порядке. Не волнуйся из-за меня, хороший мой, я абсолютно в порядке. Правда. Действительно правда.
– Вот и умница. Молчание.
– Кристел, могу я прийти к тебе поужинать в среду вечером?
– Да… да, конечно…
– Отлично. В обычное время. В таком случае – до скорого.
Сама она никогда не попросит меня о встрече. Будет ждать, всегда будет ждать.
Я пообедал в «Шерлоке Холмсе», или, вернее, выпил, закусив хрустящим картофелем. Около половины третьего я вернулся на службу. Эдит не было. Из Архива доносился громкий голос Реджи, упражнявшегося в эротических шуточках.
Я прошел к своему столу и по привычке взглянул на корзинку «входящих». Сверху лежало письмо от Ганнера.
Я схватил его и, пригнувшись к столу, с трудом переводя дыхание, вскрыл конверт.
«Я хочу кое о чем попросить Вас и больше уже не буду Вас беспокоить. Это займет всего две минуты. Может быть, Вы могли бы зайти ко мне в кабинет в течение сегодняшнего дня?
Г. Дж.»
Я опустился на стул и минут десять пытался отдышаться. Затем встал и пошел по лестнице вниз – на второй этаж. Я от души жалел, что так много выпил во время обеда, но ждать я не мог – мне необходимо было тотчас увидеть Ганнера. На лестнице я столкнулся к Клиффордом Ларром. Мы прошли друг мимо друга, точно и не были никогда знакомы.
У двери в кабинет Ганнера я снова почувствовал, что у меня не хватает дыхания. И постоял с минуту; затем, боясь, что кто-нибудь может меня увидеть, я постучал, услышал за дверью какое-то бормотанье и вошел.
Он был один и, как и в первый раз, сидел в полутьме за своим большим столом, на котором стояла лампа с зеленым абажуром. Сидел нахохлившись, точно приготовился к обороне, и – я сразу заметил – с тревогой всматривался в меня. Он казался таким незащищенным, что у меня возникло впечатление, будто все, чего мы достигли накануне, перечеркнуто и нам предстоит начать все сначала. Однако когда он заговорил, тон у него был ледяной и такой же слегка насмешливый, слегка презрительный и безукоризненно вежливый.
– Прошу прощения за то, что я снова побеспокоил вас, – это не отнимет много времени. Я упомянул вчера, что есть еще одно обстоятельство, которого, пожалуй, мне не следует касаться. Но я счел необходимым все-таки коснуться его, если я хочу для себя, – а меня занимает только это и только с этим я намерен считаться, – если я хочу выяснить все до конца.
Я стоял перед ним – тоже в темноте – и наблюдал, как нервно движется по столу в кружке света его крупная, какая-то удивительно чистая правая рука – перебирает бумаги, поглаживает их.
– Я вас слушаю!
– Моя просьба может показаться вам странной, но… не мог бы я всего один только раз – повторяю: только раз и очень ненадолго – нанести визит вашей сестре?
Вот это было совершенно неожиданно. Во мне возник смутный страх, и я абсолютно не знал, что ответить. Считает ли Ганнер, что я знаю или что я не знаю о том, что произошло, если это было? Я сказал:
– Зачем?
– Я хочу видеть ее. Не у себя в доме. Предпочтительно у нее на квартире или… словом, там, где она живет.
– Так же, как вы хотели видеть меня?
– Нет, – сказал Ганнер, – не совсем так.
– А почему вы так уверены, что она не замужем и не живет в Новой Зеландии?
– Я нашел ее фамилию в лондонской телефонной книге.
Минуту-две я молчал. А он изучал свои руки. Я сказал:
– Я спрошу у нее.
– В самом деле? Это будет очень любезно с вашей стороны. И так или иначе дайте мне знать об этом письмом – либо на работу, либо на Чейн-уок. Я свободен в среду вечером или в будущий понедельник.
– Я дам вам знать.
– Благодарю вас.
Он произнес это топом, дававшим понять, что разговор окончен. Я постоял, потом, поскольку он по-прежнему не смотрел на меня, повернулся на каблуках и пошел к двери. У порога я остановился.
– Кстати, я направил прошение об отставке.
– Отлично. Мне остается лишь повторить мои добрые пожелания и еще раз попрощаться с вами.
– Прощайте. – Я вышел.
Я пулей слетел с лестницы и выскочил на улицу – опять-таки без пальто. Восточный ветер пронизывал желтоватую мглу. Я добежал до ярко освещенной телефонной будки.
– Кристел. Привет. Это опять я. Похоже, у нас сегодня день телефонных разговоров.
– Привет, мой хороший.
– Кристел, слушай. Я видел Ганнера. Молчание.
– Слушай, он хочет видеть тебя. Молчание.
– Он говорит – ненадолго, всего один раз. Сказать ему, чтоб убирался к черту?
– Вы говорили о?..
– Нет, конечно, нет. Он ничего не сказал, и я тоже. Но, Кристел, дорогая моя, тебе вовсе не обязательно встречаться с ним. Я просто счел нужным сказать тебе – было бы неверно, если бы я не сказал, но, право же, в этом свидании нет никакого смысла, и ты только расстроишься…
– А она знает?
– Нет, не знает.
– Ты уверен?
– Да. Она говорила… Неважно, я уверен, что она не знает. Ганнер не хочет, чтобы ты пришла к нему домой, он сам приедет к тебе.
– Приедет сюда?
– Да, а почему, собственно, нет – он ведь не Господь Бог. Но, право же, я считаю…
– Да, я увижусь с ним.
– Кристел, ты вовсе не обязана…
– Я хочу. Когда он приедет?
– О Господи, он сказал, что в среду вечером… или в будущий понедельник…
– Скажи ему – в среду.
– Но ведь по средам прихожу к тебе я.
– Я должна увидеть его, мой хороший… а до понедельника я просто не в состоянии ждать… я хотела бы видеть его… как только он сможет прийти…
– О, да ладно. Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Так я скажу ему – в среду, между семью и восемью.
Я положил трубку и продолжал стоять, точно парализованный, в ярко освещенной будке, пока человек, дожидавшийся снаружи, нетерпеливо не забарабанил по стеклу. Следовало ли мне говорить ей?
Я медленно пошел назад, на службу. На столе лежало официальное письмо, в котором говорилось, что моя отставка с сожалением принята, и указывалось, что, поскольку мне еще не исполнилось пятидесяти, я не имею права на пенсию. Я написал Ганнеру записку, в которой дал ему адрес Кристел и сказал, что она готова встретиться с ним в среду, между семью и восемью. Реджи и Эдит играли в морской бой. Исключительно по доброте душевной они предложили мне сыграть с ними. Выглядел я, должно быть, ужасно.
В пять часов я вышел из здания. Холодный желтый воздух, который, по сути дела, никак нельзя было назвать дневным светом, сгущался в сырой туман. С реки катились большие рваные клубы темно-желтой ваты. Я уже шагал вместе с обычной толпой в направлении станции Вестминстер, когда почувствовал, что следом за мной идет Бисквитик. Дойдя до угла площади Парламента, я не свернул к станции метро, а пересек мостовую и очутился на большом острове посреди площади, где стоят статуи. Оставив в стороне памятник Черчиллю, я прошел немного дальше и опустился на скамью напротив Биг-Бена, под памятником Диззи[58]58
Диззи – прозвище Бенджамина Дизраэли (1801–1881), премьер-министра Великобритании.
[Закрыть] (мне всегда нравился Диззи – мистер Османд привил мне любовь к нему). На минуту я подумал, не потерял ли я в этом маневре Бисквитика, но она появилась в сгущавшихся сумерках и села рядом со мной. Потоки транспорта обтекали нас, туман скрывал нас, поблизости никого не было. На Биг-Бене пробило четверть. У меня вырвался стон, я обхватил руками Бисквитика, ткнулся головой ей в плечо, потом просунул нос под опущенный капюшон ее драпового пальтишка, щекой почувствовал сквозь грубую ткань ее хрупкую ключицу.
– Бисквитик, я человек конченый, я не могу больше этого выносить, они убивают меня.
– Нет, нет…
– Я даже работу потерял. Послушай, Бисквитик, что ты все-таки обо всем этом знаешь?
– Ничего. Откуда мне знать – я всего лишь служанка. А вы не хотите мне рассказать? Может, я сумею вам помочь.
– Я тоже слуга. Возможно, мне удастся наняться куда-нибудь дворецким. Может, леди Китти возьмет меня.
– Расскажите мне, Хилари, пожалуйста.
– А я уверен, что ты знаешь все, ты, скрытная восточная девчонка. Зачем ты, кстати, снова явилась? Я считал, что мы уже распростились с тобой.
– Я принесла вам письмо.
– Ох, нет!
– Вот. – Она вытащила из кармана конверт и сунула мне в руку. Почерк Китти.
– Послушай, Бисквитик, ты побудь здесь, хорошо? А я отойду немного и прочту это.
И, повернувшись к ней спиной, я пошел по дорожке. На ярко освещенном, хоть и затянутом набегающим туманом, циферблате Биг-Бена стрелки показывали двадцать минут шестого. Я остановился у каких-то мрачных кустов с черными листьями – они слегка шевелились от ветра, роняя на землю капли влаги. Фонарь, горевший на другой стороне сквера, давал немного света, и я вскрыл письмо Китти.
Ваша встреча с Ганнером ничего не дала, она оказалась хуже, чем бесполезной. Я слушала под дверью – надеюсь, Вы не будете сердиться? Ганнеру это ничуть не помогло – он совсем обезумел, мне кажется, он сходит с ума. Вы должны – просто обязаны – снова с ним встретиться, только не давайте ему вести разговор: Вы должны как-то его сломать. Я ужасно расстроена. Я Вам все объясню. Пожалуйста, приходите на Чейн-уок в четверг, в шесть часов. Ганнера дома не будет. Ничего не предпринимайте, пока не увидите меня.
К. Дж.
Я спрятал письмо и поднял лицо к Биг-Бену – свет Биг-Бена упал на него. Лондон, казавшийся до этой минуты беспорядочным, безразличным, грохочущим нагромождением бессмысленных мрачных страданий, вдруг наполнился жизнью, просветлел, запел. От меня к Китти вновь пролегла дорога. Я был нужен Китти. Я снова увижу ее. И снова увижу Ганнера. Все еще может обернуться хорошо.
Я медленно пошел назад, к тому месту, где сидела Бисквитик, вытянув ноги, спрятав руки в карманы, равнодушно глядя на мчавшиеся мимо машины. Она повернулась и, когда я сел рядом, посмотрела на меня. Она снова натянула на голову капюшон.
– Вы довольны письмом?
– Да.
– У вас совсем другой стал вид.
– Да. Скажи ей… только… что я приду.
Она поднялась было, но я потянул ее вниз и отбросил капюшон с ее лица. При свете далекого фонаря, при свете Биг-Бена я увидел ее бледное худенькое личико, поднятое ко мне, мокрое и блестящее от влажного тумана. Внезапно она показалась мне такой усталой, даже постаревшей – маленькая восточная старушка. Я обнял ее и прижался губами к ее холодным губам. Не прошло и минуты, как она принялась вырываться с отчаянием дикого зверька. Ноги ее поехали на мокрых плитах, но она все же поднялась, оттолкнув меня, а когда я, в свою очередь, стал подниматься, она повернулась и изо всей силы дала мне пощечину. Я почувствовал, как что-то ударилось о пальто и упало на землю у моих ног. Бисквитик уже исчезла.
Я снова опустился на скамью. Хоть она и размахнулась, чтобы ударить меня, но лишь проехалась по лицу рукавом влажного драпового пальтишка – точно ударила, как в притче, мокрой рыбой по щеке. Я внимательно оглядел землю вокруг, пытаясь понять, что это упало. И не обнаружил ничего, кроме камня. Я поднял его. Черный гладкий овальный камешек.
Я долго на него смотрел. Этот камень я дал Бисквитику в Ленинградском саду много-много лет назад, когда мы впервые встретились. Я сунул его в карман. Поразмыслил немного. Почему-то я подумал о Томми. Теперь уже можно не сомневаться, что я – неудачник. Я проявил жестокость по отношению к Томми. Остался без работы. Бисквитик ударила меня. К тому же, если не говорить о более серьезных моих недостатках, я был просто хам. И, однако же, в четверг, в шесть часов, Китти будет ждать меня на Чейн-уок. Я поднялся и медленно побрел к станции метро, сел в поезд, шедший на Слоан-сквер, и там зашел в бар. После виски и имбирного пива на меня снизошло ублаготворение. Теперь у меня появилось занятие: считать часы до вечера четверга. Я был почти счастлив.








