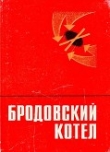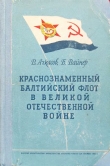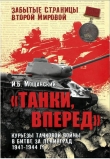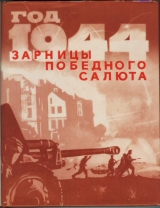
Текст книги "Год 1944-й. Зарницы победного салюта"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 39 страниц)
В ПРЕДГОРЬЯХ КАРПАТ

И. Ф. Корольков П. П. Дадугин А. П. Коряков

И. М. Афонин В. А. Лаврищев

B. А. Рагозин C. X. Марковцев

Г. П. Писарев В. Н. Федотов В. А. Бочковский

В преследовании



В. П. Майборский А. Н. Игнатьев А. Е. Землянов

На новый рубеж

Уточняются задачи

Перед боевым вылетом
С наступлением темноты полк выступил в заданном направлении. Километрах в шести-восьми от Галича противник обстрелял головную походную заставу – 1-ю стрелковую роту. Стрелки с ходу развернулись в боевой порядок и атаковали врага. Гитлеровцы отошли в направлении реки Ломница, где в бой вступил 1-й батальон.
При подходе к селу Подгорки, последнему населенному пункту перед Калушем, головная походная застава была вновь обстреляна противником из пулеметов и автоматов. Рота залегла, начала окапываться и открыла ответный огонь. Принимаю решение обойти Подгорки 2-м стрелковым батальоном и одновременно атаковать врага с фронта и фланга. Противник из района Калуша повел артиллерийский огонь, появилось несколько «пантер».
Оценив обстановку, принимаю решение занять круговую оборону. К утру 26 июля подоспел 3-й дивизион 379-го артиллерийского полка дивизии и приданный 269-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк.
После короткой артиллерийской подготовки стрелковые батальоны обошли противника с фланга и атаковали его. Враг не выдержал натиска и отошел к Калушу.
Утром 27 июля до 20 танков гитлеровцев двинулись на позиции 1-го батальона. За танками шла пехота, ведя огонь из автоматов. По наступающей пехоте открыли огонь минометчики и артиллеристы. Гитлеровцы несли потери, но продолжали атаку.
Наши пехотинцы, пропустив танки противника через окопы, открыли огонь по фашистской пехоте. Проявила стойкость 3-я стрелковая рота капитана А. Ф. Фисуна. Находившиеся в боевых порядках восемь противотанковых орудий открыли огонь по прорвавшимся бронированным машинам. Сразу же загорелось три танка, а через 10–20 минут – еще четыре. Враг дрогнул, начал отходить.
28 июля, освободив Боднаров, к боевым порядкам 600-го стрелкового полка вышел 15-й стрелковый полк, с которым мы совместно атаковали противника. Однако эти действия успеха не принесли. Враг оказал сильно огневое сопротивление.
К вечеру, после артиллерийского налета, пошли в наступление около 30 танков и до полка пехоты гитлеровцев. После жестокого многочасового боя противник захватил Подгорки и Студинку и оттеснил нас от Калуша. Захваченный в плен экипаж подбитого фашистского танка показал, что их дивизия отступала из района Станислава в направлении Стрыя, но их вернули назад, на Калуш, и бросили в бой. Враг цеплялся за Калуш еще и потому, что через него отходила на Долину Станиславская группировка.
Город Калуш был освобожден 30 июля 1944 года совместными усилиями 147, 141, 395-й, а также частью сил 161-й стрелковых дивизий.
Г. Г. КУЗОВКИН,
подполковник запаса
ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
Почтальоны города Воронежа часто приносят письма в дом № 2 по улице Зои Космодемьянской, адресованные Герою Советского Союза С. А. Закурдаеву. Ему пишут отовсюду, но чаще с Прикарпатья, с берегов Днестра – из города Залещики, из села Устечко. «Расскажите, дорогой Степан Алексеевич, о своем подвиге, который вы совершили на Днестре в сорок четвертом году», – просят юные следопыты.
Степан Алексеевич не раз отвечал ребятам из Прикарпатья, которое стало дорогим его сердцу. И всегда ведет он свое повествование так, будто ничего особенного не совершил в том бою за переправу через Днестр, а только то, что велел ему долг.
Впрочем, это тоже верно. Ведь действия солдата в боях есть выполнение воинского долга. И они оцениваются в зависимости от обстоятельств, при которых происходят. Чем сложнее они, чем больше сопряжены с опасностью, тем больше настойчивости и мужества требуется от воина. И если, несмотря на всю трудность обстановки, невзирая на опасность, воин успешно выполняет боевую задачу – честь ему и хвала.
Как же действовал гвардии ефрейтор Степан Закурдаев в памятном бою на Днестре, когда, по его словам, он ничего особенного не совершил?
… Первый мотострелковый батальон 21-й гвардейской механизированной бригады после многодневных наступательных боев вышел к Днестру. Командир бригады полковник Яковлев приехал к комбату Баранову:
– Не задерживаться у реки, с ходу переправляться на правый берег. Неширокий в этих местах Днестр сейчас, ранней весной, разлился, вышел из берегов.
– Да, нелегкая предстоит задача, – сказал гвардии майор Баранов, осматривая вместе с начальником штаба место будущей переправы.
Спустились сумерки. Над водой сгущался туман, окутывались серой пеленой прибрежные рощи, селения. Отошедший на правый берег противник закреплялся на новом рубеже. Нужно было не дать врагу на это время, гнать его дальше.
Комбат собрал командиров рот, взводов и отдал приказ:
– На рассвете форсировать реку.
Ночь прошла в напряженном труде, никто не смыкал глаз. Бойцы разыскивали лодки, вязали плоты, собирали подручные средства для переправы.
На рассвете подразделения батальона шагнули в днестровскую воду. Первой переправлялась группа разведчиков, среди которых был и расчет ПТР Степана Закурдаева. Но едва лодка отчалила, как противник открыл минометный огонь. От рвавшихся мин вокруг вздымались фонтаны воды. В лодку попал осколок, и она стала тонуть.
– Поплывем на бревнах! – раздался голос Закурдаева. Товарищи хорошо знали волевого воронежца. Парню едва стукнуло девятнадцать, на фронте не так давно, но уже имеет отметины от осколков, отличился храбростью в боях.
Закурдаев не мешкая столкнул с берега бревно на воду, привязал к нему противотанковое ружье, боеприпасы и, уцепившись за него, поплыл вперед.
На середине реки течение быстрее. Бревно стало относить в сторону. Вот тут-то пригодилась ему физическая закалка. Ведь еще в школе любил Степан турник, брусья, выжимал тяжелые гири, мечтая стать штангистом. В poтe он считался одним из лучших спортсменов.
Вода быстрая. Тело коченело, но боец крепился изо всех сил. Чем энергичнее он двигался, тем меньше ощущал леденящий, пронизывающий холод мокрого обмундирования. Не раз пришлось ему хлебнуть мутной днестровской воды.
Противник продолжал обстреливать переправляющихся воинов из минометов и пулеметов. То и дело в небе появлялись осветительные ракеты. Одна из мин разорвалась совсем близко. Степан успел укрыться за бревном от просвистевших над головой осколков. Напрягая все усилия, Закурдаев упорно приближался к правому берегу.
Позади слышались всплески весел – там плыл плотик, а слева преодолевала бурную реку плоскодонка. Стало немного легче – не так сносит течение. Наконец, добрался до берега…
– Ну и баня с парной, – с облегчением вздохнут боец, отжимая воду с обмундирования в прибрежном кустарнике.
В считанные минуты Закурдеев привел себя в порядок, подготовил ружье. Справа послышались всплески воды – кто-то выбирался на берег.
– Давай, браток, сюда! – позвал Степан десантника. А когда тот приблизился, Закурдаев воскликнул: – Ваня, ты?! Вот хорошо!
Они продвинулись дальше от берега и заняли огневую позицию. Вскоре Закурдаев увидел, что из-за холма появился танк, за ним двигался бронетранспортер с вражеской пехотой.
– Сейчас мы встретим их, гадов! – с ненавистью сказал боец, наводя ружье на цель.
Одним из первых форсировал на этом участке Днестр ефрейтор Закурдаев. Меткими выстрелами бронебойщика танк и бронетранспортер противника были подбиты.
Вслед за ними на правый берег высаживались другие бойцы.
В представлении гвардии ефрейтора Степана Закурдаева к званию Героя Советского Союза гвардии майор Баранов писал: «Тов. С. А. Закурдаев в наступательном бою 24 марта 1944 года во время форсирования реки Днестр в районе села Устечко под сильным артиллерийским и минометным огнем противника, рискуя жизнью, проявил геройство и мужество, одним из первых на бревне переправился на правый берег реки, воодушевляя своим примером остальных».
Когда на груди Степана Закурдаева засияла Золотая Звезда Героя, ему было двадцать лет.
Сейчас Степан Алексеевич Закурдаев живет и работает в Воронеже.
Имени героя
Если случится вам побывать на Ивано-Франковщине, загляните в село Живачев. Вблизи стоящих на пригорке длинных хозяйственных построек вы увидите белое здание с вывеской: «Колхоз имени Н. К. Москалева».
Как бы вы ни торопились, задержитесь немного здесь. Посмотрите памятник советскому воину, что стоит в окаймлении молодых деревцев. Поговорите с жителями села, и они расскажут, почему этот клочок земли заслуживает самого низкого поклона.
…Шел бой. Раскатисто гремели орудия, трещали пулеметы, с воем проносились мины. Повсюду над полем близ Живачева стлались клубы густого черного дыма. Громыхали танки, урчали бронемашины. Казалось, горит и содрогается вся земля.
Отступавшие под натиском советских войск гитлеровцы в апрельские дни сорок четвертого года здесь, на узком участке фронта, создали перевес сил и пошли в контратаку. Тридцать шесть вражеских танков и самоходок вклинились в нашу оборону.
В направлении траншеи, где находились шестеро солдат из отделения сержанта Николая Москалева, шло пятнадцать бронированных вражеских машин. Николай Москалев взглянул на бойцов. Пронзительный, полный решимости взгляд, упрямые складки у губ, лицо сурово.
– Товарищи! – громко сказал он. – Не пропустим врага! Будем драться до последней капли крови. За Родину! Огонь!
Два противотанковых ружья, что были в отделении, направлены на фашистские танки. Прогремели первые выстрелы. Застыл на месте один, затем второй танк. Загорелся третий. Подбит четвертый. А в это время станковый пулемет косил вражескую пехоту.
Противник не прошел… Оставив на поле боя шесть танков, два из которых подбил командир отделения, гитлеровцы отступили.
Вдруг Москалев увидел, что одна из вражеских машин снова движется к траншее. Патроны для противотанковых ружей кончились. Все бойцы ранены, а танк набирает скорость. Считанные минуты – и его гусеницы начнут утюжить траншею. «Как быть!» – на какое-то мгновение лихорадочно пронеслось в сознании сержанта.
Коммунист Николай Москалев берет последние гранаты, прощальным взглядом обводит друзей, спокойно поднимается из окопа и идет навстречу громыхающей стальной махине. Бойцы видели, как смело и решительно шел навстречу фашистскому танку сержант. Раздался взрыв, и тотчас по броне вражеской машины заплясали языки пламени.
– Спасая нас, Николай погиб. Запомним это, друзья… – тихо сказал один из бойцов.
– Никогда не забудем! – как клятву произнесли солдаты.
Сегодня на месте этого поединка колосятся плодородные поля колхоза имени Героя Советского Союза Николая Москалева.
В. П. МАЙБОРСКИЙ,
Герой Советского Союза
ПОБЕЖДЕННЫЙ ДЗОТ
Наша дивизия вела боевые действия в Прикарпатье. Заняв оборону в районе Коломыи, мы готовились к наступлению на Делятин, Яремче. Нашему батальону предстояло провести разведку боем.
Утром – в атаку. Накануне ночью группа саперов, в которую входил и я, сделала проходы в минном поле. Шел дождь, над землей стлался туман, и это было нам на руку – саперы, выполнив трудную работу, благополучно возвратились. Для отдыха времени не оставалось. Скоро рассвет. А нам предстоит идти с первой ротой – указать дорогу в минном поле.
В низинах лежал туман. В сизоватой дымке едва проглядывались Карпаты. Началась артподготовка.
Занимавшая исходный рубеж первая рота пошла в атаку.
– Вперед, за Родину! – послышался голос командира роты Осмольского.
Солдаты поднялись, чтобы преодолеть поросшее травой поле и ворваться в траншеи противника, как вдруг с бугорка, что находился впереди, застрочил пулемет. Несколько бойцов упало. Амбразура дзота продолжала выплескивать раскаленный металл. Рота залегла. Пулеметный огонь не дает поднять головы. Вновь погибло несколько человек, рванувшихся навстречу огню.
Обстановка сложная. Я лежу в первой цепи. Думаю, что же предпринять? В Севастополе куда труднее приходилось, чем здесь. Подползти бы к дзоту и гранатой заглушить амбразуру… Но как? И все же попытаюсь… Кивком даю понять ротному, что сам пойду на дзот. Ротный дает добро, предупреждает: «Будь осторожен!»
Ползу навстречу опасности. Втискиваюсь телом в выбоины, рытвинки – ползу по-пластунски, Стремлюсь двигаться побыстрей и прилагаю для этого все силы. И так метр за метром… Знаю, что на меня смотрят бойцы, ждут, чтобы я осуществил задуманное. На траве серебрились росинки. И от этих капель я уже весь мокрый. Роса холодная, а у меня со лба капает другая роса – пот. Перед глазами – стреляющий дзот. Один лишь дзот среди зеленого разнотравья.
Дзоты… Сколько их перевидел за войну – посылающих струи смертоносного свинца, огнедышащих. Но вот так, чтобы с глазу на глаз, – впервые. Прикинул – дзот уже совсем недалеко – сорок, а может, и меньше метров отделяет меня от бугорка с амбразурой. Ну, думаю, сейчас я тебя угощу. Приподнялся и швырнул гранату. И упал, затуманилось в глазах. А ноги будто отняло. Что со мной? Оказалось, очередь вражеского пулемета пришлась мне по ногам. В сапогах полно крови. Чувствую, одолевает слабость.
Я знал: истечет кровью человек – не сдвинется с места. Именно в эти секунды понял, что надо спешить, надо торопиться к дзоту, пока не поздно. Схватил зубами росистую траву, чтобы утолить жажду. Стиснул намертво зубы. И как автомат заработал локтями. «Доползти, только бы доползти…» Пальцы сжаты в кулаки. Локти исцарапаны. Я ими рою землю, упираюсь, подтягиваю вперед обессиленное тело. И так вершок, другой, третий…
Что-то укололо в грудь. Черт возьми! Какой-то ржавый кусок металла разорвал на груди тельняшку, матросскую тельняшку. «Крепись, матрос», – подбадривал сам себя. Дзот уже рядом. Вражеский пулемет безостановочно бьет по полю, где лежат бойцы роты. Но пули меня уже не достигают. Я в непростреливаемом пространстве. Облегченно вздохнул, хотя силы мои иссякли. Мобилизовав всю волю, подобрался вплотную к амбразуре и бросил в нее гранату. Противотанковую… Что было дальше – ничего не помню. Упав на амбразуру, потерял сознание.
О дальнейших событиях на поле боя узнал от своих однополчан.
…Дзот замолчал, и с криком «ура» бойцы бросились вперед. Пошла рота, затем батальон, полк. Те, кто видел меня лежащим у дзота, считали погибшим. А я, всем смертям назло, выжил. Подобрали санитары, доставили в полевой госпиталь. Затем отправили в тыл. На госпитальной койке застал меня День Победы.
В родном селе меня не ждали – похоронили. Пришло домой письмо на имя отца о том, что его сын Владимир удостоен звания Героя Советского Союза. И вдруг я приехал из госпиталя. Радость была в доме большая. Сельчане приходили в дом, расспрашивали. Кто-то из них сказал так:
– На подольской земле наш Владимир рос, днепровскую воду пил, черноморской умывался. Вот и силы набрался. А сильного человека не так просто врагам одолеть.
Вызвали меня в Москву. Из рук товарища Н. М. Шверника получил я награду – орден Ленина и Золотую Звезду Героя.
В родном селе Зиньки так и живу все время.
Случилось так, что в моем родном полку считали меня погибшим, и песню даже пели о том, как Майборский, закрыв амбразуру вражеского дзота своим телом, погиб смертью храбрых. А однажды (это было в шестьдесят первом году) на озеро, что у села Зиньки, приехали порыбачить военные. Разговорился я с ними. Они-то и помогли мне разыскать часть – мой родной полк и дивизию. Теперь я часто приезжаю в гости к своим однополчанам. Горжусь тем, что воины Самаро-Ульяновской умножают славные боевые традиции отцов, зорко несут службу по защите нашей социалистической Родины.
Б. В. САМАРИН,
полковник в отставке
ПЛАМЕНЬ СЕРДЦА
Тимофей Алексеевич Симаков, уроженец Городищенского района Пензенской области, с первых дней нападения гитлеровцев ушел на фронт. Участвовал в битвах под Москвой, Сталинградом, сражался на Днепре, в Прикарпатье. Он погиб 26 июля сорок четвертого. На улицах Станислава лейтенант Симаков водил в последние атаки свою роту – 1-ю роту 796-го стрелкового полка. За мужество, проявленное в этих боях, ему присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Наградной лист, материалы фронтовых газет, оперативные сводки штаба, хранящиеся в архиве, помогли восстановить ратные дела последних напряженных фронтовых дней лейтенанта Симакова.
… В землянке собрались командиры рот, взводов батальона. Комбат кратко охарактеризовал боевую обстановку. 141-я стрелковая дивизия переходит в наступление на Станислав. 796-й полк идет на главном направлении. На маршруте наступления – Днестр.
– Нашему батальону приказано завтра к вечеру выйти к Днестру и форсировать его. – Комбат обвел взглядом офицеров. – Какая рота пойдет первой?
– Первая! – отозвался лейтенант Симаков.
– Что ж, согласен, – одобрил комбат. – Надеюсь на вас. Желаю успеха.
На второй день, когда над землей спускались сумерки, к Днестру подошли бойцы 1-й роты. Они притащили к берегу лодки, бревна, доски. Связали несколько плотов. Почти вся летняя ночь ушла на подготовку переправочных средств.
Незадолго до рассвета бесшумно отплыла первая группа бойцов. Ротный напряженно вслушивался, ожидая, что вот-вот тот берег ощетинится, загрохочет выстрелами. Но пока спокойно. Симаков отдал приказ переправляться всей ротой.
Бойцы роты, очутившись на правом берегу, начали бой с противником. Ведя огонь из автоматов, пулеметов, пустив в ход гранаты, они ворвались на позиции противника. Все оказалось так, как докладывали наши разведчики: здесь, у реки, находилось боевое охранение врага, основные же силы гитлеровцев сосредоточивались на высотах 307,9 и 319,0. Нужно было сбить врага с этих высот и овладеть ими. Симаков уже продумал, как взять укрепленные высоты, но неожиданно раздались голоса;
– Идут проклятые, идут на нас!
Быстро светало. Гитлеровцы решили отбросить переправившуюся роту обратно за Днестр. Трижды фашисты спускались с высот, трижды атаковали наших воинов на плацдарме. И трижды откатывались назад, теряя десятки солдат.
Враг не мог сломить сопротивления роты. Случались моменты, когда, казалось, вот-вот гитлеровцы столкнут роту с рубежа. В такие минуты бойцы видели ротного там, где сильнее нажимал враг.
– Выстоим, орлы! – призывал лейтенант.
Очередную атаку рота отбила с большим трудом. И если бы снова противник усилил натиск, могло создаться критическое положение. Но гитлеровцы, видимо, выдохлись и не пошли. Этим воспользовался Симаков, решив повести роту в контратаку.
С восточного берега ударили пушки, открыли огонь полковые минометы. Кончалась пятнадцатая минута огневого налета. Тимофей Алексеевич еще раз окинул взглядом окружающих его бойцов, посмотрел на местность, по которой предстояло двигаться к огнедышащим высотам. Рядом с ротным – младший лейтенант, командир батареи, прибывшей с восточного берега поддержать роту огнем.
– Товарищ младший лейтенант! – обратился ротный к артиллеристу. – Пойдем в атаку – не жалей снарядов!
– Угостим фрицев как надо, – пообещал пушкарь.
Симакову стало легче на душе. Для ведения боя он все предусмотрел: и отвлекающий маневр силами одного взвода на фланге, и главный удар двумя взводами в седловину меж высотами.
По сигналу ротного взводы устремились на врага. Затрещали автоматы, раздались глухие разрывы гранат в траншеях.
– Пулеметчик, за мной! – подал команду расчету «максима» командир роты и пошел за двумя взводами.
Огонь артиллеристов, дружная атака стрелков вынудили фашистов оставить занимаемые высоты. Окопы и траншеи на обоих высотах заняли бойцы 1-й роты. Симаков обошел взводы, отделения.
Пока переправлялись через Днестр главные силы полка, 1-я рота прочно удерживала свой рубеж на правом западном берегу.
На пятый день боев после форсирования Днестра рота Симакова одной из первых подошла к окраинам Станислава.
– Ведем бой на северо-восточной окраине города! – доложил Симаков командиру батальона по рации.
Рота повзводно передвигалась от одного дома к другому, выкуривая гитлеровцев из подвалов и чердаков. Хотя взводы действовали сразу на нескольких улицах, Симаков успевал побывать то в одном, то в другом месте, оценить обстановку, дать указания.
Такими напряженными были эти фронтовые дни: все время в бою, в атаках под свинцовым дождем, в осколочной круговерти… Казалось, лейтенант Симаков ничего особенного не сделал: надо было – форсировал Днестр, удерживал плацдарм, вел бои на улицах города… И все-таки это была особенная работа. В нее Тимофей Алексеевич в свои тридцать пять лет вложил пламень своего сердца.