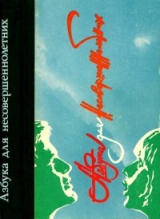
Текст книги "Азбука для несовершеннолетних"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
Предательство
– нарушение верности общему делу, требований солидарности, измена классовым или национальным интересам, переход на сторону врага, умышленное совершение действий, враждебных общему делу и выгодных его противникам.
Предательство, измена... Не правда ли, какие это страшные слова? Наверное, если бы слова имели цвет, соответствующий их смыслу, эти окрасились бы в багрово-черное.
Если бы в ряд, увы, многочисленных человеческих пороков поставить измену, то первое, что приходит в голову, – это измена на войне, в бою, в поединке с врагом, когда трус, спасая свою жизнь, изменяет Родине, товарищам, воинской присяге.
Но мы сейчас прежде всего рассматриваем личность отдельного человека в преломлении древнего изречения: «Познай самого себя» – и поэтому поговорим об одной страшной измене – измене самому себе. Что это значит? Чтобы понять суть этой измены, обратимся вот к какому примеру. Расскажем –
Притчу о белом мраморе
В далекой горной стране среди молчаливых серых утесов летает заблудившийся ветер, и вот что можно узнать, если внимательно прислушаться к его голосу...
Много лет назад шел по пустынной дороге юноша. За плечами у него была котомка, полная бедности, а в груди его билось сердце, отданное Любимой.
И долог, неисповедим был путь юноши к той, которой принадлежала его жизнь.
Он ушел из страны по решению старейшин. У юноши были руки замечательного мастера: из глины и камня делал он сосуды для вина, чаши для пищи, украшения для женщин. И все это раздавал людям. Искусны, поразительны были его изделия – получая их, скупец становился добрее, у лжеца проходило желание лгать, угрюмый невольно улыбался, ленивец тянулся к работе, и самая некрасивая женщина, надев бусы, сделанные юношей, становилась прекрасной.
Но знали мудрые старцы, правители страны, что гораздо большего может достигнуть юноша и тем самым принести высокую радость и себе и людям. Собрались они на совет, а дотом сказали юноше свое решение:
– Иди! Ждут тебя испытания и великий труд. В дальних странствиях ты найдешь белый волшебный мрамор, выточишь из него статую своей любимой, вернешься с нею к нам, и только тогда мы благословим ваш союз.
Ибо знали они, что только дальние дороги, страдания, вечный труд и думы на чужбине делают мастера настоящим художником. Если, конечно, художник истинный.
...На четвертый год своих скитаний в диких горах нашел юноша глыбу белого благородного мрамора. Взглянул на нее и увидел свою Любимую – предстала она перед ним как живая, воплощенная в холодном камне. Огнем вдохновения вспыхнуло сердце Юноши, загорелись руки жаждой деятельности.
Но не было у юноши резца. И пошел он к кузнецу.
– Хорошо, – сказал кузнец, – но за это ты должен будешь год отработать у меня подручным.
– Год слишком долго, – вздохнул юноша.
– Тогда, – сказал кузнец, – сделай из своего мрамора ошейник для моей любимой собаки.
Подумал юноша и выбрал не год труда, а ошейник для любимой собаки кузнеца – он очень спешил к своей Любимой.
Скоро был готов резец. Им сделал юноша из мрамора искусный ошейник для собаки кузнеца. Красив, диковен, необычен был этот ошейник. Многие люди приходили посмотреть на него. Дивились. Качали головами. Правда, этот ошейник не могла носить любимая собака кузнеца – она в нем задыхалась. Но кузнец был доволен: он стал знаменитым.
И начал юноша вытачивать из белого мрамора образ своей Любимой. Но тут понял он, что нужна ему натурщица, чтобы воплотить в мраморе линии женского тела. Пошел он на базар и нашел там девушку, фигура которой была похожа на фигуру его возлюбленной.
– Будь моей натурщицей, – сказал он ей.
– Я буду твоей натурщицей, – сказала девушка, – но за это иди ко мне в услужение: будешь делать у меня всю черную работу.
– Нет! – сказал юноша и нахмурился: он знал, что уже известен среди людей как искусный мастер. Так пристало ли ему быть черным рабочим!
– Хорошо, – сказала девушка, – я буду твоей натурщицей. Но за это полюби меня хоть ненадолго.
Подумал юноша и согласился. Увела его девушка в свой дом, а наутро стала его натурщицей.
Девушка позировала ему, и он работал.
Прямо среди скал, под палящим солнцем вытачивал он из мрамора свою Любимую. Под его волшебным резцом появлялась дивная женская фигура.
О замечательном мастере разнеслась слава по всей стране, и многие люди приходили посмотреть на его работу. Они приносили юноше кто чем был богат: лепешку хлеба, горсть горячих каштанов, меру кислого прохладного вина – так люди платили юноше за радость и восхищение.
Пришел день, когда юноша стал вытачивать из мрамора лицо своей Любимой. И тут в смятении обнаружил он, что стерлись в памяти черты ее единственного лица, а под его резцом появляется лицо натурщицы.
«Это все от солнца, – подумал юноша. – От усталости, от плохой пищи. Мне нужны помощники и хорошая мастерская». И отправился он к Правителю той страны, в которой нашел мрамор.
– О Правитель! – сказал он. – Ты мудр и щедр. – Юноша низко поклонился. – Дай мне помощников и мастерскую, чтобы я мог закончить свою работу. Это благодеяние прославит тебя среди других народов как покровителя искусства.
– Я слышал о тебе. – Правитель ненадолго задумался. – Ты получишь лучшую мастерскую, чужеземный мастер, – сказал он и сделал знак рукой, чтобы отрубили голову его придворному скульптору. – У тебя будут умелые помощники, ты будешь жить в роскошном дворце, ты станешь богатым, ты получишь ключ от моего гарема, ты будешь желанным гостем на всех моих празднествах. И ты закончишь свою работу. Но сначала...
– Я слушаю тебя, Правитель, – юноша поклонился еще ниже.
– Сначала из своего мрамора ты сделаешь мой бюст, – сказал Правитель и улыбнулся.
Юноша подумал немного и согласился.
Стал он жить в роскошном дворце, и ему прислуживали молчаливые слуги. У него теперь было много денег, и он сшил себе яркие одежды. Он ездил в сверкающем экипаже, и люди в страхе разбегались перед ним, потому что на экипаже красовался ненавистный герб Правителя как знак верноподданничества. Вместе с Правителем юноша ездил на охоту, принимал участие в кутежах и сочинял законы.
Глыбу белого мрамора перевезли в огромную мастерскую, и там под руководством юноши десятки помощников вытачивали бюст Правителя.
И наконец бюст был готов. Его торжественно привезли во дворец. В пустынном зале в последний раз юноша осмотрел бюст Правителя – и ужаснулся... Бюст был мертв. Даже искра вдохновения не озаряла его. В страхе сжалось сердце юноши – он испугался гнева Правителя.
Но гнева не последовало: к тому времени Правитель умер, бюст свезли на свалку, а юноша получил новый заказ – выточить статую нового Правителя.
Юноша пришел в мастерскую, и смятение наполнило его – волшебного белого мрамора не было: он весь был истрачен на бюст мертвого Правителя.
Но не страх испытал юноша. Он вдруг вспомнил! Он вспомнил свою далекую Любимую, слова мудрых старцев... Он взглянул на свои белые ленивые руки и ужаснулся: мастерство и вдохновение покинули его.
– Я потерял то, ради чего стоит жить, – прошептал юноша.
И ушел он в дальние странствия – искать новую глыбу белого мрамора, чтобы из него выточить свою Любимую, чтобы вернуться к ней и к своему народу.
С тех пор никто не видел юношу.
Продолжаются его странствия.
Найдет ли он белый мрамор?
А если найдет, что возникнет под его резцом?
Кто знает...
...Вот она, измена: своему призванию в погоне за легким успехом и материальными благами. Измена любимому человеку – это следствие измены себе. Да и в более крупных, общественных отношениях гарантией верности может служить именно верность своей мечте.
Принципиальность
– последовательное проведение в теории и на практике определенных принципов, убеждений, строгое соблюдение их.
На этот раз мы просто почитаем переписку А. С. Пушкина и И. И. Лажечникова, автора романа «Ледяной дом». Переписка их носила эпизодический характер; интересна она нам тем, как Александр Сергеевич, великий поэт, был принципиален в оценке исторических фактов и корректен в форме изложения своего мнения. Их спор на исторические темы проходил в открытой форме, они оба высказывали свои мнения и спорили. Однако, высказав свое отношение однажды, Пушкин уже не возвращался к спору, не настаивал, не продолжал бессмысленное препирательство.
Милостивый государь, Александр Сергеевич!
...когда узнал, что Вы – Пушкин, творец «Руслана и Людмилы» и столь многих прекраснейших пиес, которые лучшая публика России твердила с восторгом на память – тогда я с трепетом благоговения смотрел на Вас, и в числе тысячей поклонников (Ваших) приносил к треножнику Вашему безмолвную дань. Загнанный безвестностью в последние ряды писателей, смел ли я сблизиться с Вами? Ныне, когда голос избранных литераторов и собственное внимание Ваше к трудам моим выдвигает меня из рядовых словесников, беру смелость представить Вам своего «Новика»: счастливый, если первый Поэт Русский прочтет его, не скучая. 3-ю часть получить изволите в первых числах февраля.
С истинным уважением и совершенною преданностию честь имею быть Ваш,
милостивого государя покорнейший слуга Иван Лажечников.
...С живейшей благодарностью получил я письмо ваше от 30 (марта) и рукопись о Пугачеве. Рукопись была уже мне известна, она сочинена академиком Рычковым, находившимся в Оренбурге во время осады. В вашем списке я нашел некоторые любопытные прибавления, которыми непременно воспользуюсь.
Несколько раз проезжая через Тверь, я всегда желал случая вам представиться и благодарить вас, во-первых, за то истинное наслаждение, которое доставили вы мне вашим первым романом, а во-вторых, и за внимание, которого вы меня удостоили.
С нетерпением ожидаем нового вашего творения, из коего прекрасный отрывок читал я в альманахе Максимовича. Скоро ли он выйдет? и как вы думаете его выдать – ради бога, не по частям. Эти рассрочки выводят из терпения многочисленных ваших читателей и почитателей.
С глубочайшим и проч. <А. С. Пушкин>
Милостивый государь, Иван Иванович!
Во-первых, должен я просить у вас прощения за медленность и неисправность свою. Портрет Пугачева получил месяц тому назад, и, возвратясь из деревни, узнал я, что до сих пор экземпляр его «Истории» вам не доставлен. Возвращаю вам рукопись Рычкова, коей пользовался я по вашей благосклонности.
Позвольте, милостивый государь, благодарить вас теперь за прекрасные романы, которые все мы прочли с такою жадностию и с таким наслаждением. Может быть, в художественном отношении «Ледяной дом» и выше «Последнего Новика», но истина историческая в нем не соблюдена, и это со временем, когда дело Волынского будет обнародовано, конечно, повредит вашему созданию; но поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык. За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле же Волынского играет он лицо мученика. Его донесение Академии трогательно чрезвычайно. Нельзя его читать без негодования на его мучителя. О Бироне можно бы также потолковать. Он имел несчастие быть немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты.
Позвольте сделать вам филологический вопрос, коего разрешение для меня важно: в каком смысле упомянули вы слово «хобот» в последнем вашем творений и по какому наречию?
Препоручая себя вашей благосклонности, честь имею быть с глубочайшим почтением,
милостивый государь, вашим покорнейшим слугою Александр Пушкин.
Милостивый государь, Александр Сергеевич!
Считаю за честь поднять перчатку, брошенную таким славным, как Вы, литературным подвижником.
В письме своем от 3-го ноября Вы упрекаете меня в несоблюдении исторической верности и говорите, что со временем, когда дело Волынского будет обнародовано, это повредит моему «Ледяному дому». Дело Волынского? В нынешнее время скептицизма и строгих исторических исследований примут ли это дело безусловно, как акт, на который можно положиться историку, потому только, что он лежал в Государственном архиве? Рассудок спросит сначала, кто были его составители. Поверят ли обвинениям и подписям лиц, из коих большая часть были враги осужденного и все клевреты временщика, люди, купленные надеждою почестей и других выгод, страхом Сибири и казни, люди слабые, завистники и ненавистники? Все были адвокаты ужасной власти: кто был адвокатом со стороны Волынского?.. Один Ушаков имел только смелость плакать, подписывая смертный приговор тому, которого в душе почитал невинным. Но это есть также своего рода акты. Приказано было обвинить Волынского во что б ни стало (а приказывал тот, кого боялась сама императрица), и на бедного взвалили всякую чепуху, лишь бы поболее обвинительных пунктов было – между прочим, такие преступления, за которые и в наше время не взыскали бы строго с людей сильных и знатных: например, что он был будто строг с своими людьми и поколотил Тредьяковского, которого только плохонький не бил. Где же тут логический вывод справедливости акта, на который Вы указываете? Скорей поверю я Манштейну, который, как немец, взял бы сторону немца Бирона. Еще скорей поверю совести Анны Иоанновны, видевшей, после казни Волынского, за царскою трапезою на блюдах голову кабинет-министра. Зачем бы ей тревожиться, если б она убеждена была в вине его?.. Живые предания рассказали нам это лучше и вернее пристрастных актов, составленных по приказанию его врага. Прочтите ныне статью из Энциклопедического словаря об Анне Иоанновне. С чего-нибудь да взяли эти господа написать эту статейку, как она есть!
Пункт второй: Тредьяковский. Низких людей, подлецов, шутов, считаю обязанностью клеймить, где бы они ни попались мне. Что он был низок и подл, то доказывают приемы, деланные ему при дворе.
...В моем романе я заставил Тредьяковского говорить и действовать как педанта и подлеца: в этом случае я не погрешил ни как историк, ни как художник, несмотря на суждения г. Сеньковского, который по своей системе хождения вверх ногами хочет вопреки здравому рассудку заставить педанта говорить, как порядочного человека. Тогда бы мне надобно было сказать в выносках: «уверяю вас, г.г. и госпожи, что это говорит не порядочный человек, а педант: в доказательство зри вступление к «Телемахиде», зри «Путешествие на остров любви» и проч. и проч.». В разговорах-де он не таков был, утверждает г. Сеньковский. Да кто ж слышал его разговоры? Ба, ба, ба! А донесение Академии!.. Раз удалось ему написать простенько, не надуваясь, и все огромные памятники его педантизма должны уступить этому единственному клочку бумаги, по-человечески написанному. Странно и больно! За подлого писачку, признанного таким уже целый век, игравшего роль шута при временщике, за писачку, которого заслуги литературные надобно отыскивать в кучах сору, готовы поднять меня на копья и закидать грязью память одного из умнейших сподвижников Петра Великого и патриота, нашу гордость народную. Что за мания ныне делать черное белым и наоборот?..
...Ваши упреки задели меня за живое. Ответом моим хотел я доказать, что историческую верность главных лиц моего романа старался я сохранить, сколько позволяло мне поэтическое создание, ибо в историческом романе истина всегда должна уступить поэзии, если та мешает этой. Это аксиома. Вините также славу Вашу за эту длинную тетрадь. Ваши похвалы так вскружили мне голову, что я в восхищении от них забыл время и записался.
Искренностью моего письма хотел я также доказать то глубокое уважение, которое всегда питал к Вам и с которым имею честь быть, милостивый государь,
Вашим покорнейшим слугою, Иван Лажечников.
Разочарование
– чувство, состояние неудовлетворенности от чего-либо несбывшегося; утрата веры в кого или что-либо.
Наедине с собой мы обычно судим людей по самим себе. То, чего я не прощу себе, в глубине души я не прощу и другому. То нехорошее, на что я внутренне готов сам, я – опять же внутренне – позволю и другому. Это указывает на то, что у меня не выработаны, не развились, не вошли в мою плоть и кровь нравственные идеалы, я живу без точных мерок добра и зла.
Но вот они, эти мерки, у меня есть. И они же влияют на те требования, которые я – не обязательно громогласно – предъявляю к окружающим.
А мои требования могут быть не только умеренными, но и неоправданно низкими или чересчур высокими, подавляющему большинству непосильными. В этом последнем случае следует говорить и о чрезмерной требовательности к окружающим, о слишком уж нетерпеливом желании увидеть всех идеальными. Оно знакомо, в общем, если не каждому, то очень многим и главным образом в отрочестве и ранней юности. Оно и обозначается словом «разочарование».
Вот как передается это состояние в одном из лучших романов двадцатого века – «Жан-Кристоф» Ромена Роллана. «К чему бороться? – вопрошал себя на пороге юности Кристоф, будущий великий музыкант.– Ведь нет ничего, совсем ничего – ни красоты, ни добра, ни бога, ни жизни, ничего живого...» «...Он думал, что это смерть, внезапная, молниеносная. Он думал, что он уже мертв». На самом же деле Кристоф просто, «менял кожу», то есть «менял душу». «И, видя сброшенную душу, сносившуюся и ненужную душу его детства, он не знал еще, что в нем зреет новая душа – молодая и мощная». «В эти часы тоски и страха, – заключает Роллан, – человеческое существо считает, что всему пришел конец. А все только начинается. Умирает одна из жизней. И уже родилась новая».
Но даже и после этого, уже в юности, с новой «молодой и мощной» душой Кристоф пережил полосу «целомудренного отвращения» ко всему и вся, а прежде всего к самым великим любимым композиторам. Он стал безжалостен; «он срывал покров с самых благородных душ без малейшего снисхождения». Мало того что Вагнера он перечитывал «со скрежетом зубовным» – заодно с Вагнером Кристоф осуждал собственный (немецкий) народ. «То была полоса слепого сокрушения идолов, которым он поклонялся с детства. Кристоф возмущался собой, возмущался ими за то, что верил в них так страстно и смиренно».
Итак, полный самых радужных представлений о жизни старших, глубоко уверенный, что прекрасные, совершенные во всех смыслах люди, их порядки и творения – цель давно уже достигнутая, подросток или юноша однажды осознает свою ошибку и впадает в уныние, чувствует себя как бы обманутым, оскорбленным, и у него даже пропадает охота жить. Обычно тут нет ничего страшного: кратковременная болезнь или – можно сказать и так – природная особенность возраста. Ее надо в себе сознавать, помнить, что через это проходишь не ты один, а многие люди во все времена, и тогда быстрее явится спасительное деятельное спокойствие, как произошло это с Жаном-Кристофом.
Родители, а также те, кто работает в школах и детских учреждениях, с давних пор условно делятся на две категории. Одни считают, что детей надо по возможности оберегать от соприкосновения с «грубой прозой» жизни, с явлениями, которые не лучшим образом характеризуют взрослых и установленные ими порядки. Отрицательные впечатления детства и юности, раннее знание теневых сторон действительности могут, дескать, больно ранить незакаленную душу, вызвать пессимизм, парализовать волю, посеять неверие в торжество добра. «Всему свое время, не нужно его торопить» – их лозунг. Как грудному младенцу вредно давать жареное мясо с горчицей, так и подростку открывать глаза на некоторые обстоятельства, касающиеся быта, нравов, истории, общественных проблем. Пусть они, глаза, открываются сами собой, постепенно, без внешнего давления – тогда, мол, будет больше шансов, что светлое восприятие мира выйдет победителем в неизбежней и естественной борьбе противоречивых наблюдений и впечатлений.
Другие, наоборот, уверены, что ни от каких впечатлений и знаний, будь они самыми тяжелыми, детей оберегать не надо.
Стеклянный колпак или башня из слоновой кости не лучшее, по их мнению, место, где можно вырастить личность, подготовленную к усеянным не только розами, но и шипами дорогам жизни. Не ждать, когда подросток сам увидит ту или иную безобразную картину и задаст «опасный» вопрос, а брать его за руку и вести к таким картинам, подсказывать ему такие вопросы и тут же на них отвечать. Тогда, кажется им, у человека будет больше шансов избежать потрясения от первого же столкновения с реальностью и следующего за ним разочарования, он будет трезв и духовно крепок.
Конечно, между этими двумя крайними позициями было и есть много промежуточных.
Но что любопытно! И сами подростки, вокруг которых и ради которых из века в век взрослые ломают копья педагогических воззрений, тоже не остаются безучастными и ничего не подозревающими свидетелями этих баталий. Они тоже условно делятся на две категории – на тех, кому приятнее до поры до времени жить тепличным растением под стеклянным колпаком, и на тех, кто стремится в открытое, бурное море жизни.
Бояться разочарований не надо. Важно только отдавать себе отчет в опасностях, которыми может быть чревато не в меру острое обличительное настроение, направленное в «разочаровательный» период жизни на окружающих. В таком настроении часто преувеличивают действительные недостатки, не говоря уж о мнимых. Развивается замкнутость, угрюмость, грубость, а главное – вот самая большая опасность! – опускаются руки. Если, мол, все кругом плохие, то зачем мне быть хорошим – добрым, трудолюбивым, принципиальным?.. Или наоборот: разочарование в других приведет к безоглядному очарованию собой, сделает тебя спесивым, нетерпимым, неким ходячим молчаливым укором всему и вся. Стоит ли, однако, доказывать, что в момент, когда человек сам себя причисляет к лику святых, он оказывается так же далек от совершенства, как и презираемый им жалкий тунеядец?
Опасностей, связанных с юношеским разочарованием, счастливо избегает тот, кто вступает в жизнь не с мыслью пожинать приготовленные для него сладкие плоды идеальных человеческих отношений, а с мыслью внести свой вклад в общую копилку добра, справедливости и братства, сделать что-то хорошее, полезное не для себя, а для других. Это мысль о твоей личной ответственности за то, чтобы благодаря твоему бескорыстному труду человечество хоть на йоту стало ближе к благословенному идеалу.








