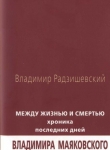Текст книги "В. Маяковский в воспоминаниях современников "
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 42 страниц)
Спустя несколько лет ЦК комсомола Украины издал первые книги стихов своих поэтов. Это были две небольшие книжечки по полтора–два листа каждая. Мы печатали свои стихи в "Юношеской правде", "Молодой гвардии" и состояли в группе молодогвардейцев вместе с Безыменским и Жаровым. Мы получали письма от комсомольцев из Запорожья, Екатеринослава и Харькова. Одни ругали нас, другие хвалили, но неизменно заканчивали письма просьбой: "Не подкачать и не поддаваться Есенину".
И вот теперь в редакции "Молодой гвардии" стоял передо мной поэт Владимир Маяковский, автор "Облака в штанах", "Мистерии–буфф", "Войны и мира".
Обернувшись ко мне всем своим атлетическим корпусом, он положил свою палку на стол редактора.
– А, здравствуйте... А у меня о вас со Светловым справлялись харьковские комсомольцы. Я их поприветствовал от вашего имени.
Я хотел ответить ему, что мне уже об этом написали, но к нему уже подталкивали для знакомства краснощекого, слегка запинающегося Борю Горбатова.
Маяковский принес в редакцию «Нового мира» стихи на смерть Есенина. Один из присутствующих тут поэтов приветствовал его чуть–чуть язвительно:
– Здравствуйте, мэтр!
Маяковский, пожимая ему руку, ответил:
– Почтение вершку...
Потом спокойно вытащил у меня из рук два моих новых стихотворения. Он сделал это так, как если бы стихи принадлежали ему. Он прочел одно, затем второе и сказал совершенно категорически:
– Это – не годится. Это – годится.
Перечитывая второе стихотворение на слух, он стал в одной строфе переставлять прилагательные и менять рифмовку.
– Разве вы не чувствуете, что так лучше?
Но редактор решил все наоборот. То, что не понравилось Маяковскому, понравилось редактору. Он стоял за первое стихотворение и отклонял второе. Не желая ему уступить, я оба стихотворения напечатал в "Красной нови", оставив во втором поправку Маяковского 1.
Большая аудитория Политехнического музея была переполнена. Маяковский читал свою поэму «Хорошо!» 2. После первого отделения он стал резко критиковать ряд современных поэтов, зачитывая отрывки из стихов. И вдруг неожиданно прочел так, как только он мог читать – стихотворение Светлова «Гренада», Аудитория бурно аплодировала.
– Вот так нужно писать, – закончил он после того, как аплодисменты затихли.
И потом стал говорить, что, конечно, дело не только в "оснастке стихов, но и в направленности их, то есть на кого они работают".
Характерно его отношение к аудитории, с мнением которой он часто считался. Так, например, критикуя стихи Жарова "Старым друзьям", он прочитал их аудитории. Но слушатели стали аплодировать стихам, которые в чтении Маяковского только выигрывали. Тогда он крикнул Жарову:
– Ну что же, черт вас возьми, идите, кланяйтесь народу, – и вывел его за руку на сцену.
В своей любви ко всему живому в поэзии он был выше всяческих групп и школ. Как и его друг Асеев, он много сделал для молодых поэтов.
Он знал, что значит ободрить вовремя того или иного поэта.
Однажды, возвращаясь не то с пирушки, не то с какого-то собрания, я признался рядом шагавшему Светлову:
– А у меня лежит его приветственная телеграмма по поводу моих стихов в "Комсомольской правде" 3,
Светлов ответил:
– А он мне вчера звонил по поводу моих стихов "Пирушка". Они ему очень понравились.
И так было со многими. Разговоры о нетерпимости Маяковского, о его нелюбви ко всему, что стояло вне его творческих исканий, резкая ругань его по адресу всей советской литературы – клевета людей, до сего дня не осознавших непреходящего значения поэта для передовой литературы всего мира. Против этой клеветы говорят его стихи на смерть Есенина, "Послание пролетарским поэтам", а также знаки внимания и товарищеская поддержка многих и многих поэтов, его счастливых современников.
Ранним апрельским утром мне позвонили о его смерти. Стрекотала капель с крыш, голубело небо – и не верилось в смерть. Приходили на память его стихи «Во весь голос», где он живой перекликался с Горацием, Державиным, Пушкиным. Значит, тревога, сквозившая в его стихах и так испугавшая поэтов, была правильно понята нами... Вспоминались последние статьи и рецензии о нем «поклонников святого вечного искусства». Они ломали его надвое. Они, эти ожесточенные рабы всего уходящего, кричали ему: «Читайте „Облако в штанах“, довольно агитации!» Они начинали статьи за здравие и кончали за упокой. Разделяя его поэзию на газетную и «настоящую», они предъявляли ему обвинение в неискренности – самое страшное обвинение для искренних. Не отсюда ли такое поспешное подведение итогов в стихах «Во весь голос»?..
На Таганке гудела толпа, звенели трамваи и по–весеннему булькала вода в протоках.
Я вошел в квартиру. Кто-то повел меня в комнату, где он лежал на низком диване, прикрытый простыней до подбородка. Он лежал, вытянувшись во весь огромный рост, а где-то над весенним московским днем, там, над плантациями Мексики и над "вишнями Японии", начиналась его вторая жизнь, его бессмертие.
М. К. Розенфельд . Маяковский–журналист
Старый дом, в котором помещалась редакция "Комсомольской правды", стоял в переулке сразу за Китайгородской стеной, против площади Дзержинского.
В полутемном узком коридоре редакции было невероятно шумно от множества посетителей. Разыскивая заведующих отделами, фельетонистов и репортеров, в коридоре сталкивались комсомольские работники с далеких окраин, изобретатели с огромными, как колонны, свертками чертежей, спортсмены, актеры, пилоты, собирающиеся в перелет, радиолюбители, моряки, вернувшиеся из заокеанского плавания, шахтеры, школьники, маститые музееведы и полярники, привезшие в подарок редакции клыки моржа.
В эти шумные часы в коридоре с массивной тростью в руках появлялся Владимир Владимирович Маяковский. Возбужденные посетители на мгновение оборачивались, заметив огромную фигуру нового человека, но, не зная, кто это, снова пускались в увлекательные разговоры, а работники редакции, пробегая мимо Маяковского с гранками и пачками заметок, на ходу кивали ему и, если нужно было, кричали: "Зайдите к нам. Есть интересное дело".
Маяковский молчаливо поднимал трость в знак того, что он слышит, понял, запомнит и обязательно зайдет. Медленным шагом, дымя зажатой в зубах папиросой, он направлялся в конец коридора, в секретариат. Он шел по коридору нарочито медленно, останавливался, слушал, о чем говорили, всматривался в лица незнакомцев и, увлекшись, вступал в разговор. Заинтересованный, он отводил случайно встретившегося человека в сторону, долго и пытливо расспрашивал его и, удобно устроившись где–либо в углу коридора, забывал, что шел в секретариат за темами. Маршрут Маяковского по редакции оставался неизменным: коридор (здесь он задерживался на продолжительное время), секретариат, отделы и снова коридор. Как ни странно, Маяковский не заходил в отдел литературы, куда с утра уже собирались поэты, беллетристы и критики. Надо полагать, он не успевал посещать эту вечно переполненную писателями комнату, где всегда яростно спорили о задачах и путях современной литературы, а начинающие поэты и прозаики выслушивали неизменные советы читать классиков и по мере возможности не торопиться публиковать произведения, написанные минувшей ночью.
Маяковский в это время, рядом с дверью литературного отдела, слушал про мытарства изобретателя, знакомился с секретарем комсомольской организации с дальнего Севера, беседовал с пионерами о лагерях и советовал им кем лучше быть, когда станут взрослыми. Приезжий из Средней Азии с удовольствием рассказывал неизвестному человеку с тростью, как сеют на горных склонах Памира, что за хлопок растет в пустынях на границе с Афганистаном, и какой удивительный случай произошел недавно в горном ущелье с бежавшими из Индии кочевниками. Временами Владимир Владимирович просил извинения и на минуту уходил. В закоулке, у вешалки, или выйдя на площадку лестницы, он незаметно вынимал из кармана блокнот, что-то записывал и торопливо возвращался назад. С тростью под мышкой, в шляпе, сдвинутой на затылок, он долго ходил по коридору с интересовавшим его собеседником.
Надо, наконец, идти в секретариат, но Маяковский все еще задерживался. Он заходил в комнату репортеров. Он любил разговоры газетчиков, с утра уже знавших все городские новости. Среди репортеров можно было услышать о новой воздушной линии, о скором открытии электротехнической выставки, какое интервью дал знаменитый китайский генерал, что было на съезде металлистов и как на таможне оскандалился польский консул.
Усевшись на подоконнике, Владимир Владимирович читал только что полученные телеграммы ТАСС и специальных корреспондентов. В комсомольском отделе Маяковский сосредоточенно читал письма, отклики, корреспонденции и жалобы. На следующий день, а порой в тот же вечер, он приносил в редакцию и срочно сдавал на машинку стихи, фельетоны или стихотворные лозунги.
Маяковский открыто гордился тем, что он постоянно, как рядовой сотрудник, работает в газете. В разговорах он часто произносил: "Я – газетчик... говорю вам как газетчик!" Возбужденный и довольный собой, он размашистым шагом торопливо шагал в секретариат, когда у него был материал "в номер".
Однажды утром, придя в редакцию ранее обыкновенного, Маяковский зашел в отдел информации, взял со стола ворох газет и углубился в чтение. Заведующий отделом, просматривая свежий номер "Комсомольской правды", угрюмо поморщился при виде маленького отчета о вчерашнем собрании актива Осоавиахима в Доме Союзов. Репортер, написавший этот отчет, стал оправдываться тем, что собрание прошло скучно, не было ни одного чем–либо выдающегося выступления. Что же в таком случае писать? Еле–еле удалось набросать сорок пять строк. Вспыльчивый заведующий не захотел слушать оправданий и, как грозный лист приговора, он вручил сконфуженному репортеру профсоюзную газету, где отчет об этом же собрании занимал две колонки. Разгневанный завотделом не прочел, о чем писал сотрудник профсоюзной газеты, он только видел перед глазами двести строк вместо сорока пяти, и этого было достаточно для негодования и выговора.
Маяковский оторвался от чтения, выбрал из кипы газет "Комсомольскую правду", прочел незатейливый отчет: "Вчера состоялось...". Затем с интересом развернул номер профсоюзной газеты, и тотчас лицо его нахмурилось. Он прочел отчет и с возмущением воскликнул:
– Безобразие! Невозможно читать! – Он поднялся, встал во весь рост, швырнул трость на стол и загремел:– До каких пор читателю будут подавать такую цветистую муть!
С любопытством репортеры подхватили номер профсоюзной газеты и принялись за чтение. Быстро ознакомившись с длинным отчетом, газетчики недоуменно уставились на разбушевавшегося Владимира Владимировича. В чем дело? Отчего Маяковский так возмущен? Отчет как отчет. Напротив, способный сотрудник профсоюзной газеты сделал все возможное, чтобы "оживить" репортаж о скучном собрании. Прежде чем передать речи ораторов, он описал сияющий светом зал, мраморные колонны, сверкающие люстры, гирлянды малиновых стягов и напомнил читателю, что именно в этом зале, на блестящем паркете, некогда кружились в упоительном вальсе генералы, князья и графы. Удивленные репортеры обступили Маяковского:
– Отчего вы возмущены? Отчет довольно...
– Пошлый! – перебил Маяковский.– Это самая настоящая пошлость!
– Но во всех других газетах помещены еще худшие отчеты...
– Это наша беда! – воскликнул Маяковский.– Как можно прочитать такой безответственный набор слов. Речь идет о важном собрании, а он извольте... блестящий паркет, хрустальные люстры, порхающие графини...
– Вы неправы,– заметил кто-то из репортеров,– такие собрания происходят очень часто. Надо войти в положение газетчика...
– Он не газетчик,– запальчиво перебил Маяковский,– он чиновник–протоколист. У нас происходят сотни демонстраций, и эти замечательные события такой протоколист описывает всегда в одном и том же стиле, одними и теми же словами: "Волновалось море знамен", "Шагали бесконечные стальные шеренги". Я вам говорю, что это безобразие!
– Но согласитесь, поймите, газетный отчет – не поэма,– возразили репортеры.– Попробуйте в стихах дать отчет.
– Не только попробую,– заявил Маяковский,– а обязательно напишу! При первом же случае дам самый настоящий репортаж.
– Ловлю на слове,– вскочил из–за стола заведующий отделом информации.– Послезавтра спортивный парад. Послезавтра вы идете на парад и приносите мне полный отчет.
– Можете не сомневаться,– попрощался Маяковский.– Готовьте пропуск.
С точностью репортера Маяковский после парада принес и сдал рифмованный отчет.
В десятом томе собраний сочинений В. В. Маяковского читатель найдет замечательную, молниеносную репортерскую работу поэта. В ярком, захватывающем произведении поэт–газетчик передал незабываемую картину парада 1.
Провозгласив мечту о времени, когда Госплан будет давать поэтам "задания на год", Маяковский пока буднично трудился в газете. Он с вечера брал задание и утром сдавал материал в номер. На газетных страницах он обличал лодырей, рвачей, мещан, пьяниц и молодых бюрократов. Он лозунгами призывал читателя неустанно распознавать врага:
"Товарищи, помните, между нами орудует классовый враг" 2.
Поэт–газетчик, гражданин, он писал о колхозных полях и с газетного листа обращался к деревне от имени комсомола:
"Даешь на дружбу руку, товарищ агроном!"3
В непреклонной целеустремленности, в гордом сознании великого долга перед страной он смело, со всего плеча отметал путающихся под ногами, стонущих и ноющих эстетов, смертельно боявшихся повседневной работы в газете:
Литературная шатия,
успокойте ваши нервы.
Отойдите –
вы мешаете
мобилизации и маневрам 4.
Маяковский работал в «Комсомольской правде» штатным сотрудником несколько лет 5, и все эти годы в своих могучих руках он высоко нес знамя большевистской печати. И от его груди, как от стального панциря, отскакивали ядовитые стрелы врагов. Слово «газетчик» они произносили с тихим змеиным шипением или отчаянно вопили о наступившей гибели высокого стиля и глубоких тем.
"Сегодняшний лозунг поэта,– отвечал Маяковский,– это не простое хождение в газету. Сегодня быть поэтом–газетчиком значит подчинить всю свою литературную деятельность публицистическим, пропагандистским активным задачам строящегося коммунизма" 6.
Маяковский прекрасно знал, что панические крики о стиле и глубине поэтического искусства скрывают страх врагов перед действенной силой партийной печати.
За два месяца до смерти Маяковский пришел на общемосковское собрание читателей "Комсомольской правды". После доклада и прений должен был состояться концерт, и афиша объявила о выступлении шести поэтов. Владимир Владимирович, как всегда, явился к началу собрания. Никого из поэтов не оказалось, они приехали только к концерту. Маяковский сидел и слушал речи читателей, затем попросил слова:
– Товарищи,– заявил он,– я сознательно выступаю не в концертном отделении. Дело в том, что концертное отделение обязательно связано с игривостью в голосе, с красивыми манерами, с отставлением ножки в балетных па и т. д.
Смех прокатился по залу, но в следующую минуту сотни читателей рукоплескали гневным словам Маяковского:
– Мы знаем десятки и жгучих и важных проблем сегодняшнего дня. А где поэт? Куда поэты запропастились? Их нет ни в одной газете, в том числе и в "Комсомольской правде"...7
То было последнее выступление Владимира Владимировича Маяковского перед читателями "Комсомольской правды", а через два месяца, 14 апреля, он не пришел в редакцию.
В это утро старик вахтер рано раскрыл окна редакции. Ожидая сотрудников, он сидел на подоконнике и грелся на весеннем солнце. Было тихо на улице, не кричали понапрасну разносчики, и трамваи двигались полупустыми. На замшелой Китайгородской стене громко перекликались слетевшиеся птицы, люди медленно шли под солнцем неожиданно ранней весны. Одинокий репортер, с вечера получивший задание, стоял у распахнутого окна и перелистывал городской справочник. Резкий, продолжительный телефонный звонок раздался вдруг в конце коридора – в секретариате. Зная, что там сейчас никого нет, репортер побежал к телефону, сорвал трубку и услыхал рыдающий женский голос:
– Редакция... Приходите!.. Маяковский... Несчастье...
Трубку повесили или бросили, но в тихой комнате как будто еще звучал горестный вопль: "Несчастье!.."
Дом, где помещался рабочий кабинет Владимира Владимировича, находился рядом, совсем близко от редакции, в Лубянском проезде. Не более чем через три минуты репортер был во дворе дома и взбежал по лестнице. У дверей квартиры сгрудилась толпа соседей.
В комнате Маяковского стоял еще не остывший чайник...
...В редакцию, как позднее выяснилось, позвонила вбежавшая к Владимиру Владимировичу соседка. В ужасе заметавшись по комнате, она в первое мгновение увидела на столе раскрытый, похожий на маленький блокнот, редакционный билет и бросилась к телефону. Это был редакционный билет No 387 – удостоверение постоянного сотрудника "Комсомольской правды".
Л. А. Кассиль . На капитанском мостике
Аудитория
сыплет
вопросы колючие,
старается озадачить
в записочном рвении.
("Лучший стихи")
Политехнический осажден. Смяты очереди. Трещат барьеры. Давка стирает со стен афиши. Администратор взмок... Лысой кукушкой он ускользает в захлопнувшееся окошечко. Милиция просит очистить вестибюль.
Зудят стекла, всхлипывают пружины дверей. Гам... Маяковский сам не может попасть на свой вечер. Он оказывается заложником у осаждающих. С него требуют выкупа: пятьдесят контрамарок... ну, двадцать,– тогда пропустят. Но он уже роздал вчера, сегодня, сейчас десятки контрамарок, пропусков. Больше нет. Он оскудел.
И Маяковский продирается к выходу. Он начинает таранить, ворочаться, раздвигать, как затертый мощный ледокол. Потом он вдруг сразу и легко проходит через всю толщу толпы.
Зал переполнен. Сидят в проходах, на ступеньках, на краю эстрады, на коленях друг у друга. Только в первых рядах еще видны пустые места, оставленные для лиц, особо уважаемых администрацией и пренебрежительно опаздывающих.
Маленькая закулисная комнатка загромождена Маяковским. Она раздавлена его расхаживанием. Комнатка тесна Маяковскому. Владимир Владимирович сторонит широкие плечи. В углу рта папироса. Она закушена, как удила.
По лестнице поднимается шум осады:
– Ма...
я...
ков...
ский!..
Про...
пу...
сти...
те!!
Владимир Владимирович, почти сконфуженный, говорит мне:
– Пожалуйста, Кассильчик, спуститесь к администратору – мне уже совестно. А там пришли комсомольцы, кружковцы. Пусть пропустят пять человек, скажите: последние... Ну ладно, заодно уж восемь... Словом, десять. И бейте себя в грудь, рвите волосы, выньте сердце, клянитесь, что последние. Он поверит. Девять раз уже верил...
Тем временем строптивый зал уже топочет от нетерпения.
И вот выходит Маяковский. Его появление на эстраде валит в котловину зала веселую и приветливую груду хлопков. Друзья и соратники сопровождают поэта.
В одной руке Маяковского портфель, в другой – стакан чаю.
Он сотрясает своими шагами пол эстрады. Он двигает стол. Грохочут стулья. Рядком раскладываются книжки, стихи, бумажки, часы. Громко звенит ложечка в стакане. Маяковский медленно, методично мешает ложечкой чай. Вот он обжился. Он осмотрен и осмотрелся. С мрачной иронией оглядывает он первые ряды и поднимает голову. Теперь он смотрит наверх, на балкон. Крепко закушенный, втиснутый в самый угол рта окурок вдруг сдвигается в широкой улыбке.
– Галерка! – произносит Маяковский грохочущим басом.– Студенты, сюда!
И жестом, убедительнейшим по своему размаху и простоте, он приглашает веселое население галерки занять неприкосновенные пустоты в партере. Студенты валят вниз. Растерянные капельдинеры сметены.
– Горные жители спускаются в долину,– вполголоса говорит Маяковский.
Пять минут шума, топота, веселых пререканий, толкотни, и вот от самых ног Маяковского, от края эстрады, на ступеньках, в проходах, на лестницах, вплоть до задней стены аудитории все заполняется горячеголовой, яснолицей молодежью. И огромные глаза Маяковского, поражающие обычно своим глубоким, мрачным и гордым блеском, теплеют. Распахнув полы пиджака он засовывает ладони под пояс. Поза почти спортивная.
– Сегодня,– начинает он,– я буду...
Сообщается программа вечера.
– После доклада – перерыв: для моего отдыха и для изъявления восторгов публики.
– А когда же стихи будут? – жеманно спрашивает какая-то девица.
– А вам хочется, чтобы скорее интэрэсное началось?– так же жеманно басит Маяковский.
Первый раскат заглушённого хохота. В зале копится пока еще скрытое восхищение и негодование. И вот Маяковский начинает свой доклад.
Собственно, это не доклад, это блестящая беседа, убедительный рассказ, зажигательная речь, бурный монолог. Интереснейшие сообщения, факты, неистовые требования, возмущение, курьезы, афоризмы, смелые утверждения, пародии, эпиграммы, острые мысли и шутки, разительные примеры, пылкие выпады, отточенные формулы. На шевелюры и плеши рыцарей мещанского искусства рушатся убийственно меткие определения и хлесткие шутки.
Маяковский разговаривает. Головастый, широкоротый, он минутами делается похожим на упрямо вгрызающийся экскаватор.
Вот он ухватил какую-то строку из пошлой статьи критика, пронес ее над головами слушателей и выбросил из широко раскрытого рта, свалив в кучу смеха, выкриков и аплодисментов. Стенографистки то и дело записывают в отчете: "смех", "аплодисменты", "общий смех", "бурные аплодисменты".
На стол слетаются записки изо всех углов зала. Обиженные шумят. На них шикают. Обиженные оскорбляются. "Шум в зале",– констатирует стенограмма,
– Не резвитесь,– говорит Маяковский.
Он совершенно не напрягает голоса, но грохот его баса легко перекрывает шум всего зала.
– Не резвитесь... Раз я начал говорить, значит докончу. Не родился еще такой богатырь, который бы меня переорал. Вы там, в третьем ряду, не размахивайте так грозно золотым зубом. Сядьте! А вы положите сейчас же свою газету или уходите вон из зала! здесь не читальний зал, здесь слушают меня, а не читают. Что?.. Неинтересно вам? Вот вам трешка за билет. Идите, я вас не задерживаю... А вы там тоже захлопнитесь. Что вы так растворились настежь? Вы не человек, вы шкаф.
Он ходит по эстраде, как капитан на своем мостике, уверенно направляя разговор по выбранному им курсу. Он легко, без натуги распоряжается залом.
Становится жарко. Он снимает пиджак, аккуратно складывает его. Кладет на стол. Подтягивает брюки.
– Я здесь работаю. Мне жарко. Имею право улучшить условия работы? Безусловно!
Некая шокированная дама почти истерически кричит:
– Маяковский, что вы все подтягиваете штаны? Смотреть противно!..
– А если они у меня свалятся?.. – вежливо интересуется Маяковский.
Молниеносные ответы разят пытающихся зацепить поэта.
– Что?.. Ну, вы, товарищ, возражаете, как будто воз рожаете... А вы, я вижу, ровно ничего не поняли. Собрание постановило считать вас отсутствующим.
– До моего понимания ваши шутки не доходят, – ерепенится непонимающий.
– Вы жирафа! – Восклицает Маяковский.– Только жирафа может промочить ноги в понедельник, а насморк почувствовать лишь к субботе.
Противники никнут. Стенографистки ставят закорючки, обозначающие хохот всего зала, аплодисменты.
Но вдруг вскакивает бойкий молодой человек без особых примет.
– Маяковский! – вызывающе кричит молодой человек.– Вы что, полагаете, что мы все идиоты?
– Ну что вы! – кротко удивляется Маяковский. – Почему все? Пока я вижу перед собой только одного.
Некто в черепаховых очках и немеркнущем галстуке взбирается на эстраду и принимается горячо, безапелляционно доказывать, что "Маяковский уже труп и ждать от него в поэзии нечего".
Зал возмущен. Оратор, не смущаясь, продолжает умерщвлять Маяковского.
– Вот странно, – задумчиво говорит вдруг Маяковский, – труп я, а смердит он.
И оратор кончился... Когда хохот стихает, в одном из углов зала опять начинают что-то бубнить недовольные.
– Если вы будете шуметь, – урезонивает их Маяковский, – вам же хуже будет: я выпущу опять на вас предыдущего оратора.
Маленький толстый человек, проталкиваясь, карабкается на эстраду. Он клеймит Маяковского за гигантоманию.
– Я должен напомнить товарищу Маяковскому, – горячится коротышка, – старую истину, которая была еще известна Наполеону: от великого до смешного – один шаг...
Маяковский вдруг, смерив расстояние, отделяющее его от говоруна, соглашается.
– От великого до смешного – один шаг, – и показывает на себя и на коротенького оратора.
А зал надрывается от хохота.
Начинается, как всегда, разговор о классиках, критическом изучении их. Маяковский, уважительно отзываясь о Пушкине, Лермонтове и Толстом, говорит, что новому времени нужны новые литературные приемы, новый поэтический словарь. Тут же он еще раз говорит о том, что Пушкин для своего времени был величайшим поэтом.
Какой-то крикливый оппонент, все время пытавшийся сострить, шумевший с места и требовавший слова, неожиданно получает таковое. Но он, оказывается, "раздумал, да и вообще не собирался".
Маяковский торжественно возглашает:
– По случаю сырой погоды фейерверк отменяется.
Маленькая, хрупкая на вид поэтесса подымается на эстраду и начинает спорить с Маяковским по поводу одного раскритикованного им стиха.
Маяковский очень тихо, почти беззвучно шевеля губами, отвечает ей.
– Громче, неслышно, громче! – кричат из зала.
– Боюсь,– говорит Маяковский, прикрывая рот и глазами показывая на поэтессу,– боюсь: сдую...
Потом Владимир Владимирович читает свои стихи. И сторонники и противники стынут во внимательной, напряженной тишине. Зал сверху донизу дышит восторженной покорностью. С мастерством и могучей простотой читает Маяковский. Его неохватный голос звучен, бодр, искренен. Все уголки Политехнического плотно заполнены им. Замерли много слышавшие на своем веку капельдинеры. Дежурный милиционер и пожарный приоткрыли рты. Слово – такое большое и объемное, что, кажется, вот–вот раздерет углы распяленного рта, слово несокрушимой крепости, слово упругое, вздымающее, весомое, грубое, зримое, слово радостное и яростное, шершавое и острое колышет остановившийся воздух зала:
и жизнь
хороша,
и жить
хорошо.
Гремит взволнованный зал. Вот уже спал первый жар восторга, но снова хлопает, ревет, топочет аудитория.
Еще читает Маяковский. Опять онемел зал. Но тут из второго ряда шумно и грузно подымается тучный и очень бородатый дядя. Он топает через зал к выходу. Широкая и пышная борода лежит на громадном его животе, как на подносе. Он невозмутимо выбирается из зашикавших рядов.
– Это еще что за выходящая из ряда вон личность? – грозно вопрошает Маяковский.
Но тот бесцеремонно и в то же время церемониально несет свою бороду к двери. И вдруг Маяковский, с абсолютно серьезной уверенностью и как бы извиняя, говорит:
– Побриться пошел...
Зал лопается от хохота. Борода обескураженно и негодующе исчезает за дверью. Теперь, положив карандаши, аплодируют даже стенографистки. Пожарный сияет ярче своей каски. Капельдинеры учтиво прикрывают ладонью рты, расползающиеся в смехе.
Затем Маяковский отвечает на записки. Он запускает руки в большую груду бумажек и делает вид, что роется в них.
– Читайте все подряд, что вы там ищите? – уже кричат из зала.
– Что ищу? Ищу в этой куче жемчужные зерна...
С беспощадной, неиссякаемой находчивостью отвечает Маяковский на колкие записки противников, на вопросы любопытствующих обывателей и писульки литературных барышень.
"Маяковский, сколько денег вы получите за сегодняшний вечер?"
– А вам какое дело? Вам-то ведь все равно ни копейки не перепадет... Ни с кем делиться я не собираюсь... Ну–с, дальше...
"Как ваша настоящая фамилия?"
Маяковский с таинственным видом наклоняется к залу.
– Сказать? Пушкин!!!
"Может ли в Мексике, скажем, появиться второй Маяковский?"
– Гм! Почему же нет? Вот поеду еще разок туда, женюсь там, может... Вот и, вполне вероятно, может появиться там второй Маяковский.
"Ваши стихи слишком злободневны. Они завтра умрут. Вас самого забудут. Бессмертие – не ваш удел..."
– А вы зайдите через тысячу лет, там поговорим!
"Ваше последнее стихотворение слишком длинно..."
– А вы сократите. На одних обрезках можете себе имя составить.
"Маяковский, почему вы так себя хвалите?"
– Мой соученик по гимназии Шекспир всегда советовал: говори о себе только хорошее, плохое о тебе скажут твои друзья,
– Вы это уже говорили в Харькове! – кричит кто-то из партера.
– Вот видите,– спокойно говорит Маяковский,– товарищ подтверждает. А я и не знал, что вы всюду таскаетесь за мной.
Он продолжает ворошить записки.
"Как вы относитесь к Безыменскому?"
– Очень хорошо, только вот он недавно плохое стихотворение написал. Там у него рифмуется "свисток – серп и молоток"1, Безыменский, ну–ка, прочитайте, не стесняйтесь.
В зале послушно поднимается Безыменский и читает злополучное стихотворение.
– Ну вот, пожалуйста,– говорит Маяковский. – Разве можно так писать? А если бы у вас там рифмовалась пушка, так вы бы написали: серп и молотушка?
"Маяковский, вы сказали, что должны время от времени смывать с себя налипшие традиции и навыки, а раз вам надо умываться, значит вы грязный..."
– А вы не умываетесь и думаете поэтому, что вы чистый?
"Маяковский, попросите передних сбоку сесть, вас не видно".
– Ну проверните в передних дырочку и смотрите насквозь... Что такое?.. А, знакомый почерк. А я вас все ждал. Вот она, долгожданная:
"Ваши стихи непонятны массам".
– Значит, вы опять здесь. Отлично! Идите–ка сюда. Я вам давно собираюсь надрать уши. Вы мне надоели.
Еще с места:
– Мы с товарищем читали ваши стихи и ничего не поняли.
– Надо иметь умных товарищей!
– Маяковский, ваши стихи не волнуют, не греют, не заражают.
– Мои стихи не море, не печка и не чума.
– Маяковский, зачем вы носите кольцо на пальце? Оно вам не к лицу.
– Вот потому, что не к лицу, и ношу на пальце, а не в носу.
– Маяковский, вы считаете себя пролетарским поэтом, коллективистом, а всюду пишете – я, я, я.
– А как вы думаете, Николай Второй был коллективист? А он всегда писал: мы, Николай Второй... И нельзя везде во всем говорить: мы. А если вы, допустим, начнете объясняться в любви девушке, что же, вы так и скажете: "Мы вас любим"? Она же спросит: "А сколько вас?"
Но больше всего обиженных за Пушкина. В зале поднимается худой, очень строгий на вид человек в сюртуке, похожий на учителя старой гимназии. Он поправляет пенсне и принимается распекать Маяковского.
– Нет–с, сударь, извините...– сердится он.– Вы изволили в письменной форме утверждать нечто совершенно недопустимое об Александре Сергеевиче Пушкине. Изъяснитесь. Нуте–с?