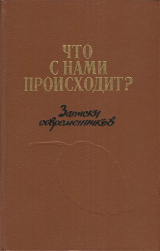
Текст книги "Что с нами происходит? Записки современников"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Валентин Распутин,Василий Белов,Василий Песков,Алесь Адамович,Алексей Лосев,Лев Аннинский,Павел Флоренский,Юрий Лощиц,Сергей Субботин,Татьяна Глушкова
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
Похоже, что продолжать изучение наследства Станиславского в самом деле некому. Впрочем, за дело готов взяться сам Смелянский. Но его исходные позиции вызывают, мягко говоря, недоумение. Разве можно согласиться с его утверждением (в юбилейном докладе), будто система Станиславского, признанная во всем мире, «предстает сейчас в наследии как очень противоречивая, не сведенная до конца, отчасти неподготовленная и необработанная… груда материалов»?! Смелянский изобразил путь корифея таким, будто всю жизнь он лишь «искал», «пытался создать систему», тыкался в «тупики художественных исканий» и так и не обрел законченных результатов (см. также его статью «…Навеки, однажды и навсегда»//Советская культура. 1988. 16 января).
В истолковании Смелянского Станиславский предстает неким фанатиком, маньяком, Дон Кихот, который, несмотря на все усилия, в конечном счете потерпел поражение, «катастрофу», – наследие его канонизировали, упростили, и оно якобы оказалось мертвым грузом, затормозившим последующее развитие нашего театра. Трудно себе представить более нигилистический взгляд на наследство Станиславского! Налицо попытка исказить его открытия, принизить значение одного из величайших классиков отечественной театральной культуры. Тем более странно, что именно Смелянского назначили руководителем комиссии по наследию К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе СССР…
А сколько протестов против опошления и извращения наследия создателей Художественного театра заявляли старые мхатовские артисты! Например, ученица Станиславского народная артистка СССР А. Зуева писала (1983): «Но больно и ужасно, когда у театра отнимают то, что было создано гением Станиславского. Если этот „процесс“ не остановить, театры могут потерять свою созидающую, воспитывающую, вдохновляющую цель, свою святую обязанность развивать, растить человека, углублять его душу».
…Споры о Станиславском. Легенды о нем. Восхищенные голоса учеников и последователей. Ядовитые сарказмы «Театрального романа» М. А. Булгакова, где актер выведен под именем Ивана Васильевича. Наскоки противников и злое шипение жаждущих поставить «искусственно раздутую» фигуру на место. Громкие вскрики и ироничные колкости по адресу современных «ретроградов», не желающих понять, что обретения Станиславского – «вчерашний день театра»… Нет, полемика эта не иссякает, а в последние десятилетия приобрела особую накаленность, как, впрочем, и в связи с другими пластами русского культурного наследия. Но, вопреки натиску ниспровергателей, Станиславский живет и продолжает бороться, помогая отстаивать и утверждать на современной сцене идеалы, которым посвятил свою жизнь.
…Знаменитый реформатор сцены. Выдающийся артист, режиссер и теоретик. Организатор Московского Художественного театра, снискавшего мировую славу. Создатель универсальной системы воспитания актера. Авторитетный педагог, незаурядный литератор… Таковы очевидные заслуги замечательного сына России.
Начав задуманное Дело едва ли не в одиночку, с небольшой группой соратников, Станиславский в конце концов собрал под свои знамена массы единомышленников и последователей. Его «собирательная» энергия одержала победу чрезвычайного значения. Его искусство, его идеи, как мощный колокол, сзывали разных людей к общенациональному (и общечеловеческому!) единству на основе высочайших гражданских, нравственных, эстетических идеалов, завещанных ему великой русской культурой.
В неотступном, неутомимом, бесстрашном и мужественном служении благородным собирательным целям и заключалась великая историческая миссия Станиславского. Свой идеал он исполнил на самом себе. Много ли найдется в России XX века деятелей, которые бы с таким упорством, с такой нравственной силой и бескомпромиссностью послужили Родине, как служил ей замечательный реформатор?! Изымите имя Станиславского из нашей истории, и вы почувствуете, как сразу оскудеет не только русская, но и мировая духовная культура.
Л. Аннинский, Т. Глушкова
Фениксы и хамелеоны
Л. А. Хочу, Татьяна Михайловна, начать с одной вашей статьи в «Литературной газете», где 17 сентября прошлого года в связи с проблемой культуры вы писали о критике Михаиле Эпштейне. Если эпизод развернуть, то он выглядит так. Молодой поэт написал стихи о море: «Море… свалка велосипедных рулей…» М. Эпштейн заявил, что эти стихи характерны для нового поколения поэтов. Он говорит: поколение культуры. Я бы уточнил, что это не культура, а вытесненная реальность, суть же в следующем: простое, «вечное», первоприродное входит в сомкнувшуюся сферу «второй природы»; в этой системе море начинает казаться культурным знаком, первичное выглядит вторичным, первозданное – производным. Мысль об экологической катастрофе из ужасающей догадки становится привычной, воспринимается как норма. Так пишет Эпштейн, комментируя стихи молодых.
Вы полагаете, что здесь противоестественные стихотворные эксперименты выдаются за современное синтезирующее сознание. Из вашей статьи я почувствовал, что вы знаете путь спасения для разрушаемой природы, как, впрочем, и для разрушаемой поэзии. Этот путь – возврат к традиции, не приемлющей, как писали вы, «свалки велосипедных рулей» на месте пушкинской «свободной стихии». Не оспаривая вашего права предпочесть Пушкина молодому поэту и даже разделяя вашу тоску по тем чувствам, которые испытал великий поэт, стоя одиноко на прибрежной скале в развевающемся плаще – как увековечили его впоследствии Репин и Айвазовский, – я все-таки рискну вернуться в нынешнюю человеческую реальность. Мне интересно, в какой мере современный человек может испытать нечто подобное тому, что испытывал человек XIX века (круга Раевских), когда он бродил по пустынному берегу, сопрягая тишь далеких лесов с блеском и говором волн, выслушиваемых в божественном уединении? Каким же это образом умудряется наш современник попасть на такое свидание со «свободной стихией»?
Не реальнее ли предположить, что если и выберется он раз-другой в течение жизни на побережье по «профсоюзной путевке», а тем более если рискнет пробиться туда на собственных «Жигулях» по загазованному Симферопольскому шоссе, если при этом он успеет отстоять очередь в кафе, чтобы мысль о том, «где бы пожрать», не отвлекала его от созерцания стихий, – что же подумает такой нормальный современный человек, воззрясь на ожидаемые стихии через головы таких же, как он, граждан, прибывших сюда под командой культработников или газанувших сюда в миллионном потоке колес? Как, предположительно, увидит наш нормальный соотечественник сегодняшнюю «свободную стихию»? Если он увидит ее как свалку велосипедных рулей, я не удивлюсь. И не попрекну этого человека. И не попрекну поэта, который пытается влезть в его шкуру. И не попрекну критика, который пытается всю эту ситуацию осознать как целое: как ситуацию экологической катастрофы, ставшей привычной, как ситуацию «второй природы», вытесняющей «первую» и в самом человеке, как ситуацию «культурной реальности», подменяющей «естественную реальность». Вы пишете, что «объективный смысл всей этой „философии поэзии“ – благословить реальное разрушение природы». Решительно сказано! Я, однако, думаю, что объективный смысл здесь другой. Просто поэты имеют перед собой новую реальность, массовую, небывалую, и понимают эту реальность, понимают ситуацию современного человека. Они исходят из теперешнего состояния жизни, чего и нам желают.
Т. Г. Важно – в поэзии, как и в жизни, – к чему люди приходят. Вы говорите, что критик и его поэт сознают «ситуацию экологической катастрофы, ставшей привычной», «чего и нам желают»… Но, собственно, чего? Сознавать?.. Тут – альфа и омега духовной задачи. Как же в таком самодостаточном понимании происходящего, примирительном этом «объективизме» («не попрекну», говорите вы!) не усмотреть своего рода благословения вещей? Да и не диковатое ли, не самовзрывающееся ли сочетание: привычная катастрофа? Предполагающее, по сути, атрофию всех чувств: от боли до ужаса или гневного протеста… Тем паче что рядом вы дважды сослались на нормального соотечественника… Получается: экологическая катастрофа есть привычная ситуация, а пассивная, всецело адаптированная к ней жизнь – признак нормальности человека? По-вашему, это трезвый взгляд? Но трезв ли, да и нормален ли человек, приемлющий, словно норму, близость гибели всего человечества? Я-то полагаю, что нормальный человек – это организм, адекватно реагирующий на раздражители. А не нереагирующий, «тотально» адаптированный. Быть может, люди такими и станут. Но они, конечно, впадут в это состояние не в ходе естественной биологической эволюции, а в результате насилия над человеческой природой – организованного «ряда перерождений», что ли, как пророчили «бесы» у Достоевского… Тут вам и ответ, может ли сегодня человек испытать нечто подобное тому, что испытывал Пушкин на пустынном берегу моря – «свободной стихии». Пока еще может. Как бы ни торопили его расстаться с древним чувством природы и даром могучего, стихийного исторического воспоминания «трезвые» теоретики неотвратимых катастроф. И во всяком случае вряд ли оспорить, что люди – разные по остроте и типу своих восприятий. Это действительно для любой эпохи, даже и пушкинской. Так что неясно: почему литератор, «который пытается влезть в шкуру» изуродованного человека и сознательно остаться в этой шкуре, сочтя ее нормой человеческого облика, заслуживает имени поэта и «не заслуживает» критики со стороны еще не изуродованной части человечества? Ясно одно: все зависит от общей точки зрения на человека, от степени уважения к нему как к самобытно общественному существу. От представлений о свободных возможностях его духа. Понимать ситуацию современного человека, обреченного, как полагаете вы, на новую, «массовую» реальность, не значит знать его внутренние возможности. А вспоминая статью Р. Гальцевой и И. Роднянской о культуре и пошлости, замечу, кстати: снижение точки зрения на человека – вечный источник пошлости, а не трезвости или, например, реализма…
Л. А. Что-то не люблю я слова «пошлость»… А в принципе вы, конечно, верно чувствуете суть нашего расхождения. Я допускаю, что в изуродованном человечестве «есть еще не изуродованная часть», которая считает себя вправе «поправлять» тех, кто изуродован. Дело в том, кто кем себя чувствует. Я уступаю право «поправлять» меня с точки зрения «гармонии» тем, кто на это претендует, но мне прошу оставить одно право: право чувствовать себя изуродованным.
Т. Г. Вы так прямо, Лев Александрович, относите к себе то, что я говорила об авторах стихов… что можно поверить: я и впрямь задела нечто шире, чем стихотворное, и весьма больное… А насчет прав, какие вы защищаете, скажу: право чувствовать себя, конечно, не ограничено; но вот пропагандировать «массовыми» способами чувства изуродованного человека, возводя их в норму, – это «право» подлежит все-таки общественному обсуждению…
Л. А. Я действительно все «через себя» пропускаю. И поэтому не разделяю «право чувствовать» и «право пропагандировать». Для меня это одно и то же. Ощущение катастрофы, угроза которой привычна, – это состояние современного человека. Во всяком случае, это мое состояние. Причем с детства. С того момента, когда ожидаемая мировая гармония, в которую я успел поверить, обернулась мировой войной и другими событиями, в которые я, простите мою нелогичность, до сих пор до конца «поверить» не могу. С тех пор всю жизнь для меня реальность вывернувшегося мира – проблема, которую надо решать как бы с нуля. Поэтому я и ценю трезвых поэтов. Я живу в ощущении возможной катастрофы, и это норма. Возможно, я ненормален, но другой жизни мне не дали.
Т. Г. Не пойму, чего больше в вашем признании: боли или обиды на мир… Но насчет гармонии, по-моему, у вас ложное разочарование. Ведь гармония не дает обязательств о сроках и формах своего «торжества» и, значит, не может быть перечеркнута логически объяснимыми ближними событиями. «Красивые уюты», как говорил Блок, но не идею «добра и света» могла отнять война… И вот оно, кстати, – снижение точки зрения на человека: мысль о роковой и верховной роли обстоятельств. О сугубо внешней силе, которая «дает» человеку то или другое мироощущение… Ну а что трудно сохранить гармоничность, а тем паче быть поэтом – тут нет спора!
Л. А. И все же, ценя трезвых поэтов, я бы поспорил об их «кабинетности», как писали вы. Об их «недемократичности», как я понял вас. Они, по-вашему, воображают себя поэтами культуры, но куда больше культуры, замечаете вы, в «прямом отношении человека к природе», скажем, в бессловесном «труде и страданьи» тургеневских «непросвещенных» крестьян, чем в упражнениях этих нынешних умников… Я не сомневаюсь, Татьяна Михайловна, в искренности ваших демократических устремлений, но мне вот что интересно: кого теперь у нас больше – тех счастливцев, которые в бессловесном единении с природой идут утром по воду к колодцу, а потом сливаются с природой в «труде и страданьи», или тех, что вкалывают в горячке спущенных им планов, затем в жажде больших чувств сливаются с телевизором и иногда, наедине с собой, мечтают, простите, бросить все это «единение», включая и «родную околицу», и рвануть в город и, зацепившись хоть за койку в общаге, отдаться современной «машинизированной цивилизации»? Я думаю, что такой «дачник», который может себе позволить «прямое отношение к природе», конечно, более счастлив, чем крутящийся в миллионных толпах представитель «рабсилы». Речь лишь о том, где теперь аристократия и где, так сказать, демос. Я считаю, что поэтесса, задумчиво глядящая в тихие воды Псковы́, потом входящая в мокрый черничник, а потом идущая к письменному столу с мыслью о «подпольной страде ремесла», – аристократка; а поэт, проваливающийся в «массовую культуру», как в «свалку словарей», и эту свалку описывающий с жестокостью цехового эксперта, – демократ. Я не о том, кто мне милей; легко догадаться, что милей – первая. Я о том, где теперь «демократия» и где поэт. И где реальность, которую должна объять поэзия. Новая реальность и новая поэзия, а не та, которая гипнотизирует тебя Пушкиным, потому что «твердь» уходит у нее из-под ног.
Т. Г. Призна́юсь вам: поскольку о «новой поэзии» даже на моей памяти объявляли не раз, я пришла к выводу, что «новая поэзия» – это та, которая устаревает в виду очередной «новой»… Так что надежней, по-моему, говорить просто о поэзии.
Л. Т. Ну, пожалуйста, если вам так привычней. «Просто о поэзии», о «вечной», так сказать? Ради бога.
Т. Г. И даже – просто о стихах. Не выдавая их ни за «новые», ни за «вечные». По мне, любые строки достойны прочтения – когда они не отмечены «жестокостью цехового эксперта». А поскольку у вас демократ – такой цеховой эксперт, мне дорого, что, вспомнив мои давнишние стихи, вы сочли меня аристократкой. Да только куда мне до тургеневских «непросвещенных» героев, чьи «труд и страданье» кажутся вам анахронизмом!.. А когда я писала эти стихи (моей дачей, замечу, была тогда работа экскурсовода в Пушкинском заповеднике), вокруг меня были абсолютно живые и недосягаемые для меня аристократы. Крестьяне из окрестных деревень. Например, тетя Шура – сторож михайловского дома. Лицо этой высокой старой женщины мог бы написать разве Крамской: такое это было чудное, доброе, горькое, породистое крестьянское лицо. И был у нее особый гармонический дар – на рассвете по дороге из своей деревни в Михайловское набирать цветы, чтоб расставить их в комнатах пушкинского дома. Что это были за букеты! Какая любовная тонкость в подборе цветков или колосков и листьев! И как чувствовала она, в какую пушкинскую комнату что́ гоже поставить… Малыши школьники принимали ее за Арину Родионовну. Она первая встречала их в сенях михайловского дома. И пока она была в доме, в нем было больше Пушкина, чем когда ее не стало. Надо ли говорить, какой жизненный путь был за плечами этой женщины – уроженки псковской земли, где гитлеровцы воистину дотла выжигали славянский корень!..
Я всегда знала и теперь знаю немало таких людей. Они есть везде, эти Фениксы, восстающие из пепла. Ваш вопрос: «Кого теперь у нас больше?» – не снизит их роли. Точный ответ на него проясняется, впрочем, не на Симферопольском шоссе, ведущем на курорт, а, так сказать, на изломах истории. К тому ж ответ этот, каким бы горьким он ни был, не в силах отменить назначения поэта. Ведь дело поэта – не переметываться ко всякому (любому!) большинству, копируя или покорно обслуживая его, но – созидание человека или, как я писала, народоформирование. Вне этой задачи – литературы демократической не бывает, а бывает лишь «массовая культура», при которой поэт состязается в потребительстве и моральном пораженчестве со своей аудиторией. Нет парадокса в том, что «массовая культура» зарождается «за стеной кабинетной посвященности»: там, вдали от драматической полифонии мира, копится не музыка речи, но «свалка словарей», статистические сведения о человеке и мире… Из всего этого и вырабатывается «формула правды» – например, о «металлургических лесах» или лягушках в человеческий рост, которые «в девичестве – вяжут», между тем как поэзия, не смущаясь статистическими сводками, растит зерно истины… Нет ничего удивительного, что «культурная» зарифмовка «голых правд», частных правд – во́роха «достоверной информации» – смыкается если не в образной системе, то потолком представлений о человеке с тем эталоном пошлости, который насаждает сегодня истошно воющая или плотоядно осклабленная в «массовой» ухмылке эстрада.
Л. А. Мне-то всегда казалось, что эстрада охотнее осваивает именно традиционные и «гармонические» системы. «Ландыши, ландыши, светлого мая привет…» Привет от «свободной стихии». Простите, это шутка! Возможно, что эстрада теперь прихватывает и авангардистов. Это дело эстрады. Мы-то ведь говорим о поэзии?
Т. Г. Насколько я понимаю, мы говорим о кризисных явлениях культуры. Отсюда и «свалка словарей», характерная для всех жанров. Вот ведь и вы, Лев Александрович, демократически перемешиваете старомодные термины с жаргоном – «газануть» да «пожрать» и «рвануть». Чтобы «демос» принял по этой речи «культработника» за «своего»?.. Я тоже не сомневаюсь в искренности ваших добрых намерений. Но чем тревожнее арифметика, которая вас интересует, тем яснее, что мир жив не «новой поэзией», «застревающей „в шкуре“ „Жигулей“» или их порабощенных владельцев, но, пожалуй, вон теми «аристократами», которые маячат на обочине загазованного Симферопольского шоссе, выбирая участь пешеходов – когда оно так загазовано! Взяв вашу терминологию, хочу уточнить, что аристократизм для меня – это целомудренное, сердечное уважение к прекрасному, будь то природа, или душа человека, или его деяния. Это – мудрое благородство взгляда, видящего неповторимость самородных вещей. С этим благородством связаны и трудолюбие (живая потребность сберечь и приумножить богатства земли), и беззаветный патриотизм (высоко развитое чувство благодарности к родной земле), и чуткость, ведущая к добровольному самоограничению… Вот, примерно, те стойкие признаки, которые делают человека «невольником чести» (Пушкин), то есть духовным аристократом. И тут очевидна взаимоперетекаемость аристократизма и демократичности…
Л. А. «Стойкие признаки»? Мне это не приходило в голову.
Т. Г. Что ж до «демократов», о которых говорили вы, так ведь «демос» для вас – та же толпа или зыбкая «масса», например, захватывающая койко-места в «общаге», дабы «отдаться современной „машинизированной цивилизации“». Неспроста рядом с эллинским «демосом» мелькнуло у вас и словечко «рабсила». Разве «рабсила» – это народ? Это, если хотите, «пушечное мясо» мирного времени! Разве «рабсила» – это человек? Это – лишь мускульная (или мозговая) вытяжка из человека, идущая на потребу материальному производству. Маркс полагал, что человек не будет осмысляться как «рабсила» даже в экономической науке социализма, не то что в литературе…
Л. А. С Марксом, Татьяна Михайловна, я спорить поостерегусь, а с вами рискну. Словечко «рабсила» мелькнуло у меня рядом с «демосом» действительно неспроста. И даже, как вы почувствовали, не без иронии. Равно как и словечко «аристократ», которое я обычно не употребляю, но употребил теперь в ответ на ваши слова о «кабинетных» стенах. Вы спрашиваете: разве «рабсила» – народ? Отвечаю: да, народ. Из каких, простите, марсианских популяций наберете вы народ, если не из этих же реальных людей, составляющих, хотите или нет, «рабсилу»? Народ – понятие духовно-практическое. Это ощущение единой духовной задачи всех живущих вместе людей, а вовсе не какие-то эталонные индивиды.
Т. Г. Следовательно, вы и себя, само собою, включаете в народ?
Л. А. Следовательно, включаю.
Т. Г. Но готовы ли вы сами, лично, числиться по «рабсиле»? Или, может быть, народ состоит все-таки из «рабсилы» и каких-то групп, вне или над этой «силой» стоя́щих? Например, «прорабов духа», как называют себя иные?..
Л. А. Сам, лично? Готов числиться и по «рабсиле», а куда же я денусь? Группы, стоящие «вне» или «над»?.. Признаю́ – как реальность, хотя примириться с этим в духовном смысле не могу. Сумма групп – еще не народ, и «рабсила» сама по себе тоже. Хотя и то и другое – так сказать, материал. А народ – это духовное единство, объединяющее всех. Всех! – подчеркиваю, иначе это уже что-то другое: каста, слой, класс, корень, но не народ.
Т. Г. Не очень ясно: народ – и в то же время лишь материал… Диалектика, видимо? Не исключено, однако, что «рабсила», непременно предполагающая, кстати, хозяина над собой, – это не «еще не народ», а – уже не народ. Смягчающая ирония термину вашему не помогает. Он сращен более с… контингентом концлагеря, напоминает не о народе, но об уничтожении народа. А вдобавок вы «корень» противополагаете народу… Хотя в корне слова «народ» лежит «род», то есть именно «корень». Корню противоположен не народ, а та же – текучая – «рабсила» или сумбурная «толпа», весьма эфемерная генетически и духовно. Похоже, вы говорите о «народе», лишенном истории, ясного национального признака, языковой традиции. Любопытно и то, что выше вы упомянули «новую, массовую реальность». Фактически ту, в которой нет места народу, как и личности. Где действует просто «масса».
Л. А. Недавно мне по поводу моего телевыступления прислал письмо один ленинградский литератор. В этом письме такая фраза: «бегство рабочей силы с полей совхозов и колхозов». Я-то куда «гармоничнее» с экрана формулировал: народ, дескать, уходит с земли, как его вернуть? А коллега возьми и врежь «рабсилу». Поделом мне: не пой соловьем, не выдумывай гармонии там, где ее нет. Она, гармония, конечно, есть… в сверхсознании. В идеале. И есть народ как духовно-практическая сверхзадача работающей силы…
Т. Г. Ваш корреспондент прав. Ежели бегство, то, конечно же, «рабсилы». Народ с отчих полей не побежит… Но каковы основы вашего «духовно-практического единства»?
Л. А. В старину народ определяли как мистическое, таинственное целое. На изломах истории народ испытывается как монолитная структура; тогда становится ясно, есть народ или его нет. Но не будешь же все время жить «на изломе» – надо жить в нормальной повседневности, полной противоречий, и все-таки чувствовать единство. Как? Через культуру, и в частности, через поэзию. Но это именно единство, а не селекция. Единство разных людей, разных частей общества, разных традиций. И никто не имеет права (если он, конечно, радеет о народе, а не о чем-то другом) выставлять какой-то один социальный тип («стойкие признаки») и объявлять его народным в противовес другому, «не народному».
Т. Г. Я-то в рассказе о Михайловском помянула не просто социальный, а национально-социальный и, как мне кажется, вполне исторический тип. И думала о судьбе его не как о противовесе (чему-либо), но прежде всего как об основе «духовного единства». Что же до «права» видеть в каком-либо типе образец – отчего же лишать людей права на свои, идеальные, представления о родном народе? Запреты по этому поводу особенно странны в устах литератора: ведь литература всегда была занята созданием положительного, даже идеального героя, и прежде всего как раз народного типа. Притом нередко – именно в противовес типу негативному и ненародному. Это уж в «Евгении Онегине» достаточно непреложно… Что ж до вашего подчеркиванья, будто народ – это единство разных традиций, то народные традиции могут быть многочисленными, разноликими, но не принципиально разными. Совсем разное, несплавляющееся, пусть и собранное вместе, не позволяет говорить о сколько-нибудь определенной сути или оформленности явления.
Л. А. Честно сказать, я к «положительному герою» с университетских лет никак не привыкну. Лучше давайте о стилистике. Никто меня еще не убедил в том, что внутри поэзии (если опять-таки речь идет о поэзии, а не о чем-то другом) есть «подлинно народная» стилистика, а есть нечто, от народа отлучаемое. Это, знаете, дело подвижное: сегодня его отлучают, а завтра объявляют краеугольным камнем. Потому что ощущение народа – это ощущение единства в постоянно меняющемся мире.
Т. Г. Насчет «дела подвижного» литературных отлучений вы правы. Ведь и Пушкина не раз отлучали! От «пароходов современности», а в итоге – от современного народа. Вот и вы, Лев Александрович, отлучаете. Хоть бы тем, как великодушно позволяете мне предпочесть Пушкина… молодому нынешнему автору, словно они наравне представляют русскую поэзию или народную стилистику. Впрочем, Пушкин у вас – лишь гипнотизер той поэзии, которая не годится под вывеску «новая». Но, хороня «старое», учтем и такую возможность: что́ сегодня объявят новым «краеугольным камнем», назавтра – глядишь – и рассыпалось в пыль!.. Ну, а что степень народности, даже и в неподдельной поэзии, бывает разной – это такая же азбука, как то, что разной бывает степень таланта.
Л. А. Так я уже попал у вас в «отлучатели» Пушкина? Прикажете оправдываться?
Т. Г. Я вас не виню. Пушкин занимает столь большое место во всей нашей, как теперь говорят, среде обитания, что отношение к нему проявляется непроизвольно в реакциях на самые разные вещи. И часто, когда толкуют вроде бы и не о нем, чувствуешь: все это – спор о Пушкине!
Однако я дополнила бы вас: подвижность в важных общественно-литературных вопросах присуща скорей литераторам, а не тому, что́ Пушкин называл «мнением народным». Так, народное мнение о Пушкине не претерпевало существенных изменений. Никаких изменений не претерпело оно, замечу, и относительно Есенина, несмотря на обложну́ю шельмующую критику и длительное неиздание его книг. Не кто иной, как народ, свято хранил эту якобы «кулацкую» лирику, ни на миг не отступившись от своего сына – поэта. Прочность «мнения народного» относительно крупнейших явлений духа не свидетельствует ли о стойкости коренных представлений народа – и, значит, достаточной стойкости духовных признаков его?.. А вы подвижность «постоянно меняющегося мира», пусть и состояний народа, распространяете на саму сущность народа. И знаете, что примечательно? Что те черты, которые в моем обозначении делают человека «невольником чести» или духовным аристократом, вы истолковываете как мои признаки народа! Тут, на мой взгляд, истина прорвалась сама, как это с нею часто бывает!.. У недавно умершего поэта Игоря Киселева есть строки:
Мы забываем, повзрослев едва,
Что общим корнем связаны слова:
Народ, и благородство, и природа.
Это необходимо помнить! И вот я сомневаюсь в реальности «духовного единства всех. Всех!» Дай-то бог, конечно!.. Но «мистическое таинственное целое» – плод не всеобщей переписи. Речь, разумеется, не о волевом сортировочном отборе – о преобразовании «массы» или «толпы» в НАРОД. Не о воспрещении «входа» в состав НАРОДА, но, напротив, о помощи на этом пути. А тут нередко имеет место именно путь. И в частности, путь от «разных традиций» – к единой, хоть и внутренне многообразной. Нам не всегда видны логика, этапы этого пути. Но нет тут автоматизма, подчиняющего себе «всех». Народ как духовное единство – величина переменная. И в числовом выражении, и качественно. Но при всей «мистике» ясно: не равнополномочность огульных «всех», но РАВНООБЯЗАННОСТЬ – вот основа единства. А чтоб пояснить роль искусства в народоформировании, сошлюсь на живой в нашей памяти пример: одна песня – «Священная война» – больше помогла укреплению народного монолита, чем все потакательские суждения об абстрактном единстве разных…
Л. А. …и чем все юбилейные клятвы в верности Пушкину, что прозвучали за четыре года до «священной войны». Простите, я немного заражаюсь вашей интонацией…
Т. Г. Пушкинский юбилей 1937 года имел огромное культурное и государственное значение. И сыграл несомненную роль в упрочении народного монолита накануне Великой Отечественной войны. Да и песня, о которой мы говорим, с ее могучим императивом возникла отнюдь не вне Пушкина. Она возникла на почве великой русской патриотической лирики, как и на почве той русской музыки, какую оставил нам, например, современник Пушкина – Глинка.
Л. А. Вот я и думаю: как беда на пороге – зовем Пушкина. И еще вот что думаю: «аристократизм» или там… «антидемократизм» современной души – это вопрос ситуации. Это не «врожденные» качества, не черты сословий или слоев, это поворот индивидуальной судьбы. Поворот этот в жизни современного человека труднопредсказуем. Поэтому так трудно забить современного человека в типаж: всегда нужно ждать неожиданности. Деревенская женщина, работающая сторожем, может оказаться аристократом духа, а патентованный интеллектуал оборачивается хамом. Так что к вашему символическому Фениксу я бы добавил символического Хамелеона.
Т. Г. Это деревенская женщина-то Хамелеон?
Л. А. Нет, что вы. Это я – Хамелеон.
Т. Г. Но ведь Хамелеон-то как раз предсказуем. Если всё – вопрос ситуации, значит, прикинув разные ситуации, можно предсказать окраску Хамелеона… Феникс-то – вопреки ситуации! Вопреки огню и пеплу! То есть, собственно, над ними!.. Да и сто́ит ли в себе самом усматривать символ для всех??
Л. А. Почему «символ»? Я просто ситуацию ношу в себе. Я не могу от нее уйти: некуда. Хотя бы то же хамство, как я ощущаю, сейчас в людях не фиксированное и не принципиальное, а какое-то вынужденное, ползучее. И в себе это ловишь. И самому противно и тяжко в этой всеобщей стиснутости, в этой беспрестанной перетасовке ролей и лиц ежесекундно отбиваться и «отбрехиваться», а деться некуда. Вавилон… Невиданная ранее черта психологии – раскрепление черт и признаков. Ничто не закреплено: ни черты характеров, ни признаки вещей. Каждый готов стать всем и рискует остаться ничем. Отсюда нетерпение в людях, и азарт гонки, и страх обмана, и озлобленность от непрерывного напряжения, и невозможность понять – где что и кто есть кто, ибо все крутиться, меняется местами, ролями. В этом вращении всего и вся признаки драматически отлетают от вещей, слова – от явлений, традиционные ценности – от ценностей меняющихся. Поэзия не может этого не чувствовать. И это чувствует вся настоящая поэзия, а не только та, из которой М. Эпштейн хочет составить новое поколение.






