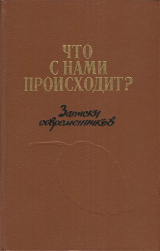
Текст книги "Что с нами происходит? Записки современников"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Валентин Распутин,Василий Белов,Василий Песков,Алесь Адамович,Алексей Лосев,Лев Аннинский,Павел Флоренский,Юрий Лощиц,Сергей Субботин,Татьяна Глушкова
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
В служении делу Станиславский не щадил себя. Многолетний изнурительный труд, нервное перенапряжение постепенно подточили и его организм. В 1929 году Л. Я. Гуревич писала: «Заботы, тревоги, неимоверный труд с слишком коротким для художника и неполным летним отдыхом подорвали за последние годы его физические силы, но не придавили его художественного гения и не убили в его сложной душе вечно молодого стремления вперед, к новым далям». Он щедро тратил свой талант, свой ум, свои нравственные и физические силы, но, быть может, больше всего свое сердце. Оно в конце концов и не выдержало. К концу 1920-х годов у него развилась тяжелая сердечная болезнь, которая, с течением времени, и стала причиной его смерти.
Станиславский, как и его отец С. В. Алексеев, известный своей благотворительной деятельностью, был отзывчив, добр, чуток к чужой беде и несчастью. Свои отношения с людьми он основывал на принципе, который явился краеугольным камнем его знаменитого труда «Этика»: «Думайте побольше о других и поменьше о себе. Заботьтесь об общем деле, тогда и вам будет хорошо».
Мнение о трудном характере Станиславского, о его «загадочности», его якобы одиночестве могло бытовать еще и в связи с такими чертами его личности, как требовательность и неотступность в достижении цели. Да, он был трудным человеком, трудным прежде всего для тех, кто искал легких путей на сцене или в жизни, для ленивых, капризных или чрезмерно честолюбивых и эгоцентричных людей. Часто трудным он был и для самого себя.
Известно, сколь тернистым и мучительным путем утверждалась его «система», его опыт, добытый многолетней лабораторной работой. По собственному его признанию, целые годы на всех репетициях, во всех комнатах, коридорах, гримуборных, при встречах на улице он проповедовал свое новое credo и… не имел никакого успеха. Но Станиславский не был бы Станиславским, если бы позволил себе отступить или сдаться. Он упрямо стоял на своем. Чутьем гения он почувствовал, к каким важным сценическим тайнам он прикоснулся. Он не отступил – прежде всего ради тех, кто тогда, на первых порах, отвернулся от него. Можно только догадываться, какую драму пережил художник, приближавшийся к полувековому своему юбилею, уверенный в своих открытиях и вместе с тем отвергнутый своими же коллегами, товарищами по сцене. Он потом откровенно (и как обычно – самокритично!) напишет об этой поре: «Упрямство все более и более делало меня непопулярным. Со мной работали неохотно, тянулись к другим. Между мной и труппой выросла стена. Целые годы я был в холодных отношениях с артистами, запирался в моей уборной, упрекал их в косности, рутине, неблагодарности, в неверности и измене и с еще большим ожесточением продолжал свои искания. Самолюбие, которое так легко овладевает актерами, пустило в мою душу тлетворный яд, от которого самые простые факты рисовались в моих глазах в утрированном, неправильном виде и еще более обостряли мое отношение к труппе. Артистам было трудно работать со мной, а мне – с ними».
«Per aspera ad astra» («Через тернии к звездам»), – говорили древние. Станиславский победил неверие, равнодушие и противодействие, которое встречал и которому смело шел навстречу всю жизнь. Сегодня его имя светит едва ли не самой яркой звездой на мировом театральном небосводе…
Он не только не избегал столкновений с противниками, споров, дискуссий, но, иногда казалось, словно бы сам искал их. Таков был его характер, его атакующая неотступность шла об руку со смелостью и мужеством. И конечно же он любил театральный эксперимент, постоянно искал новых подходов. Красноречиво одно из его обращений к художнику А. Н. Бенуа, которого привлек к затеянному им новому спектаклю: «Когда мы в театре идем слишком уж осторожно, бывает хорошо, но скучновато. Когда делаем смелые шаги и даже проваливаемся – всегда хорошо. Давайте – махнем!»
Станиславский был поразительно неугомонным человеком. Он и на старости лет считал, что только тот театр хорош, который спорит, бурлит, борется, побеждает или остается побежденным… В незаконченной статье к 40-летию МХАТ (всего за три месяца до кончины) маститый корифей, признанный апологет строгой научности, поднявший сцену на академическую высоту, с юношеской страстностью продолжал утверждать, что лучше всего, когда в искусстве живут полной жизнью, чего-то домогаются, что-то отстаивают, за что-то борются, спорят, побеждают или, напротив, остаются побежденными. Ведь только борьба создает победы и завоевания – кому как не ему знать этот суровый (горечь неизбежных поражений) и прекрасный (что еще сравнится с радостью достигнутого в борьбе успеха!) закон. И потому хуже всего, когда в искусстве все спокойно, все налажено, определено, узаконено, не требует споров, борьбы, напряжения, а следовательно, и побед. Искусство и артисты, которые не идут вперед, тем самым пятятся назад… В этих предсмертных раздумьях-напутствиях словно таилась подспудная тревога за судьбу нашего театра последующего этапа, где самыми пагубными для искусства стали чиновничья регламентация, бюрократическая опека и административный натиск, удушавшие творческую свободу и поиск.
И перед самой кончиной Станиславский работал, не думая о ней. Он верил, что смертью прерывается, но не завершается путь человека. В его книгах, поздних письмах, статьях встречаются изредка рассуждения о земных сроках, но нет слов о смерти – он просто не считал нужным сосредоточиваться на мыслях о ней… И не был он никогда ни скучным ментором, ни унылым пуристом, ни сухим догматиком, ни вздорным капризным деспотом. Таким его пытались представить враги, которых имелось с избытком при жизни, не убавилось после смерти, да и в наше время число недругов великого художника (нередко в масках друзей) не иссякает. Невероятная строгость и серьезность в нем сочетались с любовью к шутке, юмору, к радостям жизни (но обязательно надо уточнить – к чистым радостям). Ученый, теоретик, дознавшийся до самых глубин духовной сущности искусства, соединялся в нем с фантазером, выдумщиком, обожавшим «придумывать чертовщину», увлекавшимся фантастикой на сцене, мечтавшим на склоне лет о «потрясающей, оглоушивающей, осеняющей неожиданности» на сцене, об игре, которая «прекрасна своим смелым пренебрежением к обычной красоте… своей смелой нелогичностью, ритмична аритмичностью, психологична своим отрицанием обычной общепринятой психологии… сильна порывами… нарушает все обычные правила».
Он умел работать, умел и веселиться, и кутнуть иногда (все-таки из купцов ведь!), с азартом участвовал в театральных капустниках. В одном из писем к А. П. Чехову рассказывал, как после представления «Дяди Вани» все участники «кутили» в «Эрмитаже» и в кабаре у Ш. Омона: «У нас, в ложе, было очень весело, а на сцене скучно, так как было недостаточно неприлично…» Но это – по праздникам. В каждодневном быту, в рабочую страду он целиком сосредоточивался на деле, отдавался профессии, которую любил самозабвенно. И вот тогда становился аскетом. Чистота, целомудренность, скромность его были залогом уважения к своему труду. «Пища нам совершенно безразлична… Спиртных напитков не употребляем никаких и никогда», – писал о своей семье тридцативосьмилетний Станиславский (курсив Станиславского. – М. Л.).
В личной жизни, в бытовых отношениях проявлял благородную щепетильность, хранил чистоту. Чистота – во всех смыслах – для него была одной из главных нравственных ценностей. Женившись двадцати шести лет на Марии Петровне Перевощиковой (по сцене – Лилиной, будущей знаменитой артистке Художественного театра), имел счастливую семью, двоих детей. Дорожил своим семейным очагом, сердечные чувства и большая дружба связывали Константина Сергеевича с женой до самой кончины. Главный труд Станиславского «Работа актера над собой», опубликованный уже после смерти его создателя, предваряли строки: «Посвящаю свой труд моей лучшей ученице, любимой артистке и неизменно преданной помощнице во всех моих театральных исканиях Марии Петровне Лилиной».
К другим женщинам Станиславский относился настороженно и не без некоторого предубеждения. Однажды заметил, коснувшись «женской темы»: «В этом отношении я эгоист. Еще увлечешься, бросишь жену, детей». Он не был моралистом, но к распутству относился нетерпимо; адюльтер, пошлые романы всегда возмущали его. Как режиссер и педагог, он увлекался дарованиями некоторых актрис, но со временем как бы изверился в них, мог в сердцах воскликнуть: «Они все меня обманули… Женщина не может быть художником, она любит не искусство, а себя в искусстве. Она несерьезна».
Многоопытный, проницательный мыслитель, он знал, как опасен для актера и человека путь уступок соблазнам, которыми так богата дорога жизни. И как важно «очищение от искушений». Со свойственным ему исследовательским педантизмом Станиславский составлял перечни соблазнов и искушений, которые сбивают художника с пути, разрушают его личность. Вот некоторые пункты из его «кодекса предостережений»: «Слава и популярность принимаются за талант. Как следствие: подражание не таланту (которому нельзя подражать), а другим сторонам, то есть самоуверенности, апломбу, презрению к другим, позе знаменитости, нередко раздутой… Увлечение ложно понятой свободой… Ложное направление творчества в сторону успеха, а не в интересах чистого искусства… Увлечение популярностью… погоня за нею, карточки, реклама, рецензия… необходимость лести, общения и успеха, нетерпимость к чужому мнению и критике… Распущенность, карты, пьянство, женщины, нажива (оценка себя на деньги из тщеславия)… измена всем этическим правилам, которые якобы сковывают свободу творчества, а в действительности мешают самопоклонению и заставляют работать… Разочарование в публике и отъезд за границу, мечты о всемирной славе или необычном успехе преступными для искусства средствами».
Нравственная сторона вопроса была для Станиславского на первом плане и в его собственном отношении к деньгам. Напомним, что с возникновением МХТ Станиславский, так же как и его жена Лилина, отказался от жалованья – они трудились на сцене безвозмездно. Унаследовав богатое состояние, он значительную часть его истратил на создание и финансирование своего главного детища – Художественного театра. Вплоть до Октябрьской революции он оставался владельцем и руководителем фамильной фабрики, не уклоняясь от своих коммерческо-административных обязанностей. В строго сословном, так сказать, в классовом смысле слова он являлся капиталистом, барином. Но сколь узка классовая оценка, взятая изолированно от других, как мы знаем, доказывает не только судьба и общественная роль К. С. Станиславского. Этот «барин» подспудно ощущал свои корни и, как истинный патриот, проверял, корректировал линию собственной жизни общенародной точкой зрения. Когда Станиславский ставил толстовские «Плоды просвещения», он, как режиссер, стремился, чтобы исполнитель каждой роли «стал на сторону мужика и оттуда посмотрел на барина», чтобы актеры не комиковали, а передали тоску мужиков по земле… Задумывая вместе с Вл. И. Немировичем-Данченко Московский Художественный театр, он хотел создать именно «народный театр» (по тактическим соображениям при его открытии театр был назван «общедоступным», так как репертуар «народных» театров тогда имел дополнительные цензурные ограничения)…
Когда в правлении на его фабрике возник конфликт, Станиславский не колеблясь отклонил сомнительного свойства компромисс: «Я отказался и от невероятных доходов и от жалованья. Это, правда, бьет по карману, но не марает душу». И можно ли усомниться, что таков был обычный выбор капиталиста К. С. Алексеева, на сцене – Станиславского? Когда после революции национализировали его предприятие, он с легкостью отрешился и от своего капитала, и от фабричных забот. Душе меньше суетных, житейских, «пятнающих» ее хлопот…
Его глубоко волновала проблема преемственности поколений. Он всегда с душевной заботой тревожился о судьбах, положении, здоровье знаменитых мхатовских «стариков», с которыми начинал. Но едва ли не с большей страстностью, с какой-то азартной увлеченностью интересовался молодежью, тянулся к ней, стремясь научить, передать накопленное, уберечь от ложных путей и ошибок.
Педагогические заветы Станиславского обращены к людям, вступавшим на театральную дорогу. Но, думается, мудрость и глубина их столь велики, что имеют они значение универсальное. Разве не для всех профессий важно как можно ранее, «вовремя познать свое призвание»?.. Познать и, что самое трудное, взрастить, умело применить свои способности. Конечно, здесь значительна роль воспитателей, наставников, учителей. Все так, но нельзя утверждать, чтобы она – эта роль – была бы сама по себе достаточной или незаменимой (вспомним – сам Станиславский не имел прямых учителей в сценическом деле). И почти все педагогические заметки корифея пронизаны страстным пафосом личной, индивидуальной работы над собой.
Самоизучение, самокритика, самовоспитание, самообразование – вот девиз его школы! Все это проверено и на самом себе. Вот почему так необходимы молодому человеку кроме таланта еще и развитой ум, и знания, и в особенности – сила воли. Вступающему на поприще – только ли артистическое? – если он хочет достичь высоких результатов, предстоит огромная, сложная внутренняя работа, своего рода духовный подвиг. И ее не заменят никакие лекции или учебники. Только постоянный, методичный, упорный, с жертвами и мучениями, не знающий уступок легкомысленным удовольствиям личный Труд… Только сосредоточенное усилие, только твердая, мужская, без пощады к себе воля, строгая самодисциплина могут обеспечить полный расцвет от природы данного таланта и дать человеку ни с чем не сравнимую радость подлинного творчества, открывающего людям свет и правду окружающего мира. К этому художник звал молодых и примером собственной жизни!
Поняв общественное положение своей будущей профессии и оценив пригодность своих данных, начинающий артист должен «энергично приступить к самообразованию и самоусовершенствованию» – так писал Станиславский в заметках о том, что надо знать молодым артистам. Но что же будет источником сил в предстоящей суровой, напряженной борьбе начинающего свой духовный подъем новичка? Где черпать энергию? Каковы главные стимулы, которые бы помогали одолевать неизбежные усталость, неудачи, разочарования?..
Ответ Станиславского отчетлив и неоспоримо убедителен, – кроме тщательно проверенных способностей, кроме дарования, не менее важна «беспредельная любовь, не требующая никаких наград, а лишь пребывания в артистической атмосфере», самоотреченное отношение к профессии, к искусству. «Избави бог идти на сцену без этих условий», – прибавлял артист.
Пример страстного отношения к избранному поприщу являл сам Станиславский. Его пылкие признания в любви к сцене можно сравнить с неистовыми восторгами В. Г. Белинского, видевшего в театре храм искусства, в котором открывается весь мир, вся вселенная со всем их разнообразием и великолепием.
Душа Станиславского изведала все муки и наслаждения жреца Мельпомены: «Театр! Для артиста это совсем иное, важное слово. Театр – это большая семья, с которой живешь душа в душу или ссоришься на жизнь и на смерть. Театр – это любимая женщина, то капризная, злая, уродливая и эгоистичная, то обаятельная, ласковая, щедрая и красивая. Театр – это любимый ребенок, бессознательно жестокий и наивно прелестный. Он капризно требует всего, и нет сил отказать ему ни в чем. Театр – это вторая родина, которая кормит и высасывает силы. Театр – это источник душевных мук и неведомых радостей. Театр – это воздух и вино, которыми надо почаще дышать и опьяняться. Тот, кто почувствует этот восторженный пафос, – не избежит театра, кто отнесется к нему равнодушно, – пусть остережется красивого и жестокого искусства…»
Взгляды Станиславского-педагога отразились и в его письмах к собственным детям. Он всячески стремился побуждать сына и дочь к нравственным усилиям над собой, – ведь помимо учебы и знаний «надо еще быть хорошо воспитанным человеком». Что это означало для Константина Сергеевича? В письме с гастролей к семилетнему сыну Игорю он разъяснял: «Хорошо воспитанный – это тот, кто умеет жить с другими людьми, умеет с ними хорошо ладить, кто умеет быть внимательным, ласковым, добрым, кто умеет заставить уважать и любить себя, у кого простые и хорошие манеры. Кто не позволяет обидеть себя и других, но и сам никого не обидит без причины…»
За свою жизнь Станиславскому пришлось пережить немало разочарований, горьких, драматических событий, нравственных потрясений, острейших столкновений и ударов судьбы. Сомнения, тоска и даже отчаяние, как мы уже говорили, не раз посещали его. Зенит его деятельности пришелся на эпоху гигантских общественных катаклизмов, непримиримой борьбы полярных духовных и социальных сил. Заново проходили жестокую проверку ценности добра, правды, свободы, красоты.
Но каковы бы ни были трудности и страдания, бездны и вершины внутреннего и внешнего пути художника, сколь бы нестерпимой ни была боль его сердца, они не надломили его, не затемнили его души. Станиславский всегда оставался на редкость просветленным человеком, столь же светоносным был и его гений. Он принимал мир и человека, верил в них, стремился во всем отыскивать свет и утверждающие, жизнестроительные начала – такова доминанта его мироотношения. Вот чем он притягивал и увлекал людей. Он пронзительно чувствовал изначальную, неистребимую светоносность природы, ее богатство и силу и неукоснительно призывал следовать ей. Этому он учил других, в том числе и своих детей.
В одном из писем жене Станиславский радовался тому, что сын-подросток, за развитием которого он внимательно следил, «заинтересовался тем, что красиво и интересно, а не ударился в критику, пусть приучается искать в жизни хорошее, а не скверное, пусть приучается хвалить, а не ругать». Несколькими годами позднее Константин Сергеевич, встревоженный декадентскими настроениями сына, внушал ему, что недопустимо «розовые годы» тратить на «мрачные стороны жизни», и призывал: «Гони же мрак и ищи света. Он разлит всюду. Научайся же находить его». Не менее существенным отец считал и то, какими будут взгляды сына на такую сложную, обоюдоострую, всегда желанную и необходимую, но и чреватую опаснейшими соблазнами категорию, как свобода. Ему хотелось воспитать сына человеком, который воспринял бы свободу и самостоятельность «не с внешней – глупой и эгоистичной стороны (что так часто бывает в молодых годах), а с другой – важной, внутренней, альтруистической стороны». Станиславский неколебимо убежден: «Чтобы быть свободным, надо заботиться о свободе другого».
Свои личные идеалы художник не отделял от своего искусства. Он строил театр, в котором раскрывалась в высокохудожественной форме большая жизнь человеческого духа, а актер выступал в роли не лицедея, развлекающего публику, а проповедника добра и красоты. Традиционные для русского искусства человеколюбие и правдоискательство нашли ярчайшее воплощение в творчестве Станиславского, в его ролях, постановках, теоретических и литературных трудах. Его привлекали жизнетворческие, созидательные возможности сцены, которая должна стать кафедрой народного воспитания и просвещения, рупором правды и больших идей, школой нравственности. В этом смысле он подхватывал и развивал национальную традицию, отраженную во взглядах на театр Н. В. Гоголя, М. С. Щепкина, А. Н. Островского, А. И. Герцена, Л. Н. Толстого.
Станиславский глубоко сознавал, что своеобразие русского театра формировалось в единстве с общекультурной традицией: на подмостках отечественной сцены торжествовало искусство, которое пренебрегало фантасмагорией маскарадности, узорчатостью, изысканностью игры, звонами шутовских бубенцов, пряностями и чарами театральности. Цель, смысл и поэзия творчества виделись в ином. Канон древних определял прекрасное как блеск истины. Русская традиция, чуткая к задушевности, сердечности, утверждала красоту, которая, как заметил Пушкин, должна быть еще и блеском добра, добром в действии.
На этом направлении Станиславский и стремился обновить русскую сцену, осуществить на подмостках Художественного театра реформу общемирового значения, которая означала еще один мощный прорыв в пространстве сценического реализма, в глубины художественной правды и «жизни человеческого духа».
Театр был для Станиславского великой школой нравственных чувств. Он знал цену гражданского и нравственного со-чувствия, со-переживания. Развивая отечественную традицию, он прямо назвал ее «искусством переживания». Утверждая, что ценность художественного произведения определяется его духовным содержанием, великий реформатор полагал, что полноценно выявить, воплотить его способно только творчество, опирающееся на принцип естественного переживания, на живую природу человека. Не только раскрыть внутренний мир героя, но и увлечь им. Из пушкинского стихотворения «Пророк», над которым Станиславский много размышлял, ему, вероятно, была особенно близка строка – «глаголом жги сердца людей» (разрядка моя. – М. Л.). Язык сценической эстетики художника – язык сердца. Отстаивая реализм, правду чувств, живого человека как основу национального русского искусства, Станиславский стремился вернуть театру живую психологию и простую речь, искал театральность драматических произведений не в искусственных преувеличениях формы, а в скрытом, внутреннем, психологическом движении. Именно так он ставил А. П. Чехова, М. Горького, Л. Н. Толстого и других авторов.
Станиславский не раз повторял, что он ничего не смыслит в политике. В действительности точнее будет сказать, что он ничего не понимал в политиканстве и демагогии, которые страстно ненавидел и презирал. Но вся его деятельность, порой камерные, интимные как будто спектакли были пронизаны мощными социальными токами, в них явственно слышались пульс большой жизни страны, «драма современной русской жизни». Раскрывая замысел спектакля «Дядя Ваня», в бытовом, житейском, будничном течении его жизни, Станиславский увидел больные вопросы «неустроенной России». Постановщика чеховской пьесы волновало желание «призвать к кормилу власти настоящих работников и тружеников, прозябающих в глуби, и посадить их на высокие посты вместо бездарных, хотя и знаменитых Серебряковых».
«Расширять сценическую картину до картины эпохи» – таков один из главных канонов Станиславского в подходе к театральному воплощению жизни. Призывая художников театра к реализму и широким обобщениям, он сам стремился к этому, начиная с первого спектакля МХТ «Царь Федор Иоаннович». Посмотрев «сцену на Яузе» в «Царе Федоре…», когда народ бросался отбивать ведомых в тюрьму Ивана Петровича Шуйского и его соратников и вспыхивал бунт, известный историк В. О. Ключевский заметил: «До сих пор я знал по летописям, как оканчивается русский бунт, теперь я знаю, как он начинается…»
Да, он много сил отдал «почве искусства». Но посев и жатва виделись ему за его пределами. Станиславский усматривал сверхзадачу эстетического творчества в содействии духовному обновлению мира, в борьбе за «очищение души человечества», в воспитании у людей стремления «жить лучшими чувствами и помыслами души».
В эпоху, когда, как писал Станиславский, «кинематограф и зрелищный, забавляющий, постановочный спектакль забивают театр и его подлинное искусство» (в наши дни этот натиск обрел удесятеренную силу), режиссер ратовал за «другой», идейный театр, который нужен человечеству для самых высоких целей, – создавать подлинную жизнь человеческого духа на сцене, «согреть душу простого зрителя», но одновременно показывать и «душу целого народа».
Станиславского особенно тревожила проблема национальной самобытности русского театра, ее сохранения и упрочения. В начале 1920-х годов, в связи с агрессией авангардистских, космополитических тенденций в художественной жизни, он волновался по поводу тяжелого положения русского национального театра, в сферу которого он включал театры: провинциальный (он «разрушен»), Александринский в Петрограде, московские Малый и театр Корша и наиболее сохранивший устои – МХАТ. Многие мысли Станиславского и сегодня звучат остросовременно. Оценивая театральную Москву первых послереволюционных лет с ее «огромным количеством театров и направлений», он замечал: «Пусть все из них интересны, нужны. Но далеко не все из них органичны и соответствуют природе русской творческой души артиста. Многие из новых театров Москвы относятся не к русской природе и никогда не свяжутся с нею, а останутся лишь наростом на теле». Критикуя псевдоноваторство, компилятивность, бездушность и бездуховность «левых» сценических течений, основанных, как правило, на «теориях иностранного происхождения», Станиславский всматривался в корни опасной болезни. «Большинство театров и их деятелей не русские люди, не имеющие в своей душе зерен русской творческой культуры», – писал он.
И позднее, волнуясь по поводу того, что силы, чужеродные Художественному театру, действуют внутри его (в частности, группа, возглавлявшаяся режиссером И. Я. Судаковым), он настаивал на том, чтобы «отделить уже назревшую труппу судаковцев», и сетовал по поводу того, что «начальство» на это не соглашалось. Он был убежден (1934): «В течение почти десяти лет судаковская группа не может слиться и никогда не сольется с МХТ… Это кончится плохо, сколько бы ни представлялся Судаков моим ярым последователем. У всех этих лиц другая природа. Они никогда не поймут нас».
К слову, на нынешнем этапе развития Художественного театра сложилась в какой-то мере сходная ситуация. Его руководитель О. Ефремов на словах многократно клялся в верности лучшим традициям театра, а на практике шел «судаковским» путем. Выразителен и осуществленный ефремовской группировкой репертуарный пируэт МХАТа – от Чехова и Горького к Шатрову и Гельману, драматургия которых и стала знаменем этой группы. У всех нас на глазах нарастали негативные тенденции в искусстве МХАТа – чего стоят, к примеру, откровенная вульгарность в спектаклях «Тамада», «Чокнутая» («Зинуля») или гиперболически развернутые пакости в «Господах Головлевых»… Именно в этих явлениях надо искать корни того «великого раскола», который привел к разделению МХАТа на два самостоятельных коллектива.
Неубедительны указания О. Ефремова на то, что причины раскола якобы в «непомерно разросшейся труппе МХАТа», которая «стала неуправляемой и художественно несостоятельной». А его мысль, будто бы «кризис МХАТ… выявил сопротивление перестройке, косность, использование демократии не в демократических целях», лишь камуфлировала главное – попытку отсечь и изгнать из театра чуждую Ефремову часть, которая неожиданно оказала сопротивление и сплотилась в самостоятельный театральный организм…
Кратко замечу: с труппой, возглавляемой Т. Дорониной, я связываю надежды на возрождение истинного Художественного театра, на обновление и подъем традиций, жизнь и основу которым дали Станиславский и Немирович-Данченко. Наш долг – помогать этому коллективу, не дать оттеснить или уничтожить его. Первая постановка доронинской труппы «На дне» М. Горького – спектакль серьезный, умный. Он вселяет веру в то, что на мхатовских подмостках может вновь возродиться и зазвучать камертон высокого искусства, одухотворенного идеалами отечественной культуры.
Особенно интересно, крупно показан в спектакле Сатин (артист В. Гатаев). «Человек выше сытости» – в том, как Сатин – Гатаев произносит это, весь опыт XX века, вся его боль и скорбь. Впервые прозвучав на мхатовской сцене в начале нашего столетия, эта реплика сегодня, на склоне века, звучит стократ трагичнее. Обнаружилась нараставшая трудность убедить в этом людей – рвущихся к «сытости» с еще большим, может быть, небывалым остервенением. Горьковский текст, идеи пьесы, ее характеры осмыслены на уровне социально-философском. Это не формальная реставрация постановки МХТ 1902 года, а пример творческого развития традиции – режиссер возобновления Т. Доронина верна общему духу истолкования пьесы, верна Станиславскому в самом существенном: «Расширять сценическую картину до картины эпохи».
…Особая тема – издание произведений Станиславского. На мой взгляд, этому делу по-прежнему не уделяется должного внимания, многие годы не движется с места вопрос о новом, расширенном издании собрания сочинений Станиславского (первое завершилось в 1961 году). Назрела острая потребность в библиографическом пособии. В 1946 году вышел из печати обстоятельный библиографический указатель А. Аганбекяна «К. С. Станиславский». Но тираж его – всего тысяча экземпляров, и прошло с той поры уже более сорока лет. Хорошо, что у издательства ВТО нашлись силы для библиографического указателя по В. Э. Мейерхольду (1974). Крайне необходимо продолжить работу А. Аганбекяна – издать новый указатель литературы о К. С. Станиславском.
Неутомимым пропагандистом творчества Станиславского был В. Н. Прокофьев, увы, ныне покойный. Последний его труд – подготовленный к печати двухтомник «Из записных книжек Станиславского» – вышел из печати в 1986 году, уже после смерти его составителя и редактора. Более тридцати лет Прокофьев возглавлял научно-исследовательскую комиссию по изучению наследия Станиславского и Немировича-Данченко при МХАТе. Под его руководством и при его участии публиковались хорошо известные теперь труды основателей Художественного театра. Сегодня на наших полках стоят восемь томов сочинений Станиславского, несколько томов – Немировича-Данченко и десятки других книг, подготовленных усилиями комиссии. Целая театральная Библиотека!
Но можно ли забывать, что очень многие издания приходилось буквально пробивать, в муках преодолевая ожесточенное сопротивление противников.
Со смертью Прокофьева прервалась традиция углубленного, заинтересованного изучения наследства Станиславского. К сожалению, у исследователя не оказалось учеников, почти не нашлось и достойных преемников. Бесцветно, во многом формально был отмечен недавний юбилей – 125-летие со дня рождения артиста. Наследие Станиславского продолжает недооцениваться, его с течением времени все чаще пытаются третировать. Мне запомнилось, как в годы моей учебы в Ленинградском театральном институте один из преподавателей внушал студентам, будто система Станиславского – это система «превращения пня в актера». Увы, этот, с позволения сказать, «учитель», получивший теперь профессорское звание и кафедру, по сей день продолжает читать лекции в институте, воспитывает последователей. Усилиями подобных «профессоров» формируется групповой нигилизм, претендующий на роль общественного мнения. Характерен пример: на юбилейном заседании, посвященном Станиславскому (в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии – ЛГИТМИК), критик А. Смелянский признался, что в настоящий момент «нет в Москве человека, который бы хотел и мог написать статью о системе Станиславского» (10 февраля 1988 г.). На этот весьма прискорбный факт аудитория ответила веселым смехом. В зале находились «весельчаки» – ученые научно-исследовательского отдела ЛГИТМИКа…






