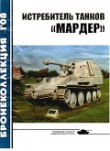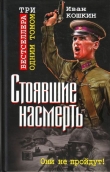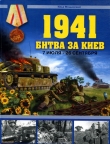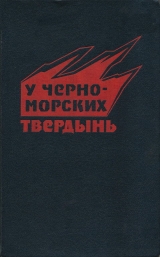
Текст книги "У черноморских твердынь"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
11 ноября почувствовался сильный нажим противника вдоль Ялтинского шоссе: двигавшаяся вслед за нашими войсками 72–я немецкая дивизия предприняла наступление с ходу. Это была более серьезная, чем прежние (хотя и начатая ограниченными силами), попытка 11–й немецкой армии прорваться к Севастополю.
Мы смогли встретить это наступление уже хорошо организованным огнем артиллерии, и к 13 ноября противник имел лишь весьма незначительный успех. Для нас же определилось направление его наиболее активных действий. Теперь нужно было, как говорил Иван Ефимович Петров, держать ухо востро, чтобы не проворонить прорыва обороны на том или ином участке.
14 ноября немецкие части, наступавшие со стороны Ялтинского шоссе, были отброшены на исходные позиции контратакой 514–го стрелкового и 2–го морского полков. Но враг зашевелился на мекензийском направлении и в долине Кара–Кобя, откуда в случае прорыва открывался кратчайший путь к Северной бухте. В эти дни атаки противника особенно успешно отражались в третьем секторе обороны, который возглавлял командир Чапаевской дивизии генерал–майор Т. К. Коломиец. В штабе армии крепла уверенность, что уж здесь‑то враг не пройдет.
Между тем у Ялтинского шоссе, на участке Балаклава, Камары, группам немецких автоматчиков удалось довольно глубоко проникнуть в расположение наших войск. Дело дошло до того, что 15 ноября, когда 51–й артполк вел огонь, автоматчики появились прямо у позиций его батарей. Правда, артиллеристы не дали захватить себя врасплох. Где огнем в упор, а где контратакой орудийных расчетов они отбили внезапное нападение. Гитлеровцы, оставшиеся в живых, сдались в плен.
Утром на следующий день я поехал в 51–й артполк. Его командир А. А. Бабушкин рассказал подробности вчерашних событий, и я почувствовал, что его смелость и решительность, давно мне известные, сыграли не последнюю роль в срыве дерзкой попытки противника вывести из строя наши батареи.
Успела уже проявиться на только что занятых позициях и другая характерная черта полковника Бабушкина – умение в любых условиях позаботиться о быте бойцов. Давно ли артиллеристы обосновались под Балаклавой, а в их землянках уже тепло и уютно. Все тут устроено и оборудовано так ладно, что это фронтовое жилье немногим уступит иным казармам мирного времени.
Наш разговор с командиром на наблюдательном пункте полка прервала начатая противником артиллерийская подготовка. Как только немцы поднялись из окопов и пошли в атаку, они были встречены огнем 5! – го артполка и трех береговых батарей. С НП полковника Бабушкина было хорошо видно, как гитлеровцы, попав под обстрел, начали искать укрытий, расползлись по складкам местности.
А из неприятельских тылов тем временем выдвигались к переднему краю другие подразделения, которым предстояло включиться в атаку. Но это было заметно не столько из нашего, сколько из соседнего, второго, сектора. И там тоже заговорили орудия. Как потом выяснилось, комендант второго сектора И. А. Ласкин и его начарт И. М. Рупасов решили помочь первому сектору огнем 52–го и 134–го гаубичного артполков. Попытка противника наступать на Балаклаву была сорвана в зародыше.
В то утро, немцы вновь пытались наступать и в долине Кара–Кобя. В этом случае потребовалось поддержать войска второго сектора артиллерией первого. Вызов огня через КП армии занял не более трех минут. Огневое взаимодействие соседних секторов явилось практической проверкой готовности артиллерии применять свое оружие в специфических условиях, складывавшихся под Севастополем.
Приехав во второй сектор, я наблюдал, как дивизионная и армейская артиллерия, маневрируя огнем по фронту и в глубину, подавляла наступавшего противника короткими налетами. Как и в первом секторе, артиллеристы действовали очень уверенно. Такое же впечатление вынес и командарм И. Е. Петров, успевший побывать в 52–м артполку еще до меня.
16 ноября наиболее напряженные бои развернулись опять вдоль Ялтинского шоссе, где противник ввел в дело свежие части своей 72–й дивизии. Чтобы предотвратить прорыв нашей обороны, потребовалось выдвинуть сюда армейские резервы, в частности 161–й стрелковый полк 95–й дивизии. Когда вечером подводились итоги боевого дня, командарм отметил действия 172–й дивизии и ее командира И. А. Ласкина при отражении вражеских атак в долине Кара–Кобя. А общий вывод напрашивался такой: и после занятия нашей армией обороны на севастопольских рубежах противник не расстался с надеждой внезапно прорваться к городу. Генерал Петров потребовал очень серьезно готовиться к отражению новых атак.
Они не заставили себя ждать. 17 ноября гитлеровцы попытались танковой атакой прорвать фронт у селения Камары. Но на этом участке был заранее тщательно спланирован огонь артиллерии двух секторов, включая и береговые батареи крупного калибра. Ударная группа противника, насчитывавшая до 40 танков, была разгромлена, и лишь отдельным машинам удалось уйти с поля боя. Срыв этой танковой атаки особенно убедительно показал, что войска Севастопольского оборонительного района твердо стоят на своих рубежах.
Понял это в конце концов и противник. 21 ноября он еще раз попробовал продвинуться вдоль Ялтинского шоссе, но эта атака, также успешно отбитая войсками второго сектора при поддержке артиллерии, стала в ноябре последней.
Планы гитлеровского командования, предусматривавшие быстрый захват Севастополя, были сорваны. В ходе первого наступления врагу удалось овладеть лишь Балаклавскими высотами и незначительно потеснить наши войска в долине Кара–Кобя.
В ноябре артиллеристы СОР 130 раз подавляли батареи противника, уничтожили около 50 орудий и минометов, подбили свыше 70 танков и бронемашин. Сила нашей артиллерии, ее активные действия помогли обеспечить общую стойкость войск, защищавших Севастополь.
«Исход решила артиллерия»Почти на четыре недели на подступах к городу наступило относительное затишье. И противник, и мы производили перегруппировку войск. Усиленно велась разведка.
Приморцы занялись инженерным оборудованием своих позиций. Береговая оборона усилилась восемнадцатью орудиями, которые по инициативе генерала П. А. Моргунова были сняты с поврежденных кораблей. Мы совершенствовали взаимодействие артиллерии с пехотой, связывали группы усиления непосредственно с войсками. Это позволяло командирам частей в случае нарушения системы централизованного управления самим вызывать огонь (в том числе и огонь береговых батарей). В первой половине декабря Приморская армия пополнилась еще одной дивизией – 388–й стрелковой, которая, впрочем, оказалась недостаточно подготовленной к боевым действиям.
Все чаще поступали сведения о том, что к фронту подходят или выдвигаются на передний край новые неприятельские части. Под Севастополем появились 24–я и 170–я немецкие дивизии, румынские горнострелковые бригады, несколько батарей сверхтяжелой артиллерии калибра 350 и 610 миллиметров.
Однако мы затруднялись определить, где именно противник нанесет теперь главный удар. Тем не менее, очевидно, следовало принять меры к усилению обороны в третьем секторе, и особенно на правом фланге четвертого, то есть в долине Бельбека, а также между Бель–беком и Качей. Это следовало сделать уже потому, что 8–я бригада морской пехоты почти не имела боевого опыта и оставалась без своей артиллерии, а в 95–й дивизии недоставало одного стрелкового полка (он находился во втором секторе). Командование армии допустило определенный просчет, не использовав всех возможностей для усиления войск на этих направлениях.
Второе наступление на Севастополь началось 17 декабря. Главный удар наносился в долине Бельбека и по высотам южнее и севернее ее в общем направлении к Северной бухте. Внезапная для нас сильная артподготовка, обрушившаяся прежде всего на позиции 241–го стрелкового полка 95–й дивизии и 8–й морской бригады, нарушила там проводную связь. Эти же части вместе со своими соседями по третьему и четвертому секторам первыми приняли на себя натиск 22–й и 132–й немецких дивизий.
На второй день штурма противнику удалось потеснить 287–й полк Чапаевской дивизии и правый фланг 8–й бригады. 241–й полк 95–й дивизии, не оставив своих позиций, вел бой в окружении.
Этот полк был известен стойкостью еще в дни обороны Одессы, когда им командовал П. Г. Новиков, ставший затем командиром 109–й дивизии. Славная традиция продолжалась и при молодом командире – капитане Н. А. Дьякончуке. Достойным пополнением полка явился вошедший в него 18–й батальон морской пехоты – тот самый, в рядах которого сражались политрук Н. Д. Фильченков и четверо краснофлотцев, остановившие в ноябре немецкие танки ценою своей жизни. 19 декабря враг трижды пытался прорвать фронт в Бельбекской долине, но железная стойкость 241–го полка, поддерживаемого артиллерией, срывала эти попытки.
Артиллерия массированным огнем помогала отражать непрерывные атаки. Пехоту поддерживали здесь и береговые батареи, находившиеся в Северной бухте корабли. Что касается артиллеристов–приморцев, то их позиции неоднократно оказывались прямо на переднем крае.
Второй дивизион 397–го артполка, прикрывая отход наших подразделений, сам остался без всякого прикрытия и несколько часов самостоятельно отбивал вражеские атаки, пока не получил приказания отходить на новый рубеж. Одна из батарей этого дивизиона еще в первый день наступления, 17 декабря, остановила огнем прямой наводкой немецкий батальон. А когда позиция батареи оказалась под пулеметным обстрелом, командир дивизиона старший лейтенант И. Я. Крыжко своими силами (нашей пехоты поблизости не было) предпринял контратаку. Смелые действия артиллеристов вынудили противника отойти.
В ходе боев командование армии начало усиливать войска на северном направлении за счет резервов. Туда были направлены малочисленная 40–я кавдивизия (в пешем строю) и 388–я стрелковая дивизия, прибывшая недавно с Кавказа. Однако эти меры запоздали.
Пытаясь прорвать нашу оборону также и на отдельных участках других направлений (например, во втором секторе – в районе Итальянского кладбища), враг продолжал наносить главный удар на стыке третьего и четвертого секторов. Очень тяжелыми днями были 21 и 22 декабря. Немцы прорвали оборону 778–го полка 388–й дивизии, отбросив его к станции Мекензиевы Горы. Создалась реальная опасность выхода гитлеровцев к Северной бухте.
21 декабря в севастопольские бухты, обстреливаемые противником, вошел отряд боевых кораблей, прибывших с Кавказа под флагом вице–адмирала Ф. С. Октябрьского (он некоторое время находился там в связи с подготовкой Керченско–Феодосийской операции). Корабли высадили в Сухарной балке 79–ю особую стрелковую бригаду под командованием А. С. Потапова. Командарм И. Е. Петров, встретивший ее на причале, тут же поставил бригаде боевую задачу – нанести контрудар вдоль шоссейной дороги на Бельбек. Прямо с причалов бригада пошла к переднему краю и 22 декабря вступила в бой.
Контратака была поддержана мощными огневыми налетами полевой, береговой и корабельной артиллерии. В них участвовала вся артиллерия четвертого сектора и большая часть третьего. Из бухт вели огонь крейсер «Красный Крым», лидеры «Ташкент» и «Харьков», несколько эсминцев. (Потом войска на северном направлении поддерживал и самый мощный артиллерийский корабль Черноморского флота—линкор «Парижская коммуна».)
79–я бригада отбросила противника к Бельбекской долине. Как же велика была наша радость, когда стало известно, что с Большой земли следует на кораблях еще 345–я стрелковая дивизия. Она высадилась в Севастополе 23–24 декабря и была сосредоточена на Мекензиевых горах. Сразу же после этого командарм И. Е. Петров приказал командиру дивизии подполковнику Н. О. Гузю контратаковать фашистские войска.
Наши силы на северном, наиболее опасном, направлении значительно увеличились. Натиск врага не ослабевал, но бои стали идти уже с переменным успехом.
Вновь и вновь гитлеровцы подступали к некоторым нашим батареям. Оставаясь на своих позициях, прямой наводкой били по наседавшему врагу расчеты 69–го артполка майора Курганова, 57–го артполка подполковника Филипповича, артиллеристы–богдановцы.
Батареи богдановского полка оказались непосредственно на направлении, намеченном противником для прорыва к Северной бухте. Вынужденные отойти, наши пехотинцы были буквально прижаты к позициям артиллеристов. Но дальше отходить было некуда. И 107–миллиметровые пушечные батареи огнем прямой наводкой остановили фашистов.
Нельзя не сказать и об артиллеристах только что прибывшей 345–й дивизии, особенно о ее 905–м артполке, батареи которого отражали атаки вражеской пехоты и танков, стреляя по ним почти в упор. Начарт 345–й подполковник Владимир Илларионович Мукинин (его я знал еще по 157–й дивизии, переброшенной в сентябре к нам в Одессу) сумел в кратчайший срок хорошо организовать огневую поддержку пехоты, и это во многом определило устойчивость ее боевых порядков.
Дни стояли хмурые, пасмурные, и это было нам на руку. Низкие облака и туман прикрывали войска от немецкой воздушной разведки. Действия авиации вообще были весьма ограниченными. Поэтому мы смогли использовать против наземного противника также и зенитную артиллерию. Она весьма успешно вела огонь прямой наводкой по фашистской пехоте, а иногда и по танкам. Некоторые зенитные подразделения и части ставили вместе с остальной артиллерией заградительный огонь, подключались к группам батарей, подавлявших различные цели.
Доблестно сражался личный состав 365–й отдельной зенитной батареи старшего лейтенанта Н. А. Воробьева (ставшего вскоре Героем Советского Союза). Гитлеровцам удалось с трех сторон обойти батарею и приблизиться к ее орудиям на 300 метров. Удержав свою позицию, зенитчики подбили на подступах к ней 7 танков, истребили свыше 200 гитлеровцев.
Стойкость зенитчиков помогла удержаться на своих рубежах и их соседям. Взбешенный этим, командующий 11–й немецкой армией Манштейн отдал по радио специальное приказание: «Ударом с воздуха и с земли уничтожить батарею противника на отметке 60». Перехваченную и расшифрованную радиограмму доложили мне армейские разведчики. Я предупредил старшего лейтенанта Воробьева о готовящемся ударе, а начальнику артиллерии четвертого сектора приказал быть готовым парировать этот удар. Полковник Д. И. Пискунов прекрасно справился с задачей и не дал врагу уничтожить героическую батарею.
Отличился в эти дни и личный состав 30–й береговой батареи капитана Александера.
После небольшой паузы наступление противника возобновилось 28 декабря с новой силой. Несколько раз переходила из рук в руки станция Мекензиевы Горы. Враг завладевал ею и прилегающим районом ненадолго, но в это время глубина нашей обороны уменьшалась настолько, что казалось, достаточно немцам продвинуться еще немного – и у нас исчезнет всякая возможность перегруппировать на этом участке свои силы.
В ночь на 29 декабря генерал И. Е. Петров собрал командиров и комиссаров соединений и частей в «домике Потапова» – на КП 79–й бригады, находившемся в километре южнее кордона Мекензи, у шоссе. Это совещание навсегда запомнилось тем, кто в нем участвовал. С тех пор как наша армия почти два месяца назад прорвалась через горы к Севастополю, обстановка еще никогда не была столь грозной. И Иван Ефимович Петров сказал прямо:
– Наступил решающий момент в обороне Севастополя. Надо выдержать еще день, два. Большая земля не забыла нас. Помощь идет серьезная, крепкая. Надо устоять в эти дни. Нам доверен Севастополь, его судьба – в мужестве и стойкости наших бойцов и командиров. Как командующий, я приказываю – ни шагу назад! И желаю вам, дорогие товарищи, боевой удачи!..
Ставя задачу войскам, командарм особо подчеркнул ответственнейшую роль 345–й стрелковой дивизии: от нее требовалось любой ценой удержать свои позиции.
Бои на северном направлении достигли наивысшего напряжения. Враг нес большие потери, но все время заменял в своей ударной группировке потрепанные части свежими. В тех частях, которые не заменялись в целом, за десять дней наступления полностью обновился личный состав.
В наши руки попал найденный у пленного офицера приказ командующего 11–й немецкой армией Манштейна, в котором говорилось: «Взять Севастополь в ночь под Новый год». Действия противника подтверждали, что он намерен сделать все возможное для выполнения этой задачи и, очевидно, предпримет с утра 31 декабря решительный штурм.
30 декабря в первой половине дня на КП к И. Е. Петрову приехал командующий Севастопольским оборонительным районом вице–адмирал Ф. С. Октябрьский. Вскоре к командарму вызвали меня.
Я застал генерала Петрова очень взволнованным. Положение действительно становилось критическим. Наши части понесли большие потери в людях и технике. Резервов больше не было. После того как район станции Мекензиевы Горы уже неоднократно переходил из рук в руки, Иван Ефимович, по–видимому, начал терять уверенность в том, что мы сможем долго удерживать последний рубеж перед Северной бухтой.
Когда я появился на КП, там обсуждался вопрос о том, насколько надежной оказалась бы оборона в случае отвода наших войск из района станции Мекензиевы Горы на линию северная окраина Севастополя и дальше на восток к высоте 269. И. Е. Петрова интересовало мое мнение. Я без обиняков высказался в том смысле, что оборона на этом рубеже не может быть надежной и длительной. К тому же, добавил я, мы лишаемся Северной бухты, что само по себе чревато тяжелыми последствиями.
Тут Ф. С. Октябрьский, прервав меня, заметил, что коммуникации, питающие Севастополь, не нарушатся, поскольку мы владеем Казачьей и Камышевой бухтами. Из этих слов я понял: командующий СОР не исключал возможности отвода наших войск на рубеж, который назвал генерал Петров.
Продолжая отвечать на вопрос И. Е. Петрова, я выразил убеждение в возможности – при существовавшем положении наших войск – восстановить оборону по реке Бельбек. Но это, подчеркнул я, стало бы невыполнимым без солидной помощи извне, если бы мы на северном направлении отошли на названный рубеж.
Напомню, что в те дни осуществлялась Керченско-Феодосийская десантная операция, исход которой имел особое значение для севастопольцев. Однако утром 30 декабря ее успех только–только обозначился, и дальнейшее развитие событий на Керченском полуострове еще трудно было предугадать. Поэтому представлялось самым благоразумным приложить все усилия, чтобы удержать район станции Мекензиевы Горы и, используя его как плацдарм для контратак, попытаться восстановить оборону по Бельбеку. Я заверил Ф. С. Октябрьского и И. Е. Петрова, что наша артиллерия в состоянии нанести противнику такие потери, после которых успех контрудара пехоты будет обеспечен.
Стали обсуждать практические вопросы отражения готовящегося решительного штурма, и я предложил по своей части следующее. Во–первых, нанести перед рассветом 31 декабря 20–минутный огневой удар по войскам противника, сосредоточив до 80 стволов на километр на главнейшем – примерно 3,5 километра по фронту – участке на стыке третьего и четвертого секторов (общая ширина фронта прорыва противника достигала 10 километров). Затем методическим огнем и периодическими короткими налетами мешать неприятельским войскам занимать исходные позиции. И наконец, нанести всей артиллерией новый массированный удар по пехоте и танкам, когда враг двинется в атаку (а до этого, с началом неприятельской артподготовки, подавлять по особому расчету и плану разведанные батареи).
Эти предложения были одобрены. В сумерках началась частичная перегруппировка артиллерии. Устанавливалась прямая связь поддерживающих частей с командованием третьего и четвертого секторов и непосредственное 345–й дивизией. 51–й и 52–й армейские артполки и 725–я батарея, имевшие до тех пор основным направлением стрельбы юго–восток, были «повернуты» на север. На поддержку войск на северном направлении переключались почти все береговые батареи и находившиеся у Севастополя корабли.
Штаб артиллерии своевременно закончил сложную работу по планированию огня, начарты секторов получили необходимые указания. Оставалось проконтролировать ночью доставку на огневые позиции боеприпасов. Их требовалось очень много, но, к счастью, нам было чем «угостить» врага. Погода, стоявшая последние недели, ограничила действия вражеской авиации, и боеприпасы бесперебойно поступали с Кавказа на транспортах и боевых кораблях.
И вот настал последний день 1941 года. Что нес он Севастополю? Как предстояло окончиться этому дню?..
Перед рассветом вся наша артиллерия обрушила огонь на позиции, с которых враг должен был двинуться в решающую атаку. Насколько действенным оказался наш удар, мы могли судить по тому, что противник начал атаковать на два с лишним часа позже, чем во все предыдущие дни. Направление атаки оставалось прежним. Артподготовка, предшествовавшая ей, была вначале мощной, но богдановцы быстро подавили батареи, выдвинутые вперед.
Атаку возглавляли танки. Наш заградительный огонь отсек от них основную массу неприятельской пехоты. В это время батареи крупных калибров (вплоть до 305–миллиметровых береговых) наносили удар уже по вторым эшелонам противника. Дым и пыль, поднявшиеся над полем боя, затрудняли прицельный огонь. Тем не менее орудия прямой наводки подбили немало танков. Несколько машин подорвались на минах. Затем пошли в ход связки гранат, бутылки с горючей смесью. Но часть танков все же прошла наш передний край. В траншеи 345–й дивизии ворвалась фашистская пехота.
Командир дивизии Н. О. Гузь доложил об этом генералу И. Е. Петрову.
– Уточните расположение сил противника и передайте данные Рыжи, – ответил командарм, – Сейчас мы их накроем. А вы держитесь!
Командующий верил, что артиллерия поможет поправить дело.
Между тем ближайший к участку прорыва артиллерийский полк – богдановский – сам оказался в тяжелом положении. В 300 метрах от его наблюдательного пункта развернулась немецкая рота. Причем майор Богданов не мог даже направить на район своего НП огонь какой‑нибудь батареи, ибо сюда были оттеснены наши стрелковые подразделения. Однако Николай Васильевич не растерялся. Он сам повел в контратаку личный состав штабной батареи и оказавшихся вблизи НП пехотинцев и моряков. Гитлеровцы были отброшены.
А командиру 4–й батареи того же 265–го артполка старшему лейтенанту Комарову пришлось занять на своем НП круговую оборону. От автоматчиков, подошедших к огневым позициям, отбивались расчеты двух других батарей.
К тому времени, когда я получил от командарма приказание накрыть огнем артиллерии фашистские части, вклинившиеся в оборону 345–й дивизии, продвижение врага было приостановлено. Следовало, однако, ожидать, что в ближайшие же часы он попытается развить первоначальный успех. Я посоветовал командарму приурочить к этому моменту 15–минутный мощный огневой удар. Причем сначала обрушить его на первые эшелоны противника, а затем перенести огонь тяжелых береговых батарей, линкора «Парижская коммуна» и гаубиц в глубину, «прочесав» ближние неприятельские тылы, включая Бельбекскую долину.
И. Е. Петров согласился с этим и сказал:
– Товарищ Рыжи, артиллеристам предстоит решить самую ответственную задачу из всех, которые ими решались. Прошу объяснить это через командиров артчастей всему личному составу.
Положение оставалось критическим. Но по голосу Ивана Ефимовича чувствовалось, что командарм уже уверен: к Северной бухте врага не пустим.
Ждать возобновления штурма пришлось немногим более часа. За это время поднялся ветер, и немцы поставили перед самым началом атаки дымовую завесу. Но она не помешала нашему хорошо рассчитанному огневому удару. В нем снова слились залпы многих десятков полевых и зенитных орудий, береговых батарей, кораблей.
Даже таким огнем нельзя было сразу остановить начавшуюся новую атаку. Однако результаты огневого удара сказались все же скоро. Натиск врага стал заметно ослабевать, и через час «решительный штурм» захлебнулся.
Тогда наши войска перешли в контратаку и стали теснить врага с захваченных им рубежей…
Вот так – по нашим планам, а не по планам фашистского командования! – закончился последний день 1941 года на решающем участке Севастопольской обороны. Попытки противника прорваться на других направлениях также были безуспешными.
Через несколько часов командарм И. Е. Петров поздравил офицеров штаба артиллерии с наступающим Новым годом.
– Артиллерия решила исход боя за Севастополь! – сказал нам Иван Ефимович.
Это относилось, конечно, ко всей артиллерии – полевой, береговой, корабельной, соединившей силу своих орудий для защиты города русской славы.
Декабрьский штурм был отбит, замыслы врага сорваны еще раз. Уже в ночь на 1 января наши войска начали теснить противника к Бельбекской долине, а затем и на высоты за нею.
Многие наши артиллеристы, как и другие севастопольцы, отличившиеся в декабрьских боях, удостоились правительственных наград. Особые заслуги 265–го («богдановского») артиллерийского полка были отмечены преобразованием его в 18–й гвардейский. Позже (в октябре 1942 года) командир этого замечательного полка Николай Васильевич Богданов стал Героем Советского Союза.