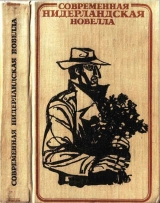
Текст книги "Современная нидерландская новелла"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
– Пришел, – сказала она, задержав на мне взгляд дольше обычного. Потом склонила голову и снова принялась вырезать.
Я подошел к ней и поцеловал в щеку. Она еще ниже склонилась над своими карточками, подавив желание отложить ножницы и вытереть влажное пятно на щеке. Я погладил ее по спине и сказал:
– Вот так, мамочка.
– Одного сына мы потеряли, зато другой вернулся, – сказал отец.
– Хоть на рождество будешь дома, – добавила мать. Вздохнув, отложила продуктовые карточки и спрятала их в конверт. – По ним теперь, кроме гороха, ничего не получишь.
– Такого черного сочельника в моей жизни еще не бывало, – сказал отец. – Без рождественской елки, без свечей. Только и есть что луковицы тюльпанов, свекла да горох. Так и помереть недолго. Я пробовал достать какую-нибудь птицу, но ничего не вышло. – Он взглянул на меня почти с радостью. – Теперь вся семья опять в сборе.
И тут его пронзило воспоминание о смерти моего брата. Он долго с горечью смотрел в сад, нервно барабаня пальцами по столу. Потом со вздохом взглянул на отвернувшуюся мать.
Ощущая неловкость, я побрел на кухню, бросил пальто на стул и вышел подышать воздухом.
Крыльцо было скользким. Кусты в саду казались увешанными кружевами из сундуков моей бабушки. В редеющем тумане белели покрытые инеем ветви яблонь. На газоне отчетливо проступала каждая травинка. От сада веяло удивительной чистотой и первозданностью. Деревья и кусты словно были нарисованы хрупким мелком на школьной доске.
Я подошел к козлам, на которых лежало толстое бревно. Мне показалось, что это та самая ольха, по которой я в детстве взбирался на крышу сарая. Взглянул на сарай. Ольхи не было. И сарай изменился, у него не было ничего общего с тем старым сараем. Я взялся за пилу, торчавшую в середине бревна, и стал пилить сырое дерево дальше. На землю посыпались оранжевые опилки.
Я распиливаю на куски свои воспоминания, думал я. Уничтожаю прошлое. Пусть лучше ничего не останется, оно никому не нужно.
Я оглянулся на дом. Отец смотрел на меня в окошко веранды. Губы его шевелились. Он разговаривал с матерью. Я подумал, что он говорит обо мне, но быть может, и ошибся. Он как будто улыбался мне, однако и это могло быть иллюзией, вызванной слегка запотевшим оконным стеклом. Я помахал отцу рукой. Он несколько раз кивнул в ответ. Потом отошел от окна.
Отпилив от бревна кусок-другой, я взял большой топор, размахнулся и вогнал его глубоко в дерево. Затем поднял топор над головой и со всей силы хватил по колоде. Чурбан развалился, только щепки брызнули. Одна ударила меня по голени. Резкая боль обожгла все тело, и это ощущение напомнило детство, когда мне становилось жарко оттого, что день рождения или какой-нибудь другой праздник кончался для меня без наказаний. Целуя перед сном родителей, я говорил тогда: «Какой чудесный день!» Выйдя из комнаты, я останавливался, и, если слышал, что кто-то из родных называл меня благодарным ребенком, жар переполнял мою грудь, разливаясь по всему телу, и я стремительно взбегал наверх. А у себя в комнате прыгал и дурачился до изнеможения, пока не падал на постель и не засыпал одетым прямо на одеяле.
Вспомнив удивительные детские годы и себя, такого странного мальчишку, я невольно рассмеялся. Опершись на топорище, я поднял глаза. Туман рассеялся. Сквозь заиндевелые ветви яблонь просвечивало голубое небо – точно смотришь в калейдоскоп: повернешь его слегка, и рисунок изменится, ветви переплетутся.
В тот вечер, после ужина, состоявшего из цветочных луковиц и капусты, отец читал вслух притчу о блудном сыне, не сознавая, что лишь подчеркивает ту холодность, с какой встретил меня днем:
– «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился: и, побежав, пал ему на шею и целовал его».
Не дочитав до конца, он захлопнул Библию. Посмотрел на меня, потом окинул взглядом моих братьев и сестер и по памяти процитировал последние строки:
– «…что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Я уже не мог привыкнуть к дому – сказывалось слишком долгое отсутствие. Бесцельно слонялся по комнатам, поднимался в свою холодную мансарду, потом брел вниз. В сарае на керосинке испек цветочную луковицу. Осторожно отрезал маленький, прокопченный до черноты кусочек. Жутко противно. Цветочные луковицы можно есть только вареными. Бросил печеную луковицу в сад – как знать, может быть, весной из нее вырастет черный тюльпан. Изредка я колол дрова или же часами стоял в гостиной за серыми потрепанными тюлевыми гардинами и глядел на улицу. Между камнями пробивалась бурая трава. Редкие прохожие тащили джутовые мешки, в которых, судя по очертаниям, лежала свекла. Я с трудом узнавал соседей – так они были истощены. Словно меня не было десять лет и за это время улица и ее обитатели состарились и поблекли. В отчаянии я смотрел вокруг и не уходил, я знал, что должен остаться здесь. У меня не было никакой надежды вырваться отсюда. Передо мной, на противоположной стороне улицы, виднелись закрытые витрины магазинов. Позади – бледные, исхудавшие лица братьев и сестер. Теперь я был самым старшим и чувствовал, что на мне лежит большая ответственность, что я должен что-то предпринять. Но что? Закрыв глаза, я думал. И представлял себе всевозможные преступления, которые мог бы совершить, чтобы достать еды для нашей семьи. Вдруг вспомнился гундосый крик индюка, я слышал его по дороге домой, проходя мимо большого поместья. Я тайком достал из шкафа отцовский призматический бинокль – одну из немногих вещей, которые еще не обменяли на еду, – и пошел наверх.
Поднимаясь по лестнице, я думал о том, что из всей домашней живности только индюки – существа злобные и мрачные, да к тому же они всегда пребывают в каком-то похоронном настроении. Даже перьев у них нет – разгуливают они, обросшие чем-то вроде клочков жженой бумаги, тряся своим отвратительным жабо, напоминающим о несчастье и болезнях, раке и геморрое одновременно.
Я открыл в комнате окно. От холода перехватило дыхание. Поверх крыш я смотрел в сторону того поместья, но перед глазами сплошной серой завесой стояли заросли ивняка, в которых даже с помощью бинокля невозможно было различить отдельных деревьев. Закрыв окно, я увидел, что линзы бинокля запотели. Протер их изнанкой свитера, но разглядеть поместье больше не пробовал. Потом достал из чулана старую подушку, привязал к одному из ее углов длинную веревку, другой конец которой перекинул через балку под потолком. Подтянул подушку вверх и наступил на веревку ногой. Затем вынул из кармана перочинный нож и раскрыл его. Пригнувшись, словно хищный зверь, я угрожающе занес нож. Отпустил веревку, и не успела подушка упасть, как я бросился на нее и всадил нож по самую рукоятку. Это упражнение я повторил несколько раз, после чего из дыр во все стороны полезли перья.
Услышав в саду звук пилы, я подошел к окну. Только теперь, глядя вниз, я заметил, как поседел отец. Казалось, он покрыт инеем, словно кусты вокруг. Ручной пилой он пытался распилить толстенное бревно. Я сбежал вниз, достал из сарая двуручную пилу и пошел к отцу. Одобрительно взглянув на меня, он взялся за ручку. Мы пилили, по очереди таща пилу на себя, и тут мне вдруг стало не по себе, щеки вспыхнули как от стыда. Я не мог отделаться от ощущения, будто мы заняты чем-то неприличным. Я закрыл глаза, не замечая, что бревно почти распилено, и, когда кругляш отвалился, от неожиданности полетел вперед. Острая боль пронзила поясницу. Упершись руками в бока, я несколько раз согнулся и разогнулся. Отец смотрел на мое искаженное болью лицо со смешанным чувством тревоги и раздражения моей неуклюжестью. Потом, оглядев меня с головы до ног, с изумлением спросил:
– Боже мой, чем это ты занимался?
Мой свитер и брюки сплошь были усеяны белыми пушинками.
– Словно с ангелом сражался, – сказал он.
В тот вечер я рано ушел в свою комнату. Сделав из бумажной бечевки петлю и положив ее рядом с раскрытым ножом на стол, я, не раздеваясь, лег и стал ждать комендантского часа. Это был мой единственный шанс, потому что через день наступит рождество. Я хотел добыть птицу живьем и запереть ее в сарае, чтобы наутро отец мог зарезать ее и ощипать. А я сказал бы ему, что получил индюка ночью от приятеля, ведь, узнай отец, как я его достал, он мог бы заставить меня отнести птицу обратно.
Когда в голову мне приходили мысли о противозаконности моего начинания, я представлял себе бледные лица братьев и сестер и тихонько шептал:
– Нужда ломает законы.
Но сможет ли нужда стереть из моей памяти плакат, который раньше висел у нас в школе около лестничной клетки. На нем были нарисованы цапли и написано: «Будь добр к животным. Береги птиц». Гордо, с высоко поднятой головой я проходил тогда мимо, поскольку это была одна из немногих заповедей, которых я никогда не нарушал. Одноклассники даже дразнили меня «дроздиным божком», потому что я как одержимый отчаянно защищал от разорения гнезда в окрестностях школы. Ради этого я раньше всех отправлялся в школу и последним входил в класс. Как-то в среду днем, проверяя птичьи гнезда, я нашел в лесу умирающего кота. Я опустился около него на колени и, хотя из-за мучительной боли он пытался укусить меня, подложил ему под голову руку. Из пасти у него текла слизь. Обливаясь слезами, я сидел возле кота, пока он не умер. Потом прикрыл его листьями, вытер руку о мох и решил на следующий день похоронить. Выходя из леса, я увидел на мостике мальчишку из нашего класса, который внимательно смотрел на воду. Взглянув через его плечо, я увидел, что на поверхности воды покачиваются еще не оперившиеся дроздята из гнезда, которое было рядом с мостиком в зарослях остролиста. Не раздумывая, я прыгнул в канаву и вытащил птенцов. Но в руках у меня оказались безжизненные тельца. Я положил их на край мостика и взглянул на парня. Мой прыжок в воду вызвал у него восторг и замешательство и в тоже время усмешку, потому что я был по колено в грязи. И тогда я схватил его за шею и изо всех сил ударил кулаком по голове, мне даже показалось, будто что-то хрустнуло. Потом судорожно впился в его лицо ногтями – на лбу и щеках у него появились белые царапины, наполнившиеся кровью. Когда я отскочил от него, меня внезапно охватило ледяное спокойствие: я приготовился к драке. Этот парень уже несколько раз оставался на второй год и был на голову выше меня. Но, когда я приблизился к нему, он повернулся и бросился наутек. На следующий день он не пришел в школу, не пришел он и через день и вообще исчез. Через несколько недель учитель с печальным видом сообщил нам, что он умер от менингита. Я понял, что это моя вина, что я убил его. Я все время смотрел на его пустую парту и наконец, не выдержав, рассказал все учителю: и об утопленных птенцах, и о том, как ударил его по голове. Учитель рассмеялся, ободряюще похлопал меня по плечу и сказал, что удар по голове не может вызвать менингита, потому что это инфекционная болезнь. Но я никак не мог успокоиться. Я был уверен, что от удара в голове у него что-то треснуло.
Я встал с постели и раз-другой подтянулся на балке. Потом сделал несколько гимнастических упражнений, чтобы как следует подготовить себя к предстоящей операции. Поднялся на чердак, подошел к окну и прислушался. Издалека доносилось дребезжание колес удаляющегося велосипеда, подпрыгивающего на булыжной мостовой, и я удивился, как это велосипедист ухитряется ехать, когда кругом ни зги не видно: за окнами сплошной молочной стеной стоял туман. Я выждал, пока все стихнет. Потом вернулся в свою комнату, переобулся в теннисные тапочки и положил в карман, лезвием вниз, раскрытый перочинный нож. Веревку я оставил. Одна мысль о том, для чего я мог бы ею воспользоваться, вызывала у меня отвращение.
Туман был очень густой, и, чтобы не сойти с тротуара и не налететь на фонарный столб, я передвигался ощупью, держась за садовую ограду. Вдали послышались шаги приближающегося немецкого патруля. Кованые сапоги глухо стучали, словно солдат находился под стеклянным колпаком. Убедившись, что он прошел по другой стороне улицы, я двинулся дальше. В лесу мне пришлось целиком положиться на собственный слух. Когда под ногами трещали сучья и шуршали увядшие листья, я понимал, что сбился с тропинки. Я шел вперед очень медленно, то и дело натыкаясь на низкие ветви и стараясь ступать совершенно бесшумно. Главное – не нарваться на какого-нибудь часового в засаде. Это было бы ужасно. Ведь мы бы заметили друг друга, лишь столкнувшись нос к носу. И тогда один из нас, наверное, умер бы от страха.
Посреди мостика, ведущего на остров, где находился загон для домашней птицы, стоял забор, опутанный колючей проволокой, достававшей до самой воды. Мои попытки найти в заборе щель оказались тщетными. Тогда я взглянул наверх: нельзя ли перелезть. И тотчас у меня захватило дух и я задрожал от возбуждения. Прямо над головой на заборе виднелись силуэты двух индюков. Не знаю, как долго я простоял, прежде чем прыгнуть. Но едва я совершил этот безумный прыжок, пытаясь оборвать птичью жизнь, воздух огласился тяжелым хлопаньем крыльев. Потом раздался глухой, беспомощный всплеск и печальный крик, переходящий в тихое бульканье, – словно ушла под воду захлестнутая легкой волной бутылка. У меня было такое чувство, будто ледяная вода канавы, в которую погружалось тело птицы, проникает сквозь мою одежду и подступает к горлу. Я перегнулся через перила, и мне показалось, что по воде с тихим шипением расходятся большие круги, как отзвучавшая пластинка, которую забыли снять.
И тут я увидел вторую птицу – видимо, парализованная ужасом, она свалилась на мост. Я бросился на нее, крепко схватил за голову и зажал клюв, чтобы она не закричала. Судя по маленькой головке, это должна быть индейка. Мне было и радостно, и грустно. Радостно от того, что моя рука сжимала не омерзительную серо-голубую голову индюка, покрытую бородавками и наростами. И грустно потому, что индейка не настолько безобразна, чтобы принять такую смерть. Я поднял птицу и крепко прижал ее к себе. Пока я шел к дому, птица согревала мне грудь, и я чувствовал себя виноватым в том, что это тепло скоро покинет ее тело.
Осторожно закрыв дверь сарая, я присел на корточки и отпустил индейку. Она перевернулась в воздухе, ударившись головой об угол верстака, упала на бок и не шевелилась. Я снял со стены керосиновую лампу и зажег ее. Передо мной, подобно сине-зеленому проклятию, лежал павлин. Он был мертв, из клюва капала кровь. Я слишком сильно сдавил ему голову. Хвост у него вылинял. Осталось лишь несколько довольно длинных глазастых перьев. Я вырвал их и отложил: в сторону. Перышки на его голове были сломаны. Я попытался расправить их, но они по-прежнему походили на увядший букетик. Глаза павлина были открыты и казались совсем темными в обрамлении молочно-белых пятнышек. Я содрогнулся при мысли о том, что павлин, умирая, не смог закрыть глаза, потому что мои пальцы держали его веки. Взявшись ногтями за веки птицы, я закрыл ей глаза. Теперь павлин стал действительно похож на мертвого. Я подумал, что его надо бы ощипать, иначе никто не захочет дотронуться до такой птицы. Поставив на землю лампу и расстелив джутовый мешок, я стал ощипывать павлина. Когда половина дела была сделана, я увидел на его коже блох, которые ползли туда, где еще оставались перья. Несколько штук попало мне на руки. Я стряхнул их и засучил рукава.
Для них настал Судный день, думал я. Мои перебирающие перья пальцы для этих тварей точно всадники Апокалипсиса.
Ощипав птицу, я положил ее на верстак, отвернулся, отрубил топором голову, и положил ее рядом с хвостом. Потом отрубил лапы и бросил их в кучу перьев, куда они погрузились как в обильно взбитую мыльную пену. Взяв мешок за углы, я вынес его во двор и закопал там. Потом снова вернулся в сарай, забрал павлинью голову и перья от хвоста и тихонько пробрался в дом. На кухне я прислушался, но вокруг царила мертвая тишина. Войдя в комнату, я засунул перья в стоявшую на камине вазу, полную точно таких же павлиньих перьев. Вскарабкался по лестнице на чердак и зажег спичку. Найдя стеклянный колокольчик, я сдул с него пыль и спрятал под него головку павлина. Пламя догоравшей спички осветило множество блох, ползавших по ней. Их было столько, что от их движения шевелились перышки, а веки были сплошь усеяны насекомыми. Поставив колокольчик на место, я спустился в свою комнату. Я чувствовал смертельную усталость. Рухнул на постель и уснул не раздеваясь, прямо на одеяле.
Рождественский стол выглядел празднично. Зажаренная индейка была покрыта золотисто-коричневой корочкой, и ничто не выдавало ее истинного происхождения. Сестра даже приделала к ланкам бумажные кисточки и украсила блюдо веточками остролиста. Мать приготовила салат из тертой свеклы, добавив в него капельку уксуса и яблоко, которое ей дала подруга. Луковицы тюльпанов походили на печеные каштаны, а по подливке нипочем нельзя было сказать, что птицу зажарили на смеси вазелина и прогорклого говяжьего жира. Сложив руки, отец приготовился к молитве. Я же сидел с открытыми глазами и смотрел на жаркое. Потом перевел взгляд на камин. Среди поблекших от времени перьев вызывающе выделялись свежестью и сине-зеленым бархатным блеском темных глазков те, что поставил в вазу я. Отец на секунду запнулся, и я быстро посмотрел на него. Он проследил за моим взглядом, и в его глазах вспыхнул мрачный огонь. Глядя на меня, он продолжал читать молитву:
– …и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Перевод С. Белокриницкой
Осень разгуливала огненно-рыжей птицей, с безрассудной щедростью умирания сбрасывающей на синий асфальт свои оранжевые перья. Герман попытался поймать несколько влажных золотых листьев, зигзагами скользивших вниз так близко, что он мог их достать. Но от внезапного порыва ветра, вызванного его резким движением, – или потому, что им противны его худые бледные руки, подумал Герман, – они плавно опустились на землю вне пределов его досягаемости. Все утро он просидел на краю парка над польдером, созерцая панораму города. Бессмысленная суета поездов, скучное гудение самолетов, которые выводили на фоне туманного осеннего неба буквы рекламы, надоели ему до ломоты в пояснице.
– Ты вступаешь в жизнь, – напутствовал его отец, когда он утром отправился устраиваться на работу. А он в ответ пробормотал, правда уже закрыв за собою дверь:
– На черта мне ваша жизнь, лучше бы вовремя воспользовались противозачаточными средствами!
В Писании сказано: «Плодитесь и размножайтесь», но надо же и свою голову на плечах иметь, думал он с раздражением.
Нет, он палец о палец не ударит, чтобы вложить и свой камень в общую кладку, как принято выражаться у них дома. Я такую глыбищу приволоку, чтоб их всех раздавила, думал он мстительно. Все мои товарищи учатся дальше, только мне нельзя. Я жертва усердия, с которым они выполняют божью заповедь о размножении. Не продлятся дни мои на той земле, которую дал мне господь бог мой, ибо я проклинаю отца моего и матерь мою.
Скамейка, на которой он сидел, вся позеленела от желчи, изрыгаемой им по адресу друзей и родных, а может, просто от плесени. Он не то задремал, не то и вправду увидел в туманном воздухе длинные полотнища – сначала они парили в небе, потом стали виться вокруг его головы. На них было написано затейливыми буковками, не соответствовавшими значительности содержания: «Если левая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше… если левый твой глаз соблазняет тебя, вырви его…»
Текст остался недописанным, потому что легкий октябрьский ветерок осторожно и ласково, как опытная сиделка, обмотал ленты вокруг его головы; он почувствовал себя мухой в паутине. Его голова превратилась в белый обрубок, лишенный обоняния и слуха.
Он направился к аптеке. Аллеи парка, в которых фантастическими золотыми бабочками кружились листья, тоже напоминали длинные марлевые полотнища. Он остановился у витрины, заглянул внутрь – нет ли там кого из знакомых. Аптека была пуста. Он вошел и купил пять пачек широкого бинта.
– Хочу сделать сачок, бабочек ловить, – сказал он, ухмыляясь.
Выйдя на улицу, он осознал всю неправдоподобность своего объяснения. Кто ж поверит, что он будет сшивать полоски. И потом, какие бабочки осенью? Он потрогал рукой глаза, и ему пришел в голову иной, тайный смысл этих слов. Накинуть сачок на свои глаза; его глаза – вот мотыльки и махаоны, для которых он готовит западню.
Он поспешил домой. Потихоньку открыл дверь, но, взглянув на вешалку, убедился, что предосторожности излишни. Пальто матери там не висело. Очевидно, отправилась по магазинам. Братья и сестры были в школе. Он поднялся к себе в каморку на чердаке. Подошел к зеркалу, долго стоял перед ним, изучая свою угрюмую физиономию.
У меня глубоко сидящие глаза, они не стремятся к свету, подумал он. А складка между бровей оттого, что я замышляю злое дело.
Он взял бинт и начал тщательно обматывать себе голову. У глаз и рта он оставил узкие щелочки, как предательские незаметные расселины на ледяной равнине Арктики. Потом осторожно спустился по лестнице и сел в плетеное кресло на балконе. Солнце пригревало его руки, лежавшие на коленях. Устало рокотали рекламные самолеты. Как будто ничего не произошло, как будто все это дурной сон. Он услышал шаги матери, поднимающейся по лестнице.
Если ее хватит удар, когда она увидит меня в таком состоянии, стоит, пожалуй, вылупиться из кокона, подумал он.
Вошла мать. Схватила его за плечо.
– Герман, что случилось? – испуганно спросила она.
– Утром я ходил устраиваться на фабрику, где требуется лаборант, – ответил он. – Меня куда-то повели, и по дороге я нечаянно опрокинул какую-то тяжелую штуку прямо в бак с кислотой. Кислота ка-ак брызнет! Остался без обоих глаз, все лицо в ожогах.
Она молчала, его мать, только судорожно сжимала ему плечо. Толстая повязка на ушах не давала расслышать, плачет ли она.
– Меня привезли на санитарной машине. Я сказал, что хочу посидеть в плетеном кресле на балконе. Тогда меня внесли сюда. Я еще…
Вдруг он умолк, почувствовав слезы матери, капающие ему на затылок, теплые, как летний грозовой дождь.
Вечером к нему зашел отец.
– Так-так, сынок, то, что с тобой случилось, очень прискорбно, да-да, – сказал он.
– Мама рассказала тебе?
– Да, – ответил отец. – Господь помрачил твои глаза. Что может быть хуже этого? Не понимаю только, почему тебя сразу привезли домой, неужели ничего нельзя было сделать?
– Нет, ничего, – со вздохом сказал Герман.
– Помочь тебе спуститься в столовую? – спросил отец.
– Нет, мне хочется посидеть здесь. Когда станет холодно, уйду. Эти несколько шагов я, наверное, и сам смогу пройти. Правда, врач велел как можно меньше двигаться. Можно я пока поживу в этой комнате? Когда сидишь на балконе, ветки яблонь совсем рядом. Мне здесь так хорошо!
– Если бы ты спустился, нам было бы гораздо проще. Не пришлось бы носить тебе еду и убирать за тобой. А что касается веток, ты же их все равно не видишь.
– Я слышу шелест листьев, а весной буду слышать жужжание насекомых.
– Посмотрим, – сказал отец. – Ты ведь и без того доставляешь нам столько хлопот. Я поговорю с матерью.
Выходя, он оглянулся в дверях и спросил:
– А перевязку сестра придет делать? Или еще и эта забота ляжет на плечи матери? Ты же знаешь, у нее слабые нервы, ей только и не хватает возиться с язвами да болячками.
– Врач пока не велел ничего делать, надо подождать.
– Подождать! Чего ж еще ждать? – спросил отец не без раздражения и, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты.
Снизу доносились голоса сестер, скрытых от него листвой деревьев. Он видел лишь небольшой кусочек сада, где торчали голые стебли бальзамина. Острая вонь крольчатинка смешивалась с ароматом золотого ранета, обсыпавшего ветви яблонь. Узкие дорожки разбегались к соседским садам.
Как давно я здесь не был, думал Герман, и какое это было счастливое время, когда я ловил здесь всяких букашек и лягушек. Если бы я правда не видел, я мог бы ощупью отыскать каждый камень, как бы глубоко он ни спрятался в зарослях петушьей лапы и курослепа. Я мог бы назвать каждую живую тварь, обитающую под камнями. Вот это – сороконожка, рыжая, как ирландский сеттер, а этот чешуйчатый шарик – мокрица. Когда разотрешь ее между двумя камешками, получится кучка желтоватого желе. Янтарные саламандры каждую весну напрасно ищут канаву, много лет назад засыпанную землей. На ощупь они напоминают кусочки каучука. Если положить их в воду, они станут серебристыми и блестящими, как брошки. У жирных дождевых червей посередине желтая полоска, будто вывихнуто колено. Поднимешь камень, под которым они сидят, – точно приподняли крышу публичного дома, так копошатся, расползаясь, голые розовые тела. И сам он козявка, которая живет под камнями в темной яме и через узкую щелку злобно следит за происходящим снаружи.
Дверь отворилась, хотя он не слыхал ничьих шагов по лестнице. Должно быть, Лия, старшая сестра: только она умеет двигаться по дому бесшумно. Она останавливается на пороге распахнутой двери на балкон.
– Я считаю, что тебе здорово не повезло, – говорит она весело, – хотя ты, в сущности, не заслуживаешь жалости, потому что всю жизнь только и делал, что по мере сил старался мучить других.
Запахло едой, которую она ему принесла. Не поворачивая головы, он протянул руку:
– Давай сюда жратву и избавь меня от твоих комментариев.
Она сунула ему в руку тарелку. Герман поднес ее к носу, потом поставил себе на колени.
– Когда ты заболеешь раком, я вставлю тебе в рот воронку и вылью туда целую бутыль соляной кислоты.
– Ну вот видишь, я так и думала. Мама выражала надежду, что ты теперь станешь хоть немножко покладистее и тогда за твое несчастье еще можно будет благодарить судьбу. А я подумала: покладистее, как же, держи карман, он станет еще невыносимее, чем был. Знаешь, кто ты? – воскликнула Лия в ярости. – Снежная баба! Снежный человек! – Она пронзительно захихикала. – L’abominable homme de neie[9], так мы будем тебя теперь называть.
– Убирайся к черту, а то я сброшу тебя с балкона, – закричал Герман вне себя, но, не получив ответа, понял, что она ушла.
Он посмотрел на тарелку, стоявшую у него на коленях. Мясо было разрезано на мелкие кусочки и перемешано с гарниром. Он брезгливо поковырял еду, набрал полную ложку и попробовал сунуть ее в рот, не испачкав повязку.
– Справишься? – крикнула мать снизу, из сада. – Или давай я тебя покормлю. Но сначала мы сами поедим, а то все остынет.
Ах, сколько сострадания! – подумал Герман.
– Без вас обойдусь, – ответил он. – Может, немного испачкаюсь, так завтра дадите мне салфетку.
– Что? – спросила мать.
Но вопрос относился не к нему, потому что потом она закричала:
– Лия говорит, она постелила салфетку тебе на колени.
– Пусть не врет! – сердито крикнул Герман.
– Он же не видит, – услыхал он через открытую дверь голос сестры. – Да он все равно обгадится, как свинья.
Мать зашикала на нее, потом снова крикнула ему:
– Завтра я дам тебе салфетку, оставишь ее у себя.
Он услышал, как стеклянная дверь балкона захлопнулась с удивительным звенящим звуком, который, бывало, так будоражил его летними вечерами, когда он лежал в постели в своей каморке на чердаке, прислушиваясь к крику павлинов, резкому и в то же время полному любовного томления. Этот крик был проникнут сладостной грустью, такой же, какую всегда вызывала в нем картинка на крышке коробки с чаем: беседка среди зарослей бамбука, а перед ней женщина с тяжелыми жгутами черных волос. Голоса в саду затихали, мелодично звенела стеклянная дверь. Он оставался один в темноте, лежал и думал о таинственных действиях, совершаемых взрослыми в оранжевом полумраке, действиях, звуки которых смутно доносились до него. А через слуховое окошко в наклонной стене луна проливала на пол свой хрустальный свет. Нас обманули, горестно подумал Герман, с отвращением ставя тарелку около кресла. Они никогда не делали ничего достойного внимания, эти взрослые. Они никогда не совершали ничего такого, о чем ребенку стоило бы мечтать летним вечером, когда вместе с лунным сиянием в комнату льется аромат бузины.
Он встал, внес кресло в комнату и закрыл двери. Посмотрел в окно на серебристо-голубое вечернее небо, мерцающее над полосой темно-синих облаков, похожей на чешую скумбрии. Не раздеваясь, повалился на кровать и заснул прежде, чем у него в голове успела оформиться хотя бы одна мысль. В этот вечер к нему никто больше не заходил.
На следующий день пришла Соня. Она начала плакать еще на лестнице. Герман понял это по тому, как неловко она открывала дверь. Бедная девочка, считая меня слепым, она сама от слез стала как слепая, подумал он.
Она нерешительно направилась к балкону, стала на колени рядом с креслом, осторожно прижалась головой к его голове. Стала целовать бинт в разных местах, как будто отыскивая отверстие. Марля приклеивалась к ее губам, так что Герман все время ощущал легкие толчки, как рыбак, у которого клюет.
– Соня, мне больно, когда ты прикасаешься к моей голове, – сказал он мягко. – Да и вообще подобного рода действия между нами потеряли всякий смысл.
Она громко всхлипнула и положила голову ему на колени.
– Постарайся забыть меня, – произнес он слова, заимствованные из какой-то повести в дамском журнале. – Так будет лучше для тебя. Все равно ты не можешь ничего изменить.
– Ничего-ничего? – спросила она с дрожью в голосе. – А если обратиться к какому-нибудь медицинскому светилу? Деньги я где-нибудь раздобуду, пусть мне хоть всю жизнь потом придется выплачивать долг.
– Очень мило с твоей стороны, Соня, но самое знаменитое медицинское светило не в состоянии вставить новые глаза в пустые глазницы.
На нет и суда нет, мысленно закончил он. Хорошо, что не сказал вслух, она вся трясется, как сортировочная машина. Не надо циничных острот, продолжал он думать, Соня – единственный человек, который меня любит. Он положил руку ей на голову и ласково погладил по волосам.
– Посиди рядом, – сказал он, подвигаясь в кресле. – Будь моими глазами: смотри и говори, что ты видишь. Как яблоки? Не пора ли их собирать?
Соня села рядом с ним. Постепенно она перестала дрожать; несколько раз глотнув, она заговорила таким голосом, как будто рот у нее полон песку:
– Яблоки уже красные, я думаю, их скоро пора собирать. Одно висит у самого балкона, красное-красное, сорвать тебе?
Не дожидаясь ответа, она подошла к краю балкона, легла животом на перила и попыталась достать яблоко.
– Осторожно, Соня, – раздался вдруг голос матери, – да и потом, они же зеленые. Если Герман хочет яблоко, пусть попросит у меня.








