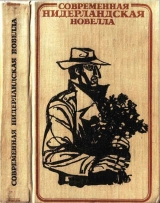
Текст книги "Современная нидерландская новелла"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
«У-253» бесшумно скользила сквозь мрак на поверхности, овеваемая теплым ветром. Тьма тихо плескала в корпус. Несколько матросов побежали по мокрой палубе на нос и открыли машину. Поспешно помогли Бррузу влезть, надели на него хобот кислородной маски, но, прежде чем они успели опустить колпак, офицер с базы, который тоже вышел на палубу, бросился жать Броузу руки, задыхаясь, бормотал невразумительные слова, фразы и, почти невидимый в ночи, то склонял, то вскидывал голову; он лепетал, задыхался, плакал, а Броуз кивал ему и ответ и тоже плакал, и слезы затекали ему в открытый рот…
Когда туман у него в голове рассеялся, все было пусто, над ним был колпак, а позади него стальное чудище задраивало свой люк. Внезапно он ощутил всю беспредельность окружающей ночи – беспредельность мира, где его нет. Кругом все пошло вверх, вода ритмично зашлепала в колпак, а потом накрыла его, и в этот миг в наступившей тишине Броуз вдруг осознал, что человек – это космический зверь, рождающий богов и борющийся с ними, претворяющий свой разум в машины. С головой в колпаке, уже глубоко под водой, он застучал зубами, ужасаясь неизмеримости чуда, которое вдруг предстало ему.
Он увидел, как человек явился из космоса на тихую землю, неся с собой беспокойство мыслей и слов. Молнией промелькнула перед ним вся история человека: вот он живет среди лесов, посылая к небу таинственные сигналы, разводя костры, вот мало-помалу из человеческого мозга выступают слова – фантомы, которые медленно заполоняют землю, обернувшись машинами, обернувшись заводами, электростанциями, которым несть числа, и все они таинственным, непостижимым образом продолжают человеческое тело: мысль обратила ноги человека в колеса, а руки в корабли, самолеты и пушки, а кожу – в каски и блиндажи, сердце – в электричество, а уши и глаза – в радары и телескопы. Единое человеческое тело из стали, оно изрыгает дым, вращается, сыплет искрами, оно распростерлось по всей земле, и вторглось внутрь земли и под воду, и кружится в воздухе, и его же слова падают на него дождем бомб и огня…
С раскрытым ртом, скользя глубоко в черной толще воды, Броуз прозревал усовершенствованного человека: широко расставив ноги, обратясь лицом на восток, вставало разлагающееся чудовище с глазами волка и руками Христа, взор его был устремлен в космос, а под черепной коробкой – географическая карта, и самого человека не видно под оружием и орудиями пыток, которыми он утверждает свою веру; усовершенствованный человек – ревущий огненный столп, бог костров инквизиции.
– Сейчас восемь часов сорок девять минут двенадцать секунд. Мы находимся на рубеже первой защитной зоны каравана. Центр каравана приблизительно в девяти милях. Караван движется со скоростью пятнадцать узлов в направлении на северо-северо-восток. В воздухе большое количество самолетов. Ваши координаты…
Оцепенев, Броуз слушал голос в наушниках. Жесткий и сухой голос капитана. Ноги у Броуза были словно из синего прозрачного льда.
– Через сто двадцать секунд начинаем разворот. Отделяйтесь от нас через шестьдесят секунд. Вы меня поняли?
Броуз хрипло сказал:
– Так точно.
– Сейчас восемь часов пятьдесят минут четыре секунды.
Броуз задрожал и уставился на приборы, напряженно прислушиваясь, не скажут ли еще чего-нибудь в наушники. Внизу металл слабо звякнул о металл. Сейчас провод перережут, а рации ему не дали, это было бы слишком опасно. Послышались шаги. Металл продолжал слабо ударяться о металл.
– Отделяйтесь через десять секунд.
Вдруг он услышал беготню и крики, сумятицу звуков, как при драке. Он поставил ногу на стартер и, не сводя глаз с хронометра, напряженно вслушивался.
– А! Пустите… Нет… Броуз!
Шум борьбы, стон – это был офицер с базы, он протестовал, хотел все отменить, исправить мир…
– Ха-ха, о-ля-ля! – закричал Броуз, пнул ногой стартер, вибрация охватила его, а через мгновение в ушах его стояла такая тишина, будто вся солнечная система провалилась в тартарары.
Он погрузился на глубину ста пятидесяти футов и подумал: я могу вернуться и взорвать «У-253». Но капитан, видимо, предусмотрел такую возможность. Подводная лодка уходила зигзагами, извиваясь ужом в безграничном водном пространстве, – капитан спасал не себя, а свое судно, то есть все-таки себя. Броузу ни за что не догнать его.
Но Броуз и не думал его догонять. Не спуская глаз с приборов, он летел вперед сквозь толщу воды. Вода посветлела, стала нежно-голубой, и в ней кишели мелкие рыбешки. На его руках, сжимавших руль, побелели суставы. Проходила минута за минутой, а он мчался к цели. Он не существовал. Он был плодом воображения адмирала, и – в ином обличье – плодом воображения капитана, и уже в третьем обличье жил в воображении офицера с базы. Через четверть часа он на какую-то долю секунды возникнет в воображении Зверюги в виде раскалывающегося железа, огня и смерти. Ничто иное для человека и недоступно. Никто не существует иным образом, кроме как в виде тысячи разных, отрицающих друг друга фантомов в воображении других фантомов – фата-моргана, мираж в пустыне. Броуз тяжело дышал, глаза, следящие за приборами, расширились. Человек выражает себя в словах, хватается за рычаг управления и, подобно божеству, летит по воздуху или по воде, думал Броуз. Глаза у него вылезали из орбит. Эта машина – его тело. Теперь он сам из железа. Своим телом он протаранит дымящееся тело Зверюги. Фантом человеческой души не вмещался в воображение мешка плоти и крови. Душа стала искать себе более просторные обиталища. В начале было слово, и слово превратилось в машину. Однажды где-нибудь в порядке и чистоте лаборатории электронный мозг вдруг выдаст перфокарту, ниспосланную во спасение человечества, и люди узнают о том, что у них теперь новое тело, и все и вся преклонят колена перед deus ex machina[15].
В голове у Броуза фосфоресцировало. Все чаще наверху мелькали туманные, темные пятна, нависали над ним, как грозовые тучи. Он по возможности обходил их, чтобы они не засекли его гидролокаторами. Но и тогда они примут его за неведомую шуструю морскую тварь – это его-то, с его железным телом, с взрывной силой, достаточной, чтобы смести с лица земли одну из мировых столиц. Вдруг перед его глазами зарябил серебряный дождь, и рыбки забарабанили в колпак. Когда он выбрался из косяка, темных пятен стало заметно больше и в воде слышался глухой перестук.
Я нахожусь под самым караваном, подумал Броуз. Они ни о чем не догадываются. Караван – огромное водоплавающее животное, части его тела соединены невидимыми радионервами. Самолет, идущий на посадку, поезд, послушно замирающий перед стрелкой, судно с экипажем – все это существа более высокого биологического порядка, чем человек. Учреждение, церковь, где все поют хором, работающий завод, кинотеатр, где всем зрителям смешно, – это организмы с формами сознаний недоступными сознанию одного человека, так же как отдельные клетки человеческого организма ничего не знают о том индивидууме, которого они составляют, вместе взятые. Броуз судорожно думал; он думал, чтобы не думать. Города, государства, континенты…
Он словно бы увидел эти сознания, одно на другом, как перевернутая пирамида – чем выше, тем шире и туманное, и наконец все исчезает во мраке, окончательном мраке. Он подумал: вся земли станет единым телом с единым сознанием, а потом вся Солнечная система, потом Млечный Путь, а через миллиарды лет все галактики вселенной – необозримая картина, рожденная затравленной бесприютной человеческой душой, – а потом, как знать, и другие вселенные… те миры, где он был бы дома, был бы на своем месте…
Можно ли назвать это словом «думал»? Его мозг работал, как, бывало, его электрическая бритва, включенная в сеть с чересчур высоким напряжением. Он огляделся. Грозные колышущиеся тени заполонили весь обзор. Вода оглушительно клокотала. Было девять часов четыре минуты. Он проделал восемь миль. Через полминуты над ним все вдруг снова стало зелено, и пусто, и тихо. Броуз испуганно глянул на свои приборы. Он ли сбился с курса, или вражеская флотилия изменила направление? Мимо промелькнула мертвенно-белая рыба – призрак рыбы. Через пятьсот метров над ним вдруг снова повисло расплывчатое облачко. На предельной скорости он прошмыгнул под ним и снова натолкнулся на конвой. Он переложил руль, круто развернулся и сбавил скорость.
Он находился в центре циклопа. То маленькое облачко несло самое Зверюгу, окруженную покоем и простором. Зверюгу со всей ее кликой. В низу живота у Броуза словно возник электрический разряд – так бывало с ним, когда он думал о женщине, которую желал. Потом он увидел, как в тридцати метрах над ним, но тем не менее на глубине двадцати метров, медленно возникло огромное железное привидение. Его тело среагировало раньше, чем разум, – но успев подумать, он уже вертикальным штопором на предельной скорости уходил в глубину. Вода была в двадцати сантиметрах от его головы. Он чувствовал, как быстро растет давление: воспринимал это особым органом чувств – танцующей стрелкой, которая светилась все ярче по мере того, как вокруг сгущался мрак. Колпак – он же его черепная коробка – мог выдержать давление в тринадцать атмосфер; когда стрелка коснется красной черты, наступит смерть. На глубине трехсот шестидесяти футов он привел машину в горизонтальное положение, прошел – в ушах у него шумело – несколько сот метров в том направлении, куда двигался караван, затаился и стал выжидать – каждый прибор служил ему дополнительным органом чувств. Свет словно бы проникал через церковный витраж в глубокие сумерки: почти невидимые, но пронизывающие ультрафиолетовые лучи. Подводная лодка больше не появлялась. Глубинные бомбы не взрывались. Его не заметили. Если он будет кружить в этом месте, центр каравана примерно через две минуты снова будет над ним. Надо решить, как действовать.
Но вместо этого он думал: убийца – плод воображения жертвы, а жертва – плод воображения убийцы. И кроме того, пуля, попавшая в цель, есть часть тела убийцы, которая входит в тело жертвы. Всякое убийство – непристойность, интимное объятие, всякий убийца – сексуальный маньяк. Он представил себе жену, изрешеченную пулями, и подумал: убийство – совокупление двух плодов воображения, убийцы и жертвы.
Потом Броузу захотелось посмотреть на Зверюгу. На мгновение он всплывет на поверхность, чтобы увидеть ее стальное тело. И тотчас врежется в него. Ведь Зверюга уже все равно погибла. Пусть его даже обнаружат и расстреляют с дистанции в милю, взрыв будет такой сильный, что флотилия взлетит на воздух, а самолеты посыплются в воду дождем расплавленного алюминия. Если он не сумеет добраться до парохода Зверюги, он бросится на подводную лодку или вообще на первый попавшийся корабль. Это уже не играет роли. Осторожно, подозрительно он начал подниматься, точно глубоководная рыба, решившая в конце концов раз в жизни одним глазком взглянуть на солнце. Стрелка медленно вернулась на место, и солнце снова стало видно в воде. Вибрация двигателя больше не ощущалась; слышал он только, как тихо плещет в колпак вода, бесстрастная стихия, движимая луной. Над ним стала вырисовываться маленькая тень, одна-единственная. Это был пароход Зверюги. Броуз всплывал, пропуская пароход мимо себя. С легким щелчком прекратился шум у него в ушах. Подводная лодка исчезла, и следа ее – клокочущей воды – не было видно. Броуза стала бить дрожь, и он вдруг спиралью ушел на глубину пятнадцати футов. Снова кругом была бледно-зеленая прозрачность, стеклянный шар. Он определил по хронометру, когда будет находиться точно посередине между пароходом и конвоем. Возможно, какой-нибудь корабль или самолет немедленно откроет по нему огонь и тем самым уничтожит и Зверюгу, и свой собственный флот. Он медленно поднялся на уровень шести футов, потом трех футов – и вдруг выпрыгнул, выставив колпак над водой.
Он вскрикнул. В океане света от горизонта до горизонта лежал конвой. Море бороздили сотни серебристо-серых броненосцев и линейных кораблей, они глубоко сидели в воде, и антенны радаров придавали им фантастический вид; а между ними бесчисленные легкие крейсеры, флагманы, торпедные катера, эскадренные миноносцы, минные тральщики, корветы, канонерки, фрегаты, все они весело дымили и гудели, – необозримый город на сверкающей воде, а над ним голубое рокочущее небо, кишащее самолетами: они кувыркаются, играют, то садятся на посадочные площадки авианосцев, то поднимаются вновь. Белоснежный гидроплан, вздымая пену, опустился меж кораблей, а низко над ним пролетел истребитель; на большой высоте чертили по небу круги и пентаграммы тяжелые бомбардировщики. Секунды проходили, а Броуз сидел не шелохнувшись и не мог наглядеться. Огромное тело Зверюги! А черный пароход с густым дымным плюмажем посреди пустого пространства – сердце Зверюги – был разукрашен флажками и полон веселой музыки. Да, там играла духовая музыка, она, замирая, разносилась над морем. Броуз, всхлипнув, вцепился в руль и начал погружение. На миг безудержный праздник раздвоился у него перед глазами, над головой забурлила пена, и вода сомкнулась над ним. Он видел солнце в последний раз. И это оказалось не страшнее, чем знать, что никогда больше не увидишь какой-то камешек в чужой стране.
Под водой до Броуза дошло, что он еще жив. Что же случилось? Его не могли не заметить, кварцевый колпак, уж наверное, сверкал на солнце, как бриллиант. Может, охрана до того заработалась, что приняла его машину за свою собственную? Наверное, никому не могло прийти в голову, что враг сумел проникнуть так далеко. А может, здесь, в центре, всем было слишком весело, чтобы быть бдительными.
Он поплыл с такой же скоростью, что и караван, будто он принадлежал к нему смертоносная бацилла в крепком, как железо, теле. Ему нечего было бояться. Он поднял перископ и навел его на пароход Зверюги. Пароход, разукрашенный флажками, шел в трехстах метрах впереди него. Броуз взглянул на свои приборы. Горючего у него оставалось больше чем на три часа, но кислорода не хватит и на два. Слишком он много задыхался, плакал и кричал.
Так двигался он вместе с караваном, в голове у него повторялся флот, гармонически упорядоченный рой загадок, мир, быть может, полный указующих перстов и устремленных на него глаз, а в перископе – блистающая картинка: сердце каравана, увенчанное дымным плюмажем, но музыка не слышна.
И вдруг на него напала икота, как некогда на одного папу римского напала икота от двухтысячелетнего христианства. Это была какая-то особенно зловредная икота, исходившая из самой глубины его нутра, он икал каждые три секунды, и всякий раз, как он икал в свой кислородный аппарат, машина делала скачок – что-то разладилось в двигателе, и пароходик то выпрыгивал из поля зрения, то, дрожа, возвращался на место. Он задерживал дыхание, глотал, менял позу, напрягал мышцы живота, но икота продолжалась с регулярностью хода часов. Он истерично вцепился пальцами в руль, с ужасом чувствуя, как икота исподволь разрушает его личность – кирпичик за кирпичиком, винтик за винтиком, – и этот ужас довершил разрушение. Столбом белого дыма поднялся в нем страх. Он дрожащей рукой убрал перископ и дал полный газ. Океан вокруг забурлил. Вот сейчас, сейчас! Перед ним лежали последние метры его жизни. В воде снова тихо звучал перестук парохода, вдалеке обозначилась его тень, перестук становился громче, и наконец из него материализовался пароход. Вот он над ним, вот его киль с беспомощно роющим воду винтом. Черный и грохочущий, он нависал над Броузом. Броуз икнул до судороги – смерть Зверюге! – увидел порванный шнурок ботинка, угол балкона своего сожженного дома, пробор в волосах отца и, подавляя тошноту, дернул на себя руль. С ревом повернулись ржавые, обросшие раковинами лопасти, пароход скользнул над ним, и наступила тишина.
Икая и плача, Броуз пришел в себя и осознал тишину. Он автоматически повернул машину и растерянно попытался проникнуть в самого себя. В последнюю минуту он ушел на глубину. Почему же, почему? Теперь флот должен был уже взлететь на воздух, и война должна была закончиться. Почему он ушел на глубину? Не потому, что он не может умереть – он может умереть! – но все вдруг стало немыслимо. Если не смерть героя – то смерть немыслима. Он не мог умереть. Он икал, его чуть не вырвало, он поднял перископ и поискал Зверюгу. Нашел и сразу же кинулся на нее.
Когда он еще раз прошел под пароходом, он уже был развалиной. Смерть Зверюге! Рот его наполнился блевотиной, она хлынула в кислородный аппарат. Все это глупости! Его воля – адмирал с моноклем, и он остался один на белом свете! Он нашел пароход, убрал перископ и ринулся сквозь воду, в отчаянии бормоча:
– Andra moi énnepê, Móesa, polúlropon hós mala pólla
Plánchtê epéi Troïés niërón ptoliëtron epèrsen…
Так Броуз кидался под водой на Зверюгу, раз за разом, то с одной, то с другой стороны, то спереди, то сзади, кидался на неуязвимую Зверюгу, которая под веселую духовую музыку следовала своим путем – к себе на родину.
В конце концов – тогда он давно уже потерял из виду караван и неистово и бессмысленно метался на большой глубине – перед глазами у него почернело, он упал головой вперед и выпустил руль, у него больше не было кислорода, чтобы икать, и долгие часы он медленно скользил в глубину со своей машиной, слегка поворачиваясь вокруг своей оси и кивая колпаком, как задумчивая рыба; колпак был слегка продавлен, а в конце пути он почти незаметно остановился в мягком чернильном мире среди светящихся чудищ, вымерших миллионы лет назад. И там его машина вместе с ним вяло и сонно зарылась в песок.
Но раз в несколько столетий в ночь вторгается тихое парение и жужжание, мираж – это он сам, сознание, что он существует, безграничное удивление: Бернард Броуз… Бернард Броуз…
Ремко Камперт
Перевод А. Орлова
ПОЕЗДКА В ЗВОЛЛЕ
Когда Петеру Гимбергу почти исполнилось тринадцать лет, в самом конце летних каникул его на денек отпустили с отцом в Зволле. Петер Гимберг жил с матерью в Гааге. Отец ушел от матери, когда Петеру было шесть лет, и жил в Антверпене; Петер видел его редко. В Зволле Петеру не очень хотелось, лучше бы отец взял его на несколько дней в Антверпен, но отказаться от поездки было трудно. Не только потому, что у него пока нос не дорос отказываться от предложений взрослых. А еще и потому, что из отцовского письма, адресованного матери (Петер тайком прочел его), было ясно, какие большие надежды возлагал господин Гимберг на эту поездку, считая ее приятным сюрпризом для сына.
Правда, в приглашении было и кое-что заманчивое. Прежде всего заночуют они в гостинице, а это рождало в душе Петера восхитительное сознание, что он вполне взрослый человек, ведь рядом не будет матери с ее вечной опекой, напоминающей ему об истинном его возрасте. Непродолжительность посещения Зволле также подкрепляла ощущение взрослости; у взрослых никогда нет времени для того, чтобы надолго задерживаться в одном месте, их пребывание везде и повсюду обусловлено необходимостью, в противном случае все их дела пойдут прахом. К тому же у его отца, помогающего снабжать голландцев бельгийским пивом и по своим пивным делам бывающего в Зволле, новейшая модель «студебекера», а так как у большинства друзей Петера отцы не поднялись выше «фольксвагена», это тоже стало одной из приятных сторон предстоящей поездки. Пускай его родители разошлись, зато отец живет за границей и ездит на дорогой машине, он не раз бывал в Париже и присылал оттуда Петеру цветные открытки, открытки с Эйфелевой башней, с видами Сены и со всякими другими видами.
Он горячо надеялся, что кто-нибудь непременно заметит его вместе с отцом в «студебекере», и случай – этот фокусник, чья прямо-таки пугающая ловкость заставляет нас порой забыть о главном его назначении: удивлять и развлекать детей, – был к нему благосклонен и извлек из его ноздри золотой, то есть поместил его дружка Вима Энкелаара, отец которого не поднялся выше мопеда, на тротуаре возле перекрестка, не далее двух метров от бледно-розового «студебекера», чуть слышно ворчавшего в ожидании зеленого света.
Петер постучал по стеклу, но Вим, болван, его не услышал. Лишь в самый последний момент, когда транспорт на другой улице остановился, Вим взглянул на «студебекер» (теперь золотой был вынут из уха Петера!), и Петер мог с большим удовольствием проследить все изменения Вимова лица: сначала он его не узнал, затем не поверил своим глазам и, наконец (уже загорелся зеленый свет, и машина тронулась с места), позавидовал.
Когда они выехали из Гааги на автостраду, путешествие стало менее увлекательным. Отвыкнув друг от друга, и отец, и сын испытывали неловкость и никак не могли придумать тему для разговора. Плоский зеленый пейзаж с неизменными коровами, пасущимися на скошенных лугах по обе стороны шоссе, вскоре наскучил Петеру; его раздражало, что их все время обгоняли другие, не столь шикарные автомобили, так как отец ехал медленно и осторожно, но сказать об этом он не решался. Один раз он попытался было, но ничего не вышло. Отец просто-напросто ответил:
– Эта скорость больше той, которая безопасна для нас.
Они съели бутерброды и банан, полученные в дорогу от матери, и не увидели ни одной аварии.
Когда они подъезжали к Апелдорну, стало пасмурно и начался дождь.
– Жаль, – сказал господин Гимберг, – здесь есть неплохой парк с аттракционами, но теперь идти туда нет смысла.
Это замечание Петеру не понравилось, поскольку означало, что отец, так же как мать, продолжает считать его ребенком. Он включил радио: по первой программе мужской голос исполнял (о мучительное совпадение!) песню под названием «Вместе съезжаем с горы».
Между Апелдорном и Зволле, возле деревни Эпе, господин Гимберг вдруг притормозил и свернул в сторону от шоссе.
– Сюрприз, – сказал он.
Он захотел показать Петеру дом, где семья Гимберг – тогда еще молодая и, несмотря на материальные трудности, счастливая и дружная – в последнюю зиму оккупации отметила радостное событие: рождение сына Петера. За деревней асфальт сменился брусчаткой, которая через несколько минут с облегчением уступила место ухабистому проселку. Сосны по обе стороны от дороги иногда отступали назад и создавали живописный, но из-за непрерывного дождя все-таки скорее печальный фон для жилищ, получивших у маклеров прозвище «веселенькие виллы», то есть для угрюмых домов, нижняя часть которых была сложена из камня, а верхняя – из потемневших от времени бревен.
У одного из домов машина остановилась. Отец опустил боковое стекло и поглядел на дом.
– «Летние радости», – сказал он, и действительно это название было написано закругленными белыми буквами на большом сером валуне у ограды. – «Летние радости», – повторил господин Гимберг, и что-то в его голосе заставило Петера почувствовать себя потерянным, словно он вдруг заблудился и некому было показать дорогу.
Немного погодя это чувство сменилось смущением, до того сильным, что Петер почти утратил способность видеть. Он стоял вместе с отцом в комнате «Летних радостей», которую отделяла от улицы лишь наружная дверь, а напротив стояла испуганная девочка – красивей ему не приходилось видеть даже в кино. Она напомнила Петеру принцесс из тех сказок, которые мать читала вслух, когда он был совсем маленьким. Сказки были с картинками, и принцессы на этих картинках всегда казались ему скучными, капризными существами, когда же он увидел одну из принцесс воочию, он понял, что очень ошибался. И даже если б он не ошибался, если б она тоже была скучной и капризной (что казалось ему невероятным), все равно красота ее подчинила бы себе недостатки – так солнце заставляет одинаково ярко блестеть здания тюрем и детские площадки, узкие переулки и пригородные виллы.
– Твоих родителей нет дома? – услышал он вопрос отца, и девочка, бывшая, видимо, постарше Петера (может быть, на год), шагнула назад и произнесла:
– Да, менеер.
«Мы не воры, не разбойники», – хотел сказать ей Петер, но язык его не слушался, отец же тем временем объяснял девочке, что раньше, много лет назад, жил в этом доме и что Петер (который, покраснев и ненавидя себя за это, рассматривал носки ботинок) родился здесь, в комнатке наверху.
Они поднялись по лестнице. Девочка нерешительно последовала за ними, и Петер, шедший позади отца, проклинал правило, по которому женщин не следовало пропускать на лестницах вперед. Ведь он чувствовал, в этом случае как раз следовало пропустить девочку вперед, потому что дом был ее, а они с отцом ворвались в него, хотя и по уважительной причине. Когда же вдобавок оказалось, что комнатка, в которой Петер (при шипении и ярком свете карбидной лампы) родился, была теперь комнаткой девочки, ему стало и вовсе не по себе. Он надеялся, что девочка поймет, что он не мог поступить иначе, что беспокойство ей причинил отец, а он, Петер, совсем не похож на своего живущего в Бельгии отца и видится с ним не чаще трех раз в год, что сам он нипочем бы такого не сделал, что он никогда (но об этом последнем обещании он вспомнил лишь много лет спустя) не войдет в сегодняшнюю жизнь совершенно незнакомых людей, чтобы еще раз ощутить под ногами полы́ им же самим разрушенного прошлого.
– Кран до сих пор плохо закрывается? – спросил господин Гимберг, и девочка, удивленно подняв брови, поглядела на умывальник, словно видя его впервые, а затем, не зная точно, это ли им от нее нужно, подошла к умывальнику, повернула кран, пустила струю воды, снова плотно завернула кран и тихо ответила:
– Нет, менеер.
Но это видел и слышал один только Петер, потому что отец открыл окно, высунулся, несмотря на дождь, наружу и сказал минуту спустя:
– Вот первое, что ты увидел, Петер, а когда я стоял с тобой у окна и показывал тебе сад, по засыпанной снегом тропинке прошли два немецких солдата, но у меня было удостоверение личности и, кроме того, уже несколько часов у меня был ты, а ты ведь знаешь, что такое немцы и дети. Впрочем, нет, ты этого, конечно, не знаешь.
Но Петер не слушал отца. С трудом подавляя смущение, он смотрел на девочку, водившую указательным пальцем по крану. Он проследил ее взгляд и, ощутив сладкий ужас, обнаружил, что отражение ее глаз наблюдает за ним. Отец повернулся, вздохнул, поглядел на часы и сказал:
– Пойдем, нам надо ехать дальше.
Остаток пути до Зволле они проехали быстро, только Петер даже не заметил этого. И номер в респектабельной гостинице (запах пыльных ковров и камфары, высохшая земля под темно-зелеными папоротниками в холле) не вызвал у него того радостного возбуждения, на какое он рассчитывал перед началом путешествия. В номере стояли две кровати, двухспальная, которую занял отец, и диван-кровать, предназначенный Петеру. Помимо этого, там был высокий коричневый шкаф с зеркалом, два простых стула и маленький узкий стол у окна, выходившего в уютный сад, где на белом гравии блестели мокрые от дождя оранжевые скамейки. Вдалеке, за серыми крышами низких домов, между двумя деревьями Петер заметил часы на башне собора. Десять минут третьего.
Господин Гимберг умылся, надел свежую рубашку и договорился с Петером о встрече в номере в половине шестого, чтобы вместе поужинать и, может быть, пойти в кино, пусть Петер пока выяснит, идет ли здесь что-нибудь приличное – например, музыкальный фильм или вроде того.
– Держи, – сказал господин Гимберг, – мельче денег у меня нет, но ты все не трать, слышишь! – и дал сыну бумажку в десять гульденов.
Когда он ушел, Петер подошел к окну и посмотрел наружу. Дождь уже почти перестал. Белые облака, словно сжатые кулаки, плыли в воздухе, но между ними и над ними небо было блекло-голубым, как застиранные шорты. На оранжевую скамейку опустился скворец и начал чистить перышки.
Он шагал по улицам Зволле и думал о девочке. Они снова стояли в комнате и глядели друг на друга в зеркало. «Мне жаль, что мой отец такой бестактный», – сказал он. На заднем плане смутный контур отца почти растаял. Девочка улыбнулась. «Ты одна?» – спросил Петер. Она кивнула. «Я тоже один, – сказал он. – Мой отец сидит в антверпенской тюрьме, а мать похоронена на кладбище в Гааге». Он ехал вместе с девочкой в «студебекере», и они обгоняли все машины, а глаза их непрерывно встречались в зеркальце.
Он прошел мимо кафетерия, но, хотя был голоден, не решился туда войти, потому что возле дверей, лениво опираясь на свои блестящие мопеды, стояли здоровенные подростки, молча провожавшие его презрительными взглядами. А когда через некоторое время он хотел было зайти в бакалейную лавку, чтобы купить плитку шоколада, то вдруг сообразил, что и сюда ему нельзя, ведь у него одна-единственная бумажка в десять гульденов, полученная от отца, а бакалейщик может подумать: откуда у мальчика столько денег? – и вызвать полицию. Он побрел дальше, полюбовался афишами маленького кинотеатра, где шел фильм со Стеном Лоурелом и Оливером Гарди, который он уже смотрел в Гааге. Зато в следующем кинотеатре демонстрировалась музыкальная кинокомедия, и он запомнил название кинотеатра для сегодняшнего вечера.
На стоянке возле большого кафе он увидел роскошную машину с красными цифрами на белом номерном знаке; это была машина отца. Петер перебежал на другую сторону улицы, потому что отец занимался делами и едва ли хотел его видеть. А когда он почти бегом свернул за угол, перед ним оказался городской вокзал, и он чуть не заревел от досады и злости на себя за так бездарно проведенный в Зволле день, хотя он мог бы (теперь, правда, почти в половине пятого, было слишком поздно) сесть на поезд, идущий в Эпе, чтобы еще раз повидать девочку.
Он вернулся в гостиницу и, сев на край своей кровати, стал разглядывать себя в зеркале. Он увидел маленького, тощего мальчишку в слишком широких брюках (это были первые его длинные брюки) и слишком короткой курточке; так, по словам матери, всегда одевались воспитанные английские мальчики. Он закрыл глаза, а девочка проникла под веки, заставив его покраснеть. Небо снова затянулось тучами, дождь вдруг резко забарабанил по стеклу, по всему Зволле вспыхнули уличные фонари – так сразу стало темно, – и отец, пахнущий спиртным, вошел в номер.
Потом, вечером, в конце фильма, когда певец целовал танцовщицу, которую все время преданно любил, из глаз у Петера брызнули слезы. Было уже десять часов, у кинотеатра вокруг нескольких визжащих и хихикающих девиц толпилась большая компания шумных парней, швейцар гостиницы читал взятую в библиотеке книгу, а в номере Петер разделся и получил от отца инструкцию о том, как правильно складывать и вешать на спинку стула свои брюки.








