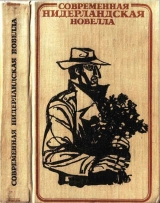
Текст книги "Современная нидерландская новелла"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
На следующее утро, когда светило солнце и небо было безоблачным, они поехали обратно в Гаагу.
– Поедем через Элбург, – сказал господин Гимберг, натягивая кожаные перчатки. – И остановимся в Хардервейке, чтобы поесть копченого угря.
Пожалуйста, отец, папа, папочка, – как мне лучше тебя назвать – поедем через Эпе, думал Петер, но вслух сказать этого не решился. Поедем через Эпе и посмотрим на комнатку, в которой я вчера родился.
МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ
Сегодня у моего сводного брата день рождения. Отец обязательно хочет навестить его, хотя весьма вероятно, что отца там не примут. Мы пойдем пешком, ибо такси отец считает неоправданным расточительством, а трамваев он избегает, с тех пор как вот уже несколько лет двери вагонов открываются и закрываются автоматически.
Едва мы выходим из дому, начинается дождь. Я оставляю отца в крытой галерее и бегу обратно за зонтом. Тетя Бесси уже вынесла его в прихожую. Она пытается всучить мне еще и пару отцовских калош, но я отказываюсь и собираюсь снова выбежать из квартиры, как вдруг звонит телефон.
Это меня: Элли. Сегодня днем она не придет, потому что из Австралии приехал ее дядя и у них намечена целая культурная программа: поездка по каналам, посещение музея, обед в здании порта, – а родители желают взять ее с собой. Пока ты молод, семья относится к числу мелких жизненных неудобств.
Я болтаю с ней и одновременно рассматриваю себя в зеркале, висящем напротив телефона. Мне восемнадцать лет, в прошлом месяце я признан негодным к военной службе. Думаю, я просто показался им нескладным. У меня длинные по моде волосы и жиденькие усики, но они мало подходят к моей прическе, стало быть, я их сбрею. Я хочу быть писателем и надеюсь непременно стать им.
Элли – славная девчонка, на год моложе меня, только она не знает, чего ей надо. Хочет вроде бы сниматься в кино, но у нас тут нет никакого кино, по крайней мере нет того, что я назвал бы кино. Впрочем, она еще ходит в школу. «Когда разделаешься со школой, ступай в театральное училище, – говорю я. – С этого и начни». Она обещала подумать, но говорит, что, на беду, не в силах ничего запомнить наизусть. «Там тебя обучат», – говорю я. Хотя кто знает! «Вот-вот, – говорит она, – придется ведь сдавать вступительный экзамен и шпарить что-нибудь из головы, чтобы показать свои способности». По мне, театральное училище – ерунда. Для мужчины, конечно. Я вижу иногда ребят оттуда – ну точь-в-точь пятнадцатилетние девчонки. Вечно болтают об известных актерах, о том, как бы побольше выпендриться, – даже смешно. Если ты хоть немножко мужчина, лучше стать писателем. Но торопиться я не буду, останусь пока тем же, кем был до сих пор, – никем.
Отца, ясное дело, в помине нет там, где я его оставил, он сидит в кафе на углу. Ему как раз подали вторую кружку пива. Я беру колу, так как он не любит пить один. Когда находится в общество, разумеется. Он всегда начинает день с пива да и кончает его, собственно, нередко тоже пивом. Тогда, по его словам, все течет превосходно. Его старческие щеки уже покраснели. На седых усах – клочья пены. Он пробует шутить с женщиной за стойкой, но она не очень-то на него реагирует.
Когда мы снова выходим на улицу, дождь перестал.
– Дай мне зонт, – говорит отец, – ты не умеешь с ним обращаться. – И начинает помахивать зонтом, как тростью.
Моего сводного брата зовут Паул, сегодня ему исполняется сорок восемь лет. У него не все в порядке с головой. Живет он в отдельной комнате на полном пансионе у госпожи Мурман. Она страдает галлюцинациями или чем-то вроде этого. По ночам она слышит стук в окно и часто разговаривает с маленькой девочкой, которую никто больше не видит. Впрочем, разговором это назвать трудно. Она дает девочке указания: выпей молока, надень ботиночки, убери скорее этот старый хлам и так далее. Она постоянно твердит, что Паул день ото дня становится все ненормальнее, что иной раз прямо страшно войти ночью в его комнату, что для таких, как он, существуют отличные учреждения. Но Паул вовсе не такой уж ненормальный, просто он боится людей. Он никогда или почти никогда не выходит из дому. И не работает, во всяком случае не делает того, что люди считают работой, профессией, службой и тому подобным. Он занимается ерундой: составляет небольшие композиции из марок, отклеенных от конвертов. Настоящие миниатюры, довольно красивые, но если увидишь одну такую композицию, то, по-моему, можно считать, что видел и все остальные. Подарок, который мы с отцом купили ему ко дню рождения, – это большой конверт, а в нем тысяча марок. С гарантией, что одинаковых там нет.
Дверь открывает госпожа Мурман.
– Иди сюда, – говорит она. – На улицу нельзя. – А затем продолжает, обращаясь к нам: – Слишком опасно это для ребенка, из-за такого количества транспорта. Входите же.
– У Паула день рождения, вот мы и пришли, – говорит отец.
– Думаю, он еще спит. Я его пока не слышала. Но сегодня ночью он опять не ложился. Все ходил по комнате. Перестань же наконец, несносный ребенок!
– У девочки начинается трудный возраст, – говорит отец и исчезает в туалете: две кружки пива дают себя знать.
– Как его дела? – спрашивает госпожа Мурман таким тоном, словно он уже при смерти.
– Вполне прилично.
– Хорошо ли о нем сейчас заботятся?
– О да.
С тех пор как умерла мать (моя, а не Паула) – десять лет назад, от рака, – об отце и обо мне заботится тетя Бесси. Пять раз в неделю мы едим рис, потому что она приехала из Индии. «Зовите меня тетей Бесси», – сказала она, едва появившись у нас. Мне-то нетрудно, а вот отцу – еще как. В столь почтенном возрасте уже нет смысла называть кого-то тетей. Обычно, обращаясь к ней, он говорит «госпожа Вассиг» и тут же поправляется: «Барышня». У нее легкий немецкий акцент, но она уверяет, что родом из Австрии, это якобы большая разница. Госпожа Мурман никогда ее не видела, но ни на грош ей не доверяет. Сводный брат живет в ее доме лет двадцать, и мне кажется, она вовсе не прочь иметь возле себя и отца. Насчет отличных учреждений для Паула она говорит, просто желая услышать от нас, что Паул нигде не получит такого прекрасного ухода, к какому привык у нее. А услышав это, кивает головой и отвечает: «Да, лучше, чем здесь, ему нигде не будет». Не дожидаясь отца, мы поднимаемся по лестнице. Госпожа Мурман стучит в дверь. Стучит раз, другой и открывает. В комнате кромешная тьма.
– Он еще спит, – говорит госпожа Мурман. – И это в день рождения, как он только может.
Она входит в комнату и поднимает шторы. Сзади слышно, как отец, потихоньку кряхтя, идет по лестнице.
Кровать в комнате пуста, но видно, что на ней спали.
– Ничего не понимаю, – говорит госпожа Мурман. – Я ведь не слышала, чтобы он ушел.
– Он не мог уйти далеко, – говорю я и указываю на одежду Паула, висящую на стуле возле кровати. И тотчас вижу самого Паула. Во всяком случае, вижу его голые ноги. Они торчат из-под кровати. И чуть заметно двигаются. Он наверняка услыхал, что мы пришли, и залез под кровать. Я молчу.
– А где же Паул? – Отец стоит в проеме двери, прижимая к животу большой конверт с марками.
– Его нет, – отвечаю я.
Я встаю возле кровати так, чтобы они не увидали его ноги. Впрочем, опасность и без того невелика – они оба близоруки, – но мало ли что.
– Ничего не понимаю, – говорит госпожа Мурман, на этот раз отцу. – Я не слышала, чтобы он ушел. – Она подходит к кровати и щупает белье. – Постель еще теплая.
– Странно, – говорю я.
– Он, наверное, в одном месте, – предполагает госпожа Мурман:
– Я только что оттуда, – говорит отец, – я бы его увидел.
– Заходи, отец, и садись, – говорю я. – Он явно вышел на улицу, может быть, за чем-нибудь вкусным.
– Он никогда не выходит на улицу, – говорит госпожа Мурман.
Отец, помедлив, входит в комнату и садится на мягкий стул, не выпуская из рук конверт с марками.
– Да, – говорит он, – лучше подождем здесь.
– Ничего не понимаю, – опять говорит госпожа Мурман.
– Да вы идите, – говорю я, – у вас, наверное, есть другие дела. А мы пока подождем.
– Ничего не трогай, – говорит госпожа Мурман, – упрямый ребенок! – И выходит из комнаты. – Если захотите кофе, позовите, я мигом сварю.
Ей никто не отвечает. Я украдкой оглядываюсь: ноги Паула исчезли. Тогда я сажусь на кровать, напротив отца.
– Ты, надеюсь, не заснешь, отец?
– Нет-нет, что это ты выдумал, сынок?
Паул лежит подо мной, мне кажется, я слышу его дыхание, но скорое всего, это плод моего воображения. Сегодня ему сорок восемь, и наш визит ему совсем не нужен, это я вполне могу понять. Дни рождения ужасны, визиты родственников – тоже не сахар, а сочетание этих двух событий можно пережить лишь с большим трудом.
Вероятно, есть и еще одна причина, но она связана с его больной душой – так это у них называется, – и мне ее не узнать.
– Отец, ты спишь.
– Я не сплю, я думаю, сынок.
– Ты кое-что забыл.
– Забыл?
– Когда вышел из туалета.
– Когда вышел из туалета?
– Я имею в виду расстегнутые брюки, отец.
Надо же! Он выпускает из рук конверт и начинает застегивать брюки. Конверт падает на пол. Я поднимаю его и кладу на стол. Стол стоит возле окна, заваленный марками и обрезками марок. Кроме того, я вижу там ножницы, пинцет, лупу, баночку с клеем и лист бумаги с почти готовой композицией в серых, голубых и желтых тонах.
Я смотрю в окно. Снова идет дождь, на улице ни души, но эта улица и в хорошую погоду очень тихая. Как человек выдерживает здесь год за годом? Я не из тех, кому все время нужно общество людей, иногда я часами сижу один в своей комнате и прекрасно себя чувствую, но жить так, как Паул, – нет, по-моему, это слишком. Правда, он гораздо старше меня; господи, он мог бы стать моим отцом, а мой отец – моим дедом! Наверное, в моем возрасте он был совсем другим. Этого я не в силах представить себе как следует, я знаю его только таким, как сейчас, таким он был для меня всегда. И то время, когда он был молод, не укладывается в моем воображении. Это было, образно говоря, сто лет назад.
Отец качает головой.
– И в прошлом году тоже, – говорит он немного погодя.
– Что «тоже»?
– Его тоже не было здесь в день рождения.
– Он, наверное, был, но не хотел нас видеть, – говорю я, так как люблю иногда расставить точки над «i».
– Какая разница? – Отец смотрит на меня печально. – Он всегда был чудной.
Это странная, невероятная история, которой, как полагает отец, я не знаю. Дело в том, что Паул воображает, будто отец убил его мать. Смешно, конечно, но он вколотил это себе в голову, и все тут. Во время оккупации она после ссоры с отцом угодила в канал и утонула. Паул думает, что ее столкнул туда отец. Однако, по словам госпожи Мурман, которая рассказала мне об этом, когда после стаканчика вина у нее развязался язык, мать Паула упала в канал сама по себе. Кажется, уличные фонари тогда не горели, из-за бомбежек. Англичане бомбили почти непрерывно, но в темноте теряли обзор и улетали обратно – так объясняла госпожа Мурман. (По мнению отца Элли, это – чушь. А происходило все потому, что они не знали своего местонахождения, не могли сориентироваться; и у меня такое впечатление, что он знает лучше госпожи Мурман. Он мне и рулоны черной бумаги показывал, которые они в войну вешали на окна, так чтобы свет не был виден с улицы, а не повесишь – заработаешь неприятности.) Как бы то ни было, отец и мать Паула поссорились, и она убежала из дому, а спустя некоторое время оказалась в канале. Отец, как обычно, лег спать, потому что убегала она не в первый раз. На следующее утро его вызвали в полицейское управление, так как они нашли его жену. Нечто подобное вполне могло случиться, и у Паула, по-видимому, уже тогда было не в порядке с головой, раз он мог подумать такое о своем отце. Не то чтобы отец совсем уж без греха, но убийца – это все-таки чересчур.
Отец достал носовой платок и высморкался. Щеки его слегка увлажнились. Ну и денек! Элли в музее с дядей, которого она до сих пор ни разу не видела, а я с отцом, распускающим нюни, в гостях у сводного братца, который спрятался под кроватью! Правда, если я намерен стать писателем, то это, разумеется, ценный опыт, который впоследствии очень пригодится. Чем у тебя его больше, тем лучше.
– Знаешь, отец, – говорю я, – за углом есть кафе.
Он кивает. Еще бы ему не знать!
– Пойди выпей там кружку пива, а я побуду здесь. Если через полчаса он не появится, я зайду за тобой, а появится – я тебя позову.
– Нет, сынок, я так не могу. – Отец решительно качает головой, хотя я вижу, что он уже дал себя уговорить.
– Иди, отец, – говорю я, – тебе же приятнее сидеть там, чем здесь. Его ведь нет, так какая разница?
Но отец считает своим долгом еще немного поворчать.
– Что он обо мне подумает, когда вернется и увидит тебя, а родной отец будет сидеть в пивной, – говорит он, но я вижу, как он уже хватается за подлокотники стула, чтобы приподняться.
– Да, ты прав, – говорю я. Мне хочется послушать, как он будет выкручиваться.
– Что ты сказал, сынок?
– Ты прав. Я только подумал, что там тебе было бы приятнее.
С минуту отец молчит. Руки его по-прежнему лежат на подлокотниках. Он явно размышляет.
– С другой стороны, – в конце концов говорит он, – ничего плохого в этом нет.
– Но и приятного для него тоже мало.
Однако он продолжает, словно не слыша меня:
– За кружечку пива он на отца наверняка не обидится. Тем более в такой день. Это ведь, собственно говоря, немножко и мой день рождения.
С чего он это взял, – неизвестно.
– Очень может быть, – говорит отец, уже решительно поднимаясь со стула, – что он сидит в том кафе или пошел туда за бутылочкой.
– Конечно, в пижаме-то, – говорю я.
– Пожалуй, я все-таки загляну туда, – говорит отец. – Я бы не удивился, найдя его там. – Уже в дверях он еще раз оборачивается: – Не забудь предупредить меня, если он появится.
– Постараюсь, – говорю я.
– Только, наверное, он сидит за углом. – С этими словами отец закрывает за собой дверь.
Мы остаемся вдвоем – Паул и я. Напевая вполголоса, я осматриваю комнату. Стены голые, свои композиции он хранит в папке, в шкафу. Книг у него нет, ни газет, ни журналов он не читает, радио не слушает. Непонятно, как можно выдержать такое!
Но однажды я с ним вполне прилично побеседовал, год или более тому назад, когда забежал сюда мимоходом. Я спросил его, почему он никогда не выставляется, ведь он мог бы добиться известности своими композициями. Он сказал, что ему этого не нужно. «Известность не имеет никакого значения, – сказал он. – С известностью или без нее – все равно помирать».
Я возразил, что мне было бы куда приятней умереть известным. Но он твердил свое: это, мол, несущественно, он получает удовольствие от создания своих вещей и в остальном не нуждается.
А по-моему, если это несущественно, если мы все равно умрем, то почему бы и не добиться известности? Честно признаюсь, я нахожу подобную теорию довольно-таки глупой.
Я кашляю, барабаню пальцами по столу – словом, поступаю как человек, который находится в комнате один и ждет другого. Но видимо, я могу ждать до посинения. Должен же он понять, что отца нет, а я остался. Или он уже и меня не хочет видеть? Даже если отец и убил мать Паула, я-то тут при чем? Господи, как трудно порой с людьми! Вечно одна и та же чепуха.
Конечно, может быть, ему стыдно лежать под кроватью, и поэтому он боится вылезать. А может, не хочет пугать меня, ведь он явно не знает, что я знаю, что он там. Вообще-то мне надо бы сказать: «Вылезай, Паул», но разве я ему нянька? Он сам туда залез, пусть сам и вылезает. Мне хватает забот и с отцом, и с его пивом, и с госпожой Вассиг, недоставало только с чокнутым сводным братцем возиться, лучше уж пойти работать санитаром в отделение номер три. Я многое терплю ради будущей писательской карьеры, но сколько же можно?
Ситуация начинает мне надоедать, но полчаса пройдет еще не скоро. Сначала я хотел было пересесть на стул, но тогда я не смогу отвести взгляда от его убежища. Поэтому я ложусь на кровать, предварительно слегка расправив одеяло.
Я прямо-таки ощущаю под собой тепло его тела и уже ясно слышу его дыхание. Возможно, он решил осторожненько намекнуть мне, что лежит под кроватью. Сначала хорошо слышное дыхание, затем время от времени покашливание, а под конец, может быть, и пение. Пусть делает, что хочет. Даже если он проткнет своим голосом матрац, исполняя национальный гимн, я не замечу его присутствия, пока он не вылезет из-под кровати.
Но ничего подобного не происходит, ведь что́ я слышу несколько минут спустя? Храп. Мой сводный брат Паул заснул под собственной кроватью.
Сперва мной овладевает ужасное раздражение – в конце концов, это уже слишком. Но вскоре, осознав весь комизм положения, я с трудом сдерживаю смех.
А затем меня охватывает какое-то ленивое спокойствие. Но мне вдруг рождается удивительная мысль, что все так и должно быть. Я бы назвал это чувством воскресно-полуденным: ты ничего не в силах изменить, можешь только ждать изменений, а раз так – зачем волноваться? Я даже начинаю восхищаться Паулом, ведь, чтобы заснуть в такой ситуации, нужно немало. Нужен сильный характер. Впервые в жизни я начинаю сомневаться в ненормальности Паула. Он производит сейчас подо мной изрядный шум, там, наверное, пыльно. Может быть, попросту разбудить его, ну хотя бы разговором. Например, спросить: есть у тебя брат или нет?
Но пока я все это обдумываю, до меня доносится скрип лестницы и строгий голос госпожи Мурман. Паул сладко похрапывает. Я моментально сажусь и одновременно ударяю по кровати. Храп резко обрывается на испуганном вскрике, затем мгновение тишины и голос Паула:
– Что… что случилось?
Едва я успеваю сказать: «Тише ты! Молчи!» – как появляется госпожа Мурман.
– Ну и дела, – говорит она. – Этого чудака все еще нет?
– Еще нет. Я, пожалуй, пойду, не сидеть же тут целый день.
– И отец ваш, наверно, беспокоится, где вы, – подхватывает госпожа Мурман.
Похоже, она ждет, чтобы я ушел. Видимо, не доверяет мне из-за моих длинных волос, есть ведь такие люди.
– Не передадите ли вы ему наш подарок? – спрашиваю я, указывая на конверт с марками.
– Да, обязательно передам, – обещает госпожа Мурман, закрывая за мной дверь комнаты Паула. – То-то он обрадуется.
Надевая куртку, я не упускаю случая поинтересоваться, где маленькая девочка.
– Наверное, снова куда-нибудь спряталась, – говорит госпожа Мурман, и в ее глазах появляется едва заметный блеск. – Это у нее теперь прямо как мания. – И она почти выталкивает меня на улицу.
Войдя в кафе, я вижу, что отец уже принял дозу. Глазки его слезились, а пальцы раздулись больше обычного.
– Знаешь, в чем наша ошибка, сынок? – говорит он. – Надо было сначала послать ему открытку, что мы придем.
Я лишь говорю: «Да, надо было», ведь больше тут ничего не скажешь.
– Он бы тогда получил еще одну красивую марку, – кивает головой отец. Он ухмыляется и выглядит в этот момент немного фальшиво. Брюки его опять расстегнуты.
Боб ден Ойл
Перевод С. Белокриницкой
КРАБЫ В КОНСЕРВНОЙ БАНКЕ[16]
Яхек стоит перед зеркалом и вытирает после бритья щеки. Он почти вплотную придвигает свое круглое лицо к стеклу в поисках пропущенных остатков пены и видит при этом свой рот – неправильной формы, беззащитный. И видит, как левый угол рта опускается, благодаря чему лицо приобретает презрительное выражение, становится жестким, властным и энергичным. Странно – на самом-то деле его губы неподвижны: он не чувствует работы мышц, которая необходима для того, чтобы вызвать подобную метаморфозу. Вообще-то он много раз упражнялся перед зеркалом, добиваясь такого выражения лица, но до сих пор это ему не удавалось. Он быстро отворачивается от зеркала. Лучше всего сейчас же забыть об этом маленьком происшествии.
Придя на службу, он сначала борется за самые срочные дела, потом пьет кофе, намереваясь посвятить остальное время текучке. Он служит в главном управлении гигантского концерна по производству и продаже консервов. Должность у него незначительная, честолюбия нет, и он старается привлекать к себе как можно меньше внимания. Но именно поэтому при всяких служебных перестановках, награждениях и повышении жалованья коллеги побаиваются его. Они привыкли к открытой борьбе, в которой все средства хороши, и поведение Яхека им непонятно. Не иначе как у него есть скрытые возможности, о которых они и не догадываются; они не знают, чего от него ожидать, а это порождает злобу. Может, он заведомо настолько уверен в успехе, что не считает нужным участвовать в обычной конкуренции, может быть, он в родстве с кем-нибудь из директоров и в один прекрасный день неожиданно для всех вознесется к недосягаемым вершинам. Вдобавок Яхек хоть и лишен честолюбия, но далеко не лентяй. Правда, дела ему поручаются не слишком ответственные, зато они всегда сделаны вовремя – он просто не может иначе. Другие обычно из кожи лезут, демонстрируя свои деловые качества, а на то, чтобы работать, их уже не хватает. Сколько раз, бывало, господа с самого верха обращались за какими-нибудь срочными данными, и все оказывались не на высоте, только ничтожный Яхек, сам того не желая, мог тут же сообщить требуемые сведения. Это вызывает враждебность, которая неизменно разбивается о терпение Яхека.
За работой Яхеку удалось забыть утреннее происшествие, но за кофе это оказалось уже труднее. И вот он сидит с чашечкой в руке, уставясь в пространство, – пришло время осмыслить этот неприятный факт. «Ладно, – думает он, ставит чашку на стол, принимает рабочую позу и начинает рассуждать: – Что же все-таки произошло? Каждый день я бреюсь без всяких неприятностей… обыденность – величайшее счастье… и вдруг – на тебе. Может, виновато время года? Декабрь – самый темный месяц, тревожная пора всяких праздников. Кроме того, уже которую неделю льет дождь. По утрам в темноте, под дождем на работу, по вечерам в темноте, под дождем домой – это как-то угнетает».
Он чертит квадратик на лежащем перед ним листе бумаги. Потом делает из квадрата куб, пристраивает к нему еще несколько кубов. Надо же – видеть в зеркале, что рот у тебя искривился, хотя на самом деле он неподвижен. Но ведь этого не может быть! Даже непроизвольное рефлекторное движение всегда ощущается. А самое главное, пожалуй, – это выражение лица. Угроза и без того сомнительному будущему.
Яхек идет в уборную в конце коридора. Долго смотрит в зеркало на свой рот, медленно отводит глаза, потом снова бросает быстрый взгляд в зеркало. Рот пухлый, бесформенный, как всегда. Он стоит в полной тишине, никакие звуки сюда не проникают. Тишина нежно звенит у него в ушах. «Я есть, – думает он, – я есть; все совершенно обычно, и да будет так. Со мной ничего не может произойти – я этого не хочу, я этого не заслужил. Так пусть же все остается по-прежнему». Услышав, что кто-то, насвистывая, отворяет дверь, Яхек начинает судорожно вытирать руки.
– A-а, Яхек, – говорит вошедший. – Стоишь, значит, и руки вытираешь?
Яхек кивает, в глотке у него пересохло; что подумает о нем этот человек?
– Так-так, – говорит тот, – руки, значит, вытираешь, ха-ха.
Он открывает дверь одной из кабинок, насмешливо оглядывая Яхека. Яхек отвечает ему самым дружелюбным взглядом, на какой только способен, он не знает, что сказать, да и не уверен, стоит ли тут вообще что-то говорить. Усмешка медленно сползает с лица сослуживца.
– Да что ты, – говорит сослуживец, – я же ничего плохого не имел в виду, просто пошутил.
Он еще раз удивленно оглядывает Яхека и исчезает в кабинке, быстро закрыв за собой дверь. Яхек не понял последней фразы, он продолжает вытирать руки и случайно взглядывает в зеркало. И видит жесткое, волевое лицо, теперь уже и другой угол рта опущен.
Парализованный страхом, он смотрит в зеркало, медленно глотает слюну. Видит, как движется адамово яблоко, но рот, точно застыв, сохраняет форму.
Он смутно сознает, что это явление необходимо исследовать. Медленно открывает рот – рот в зеркале тоже открылся, но линия сохраняется, теперь его рот похож на серп луны в последней четверти, с этой жесткой извилины может слететь только проклятие или приказ. Земля уходит у него из-под ног, он хватается за раковину и закрывает глаза. А когда снова открывает их, рот в зеркале такой, каким был всегда, кошмарное видение исчезло.
Все снова как обычно. Он держит руки под струей холодной воды и ждет, пока утихнет сердцебиение. Слышит, как человек в кабинке спускает воду, и поспешно покидает уборную. Вернувшись в отдел, он старается незамеченным прокрасться к своему столу. Лежащие перед ним бумаги кажутся чужими и странными, цифры и буквы не образуют больше чисел и слов, а как будто превратились в бессмысленные каракули, нацарапанные без всякой связи друг с другом. Он не в состоянии спокойно думать, все попытки рассуждать логически подавляются одной всепобеждающей мыслью: то, что произошло сегодня утром за бритьем, не было случайностью, это явление повторилось и, вполне возможно, будет повторяться снова и снова. И кто-то уже видел его с таким ужасным ртом, как после этого жить? Впрочем, пока еще не все потеряно, но если так пойдет и дальше, он погиб, это несомненно.
Остаток дня он сидит, низко склонившись над бумагами, приложив руку к губам, как будто с головой ушел в работу. Хаос у него в мозгу приобретает все более устрашающие размеры, иногда ему хочется громко застонать, но он сдерживается. В пять часов, закутав подбородок в кашне, он отправляется домой. Идет дождь; не разбирая дороги, Яхек ступает по лужам, ноги у него промокли и застыли. Дома он, пряча лицо, просит квартирную хозяйку на этот раз подать ужин ему в комнату. Она согласна, но предупреждает, что только в виде исключения. Съев мясо, он вываливает остальное в целлофановый мешочек, намереваясь выбросить его завтра и таким образом избежать язвительных расспросов мефрау Крамер, «Может, сходить к врачу, – думает он. – Хотя при чем тут врач?» Он старательно отворачивается от зеркала над умывальником.
Беспокойно меряет он шагами комнату, садится и снова встает. Как жаль, что умер его старший брат, он всегда умел найти выход из положения. Слезы навертываются ему на глаза, он чувствует, что надо взять себя в руки, но не знает, как это делается. «Лягу спать, – думает он, – завтра все пройдет, все снова будет в порядке. Может быть, я застудил мышцы лица, я никогда не слыхал о таких случаях, но, наверное, это бывает». Он раздевается и ложится в постель, не почистив на ночь зубы. Лежит, подняв колени, и ждет, когда придет сон, но сон не приходит, мысли скачут в диком круговороте, от которого его физически тошнит.
Но все-таки надо заснуть! Он вдруг вспоминает, что в шкафу есть снотворное, эти порошки ему выписали полтора года назад, когда он был так потрясен смертью брата. Он встает и лезет в шкаф, где каждая вещь лежит на своем определенном месте. Не зажигая света, подходит к умывальнику, наливает стакан воды и развертывает пакетик. Хочет принять порошок, но пакетик оказывается пуст: возясь в темноте, он все просыпал. Твердо решив не смотреть в зеркало, он дергает за шнурок и при ярком электрическом свете открывает второй пакетик. Хотя руки у него сильно дрожат, на этот раз ему удается высыпать поблескивающий порошок себе в рот. Он берет стакан с водой, чтобы запить, при этом случайно взглядывает в зеркало и видит то, что в общем и ожидал увидеть – этот скотский рот. Может, он уже давно с таким ртом? Похолодев, он смотрит на себя, в желудке у него сосет.
– Господи Иисусе, – говорит он; рот его движется, произнося эти слова, презрительно опущенные углы губ убеждают его, что этот новый рот пришел к нему, чтобы остаться. «Я не могу больше жить», – думает он в панике. Проглатывает порошок, запивает водой, трясущимися руками открывает еще два пакетика и их содержимое тоже высыпает в рот. Потом гасит свет и идет спать, но, передумав, возвращается, чтобы принять четвертый порошок, – полумерами здесь не обойтись.
На следующий день Яхек просыпается около полудня с тяжелой головой. Еще с полчаса он лежит в постели, приходя в себя и собираясь с мыслями. Ну вот, проспал, в отделе небось переполох: за все годы службы он не пропустил еще ни дня, кроме тех двух раз, когда ходил на похороны. Он удивлен, что его это не беспокоит: он не знает, что безразличие – побочное действие снотворных порошков. Умываясь, Яхек снова видит рот. Теперь он уже не так испуган, может, со временем ему удастся привыкнуть?
Если присмотреться, не так уж это и страшно: конечно, приятным лицо не назовешь, но, во всяком случае, в нем чувствуется известная значительность, сила. И то сказать, чем уж так хорош его прежний рот? Халтурная работа – неровная дырка, как будто конверт вскрыли руками.
Он одевается, идет по коридору и стучит в дверь к мефрау Крамер. Просит ее позвонить на службу и сказать, что у него тяжелый грипп – болезнь, мысль о которой сама собой напрашивается в эту холодную погоду. Он слышит свой голос и смутно сознает, что в нем звучит что-то вроде грубого окрика: он и говорить стал жестче, чем раньше. Квартирная хозяйка, привыкшая к робкому, тихому Яхеку, в ужасе смотрит на него. В ее собственном голосе всегда слышится укоризна, будто все ее постоянно обижают. С Яхеком она обычно держится так, словно еле терпит его в доме. Она готова разразиться привычными упреками – неужели он не может сам позвонить, что она ему прислуга, что ли? – но видит его рот, вздрагивает от его тона: этого человека она не знает. Неожиданно для себя она говорит: «Хорошо, менеер Яхек», – и, провожая его взглядом, когда он удаляется в свою комнату, замечает, что даже походка у него стала более уверенной. После долгих поисков в телефонной книге она звонит в управление, начальник отдела со смехом отвечает: «Господи, я и не заметил, что его нет!» Она не знает, надо ли ей тоже засмеяться, она вообще не часто смеется, а к тому же все еще видит перед собой преобразившегося Яхека.
Вернувшись к себе в комнату, он садится на постель: что делать дальше, неизвестно. Он стаскивает ботинки, намереваясь переобуться в комнатные туфли; его снова клонит в сон. Он ложится, ему кажется, что он только на минуту закрыл глаза, но, когда он снова открывает их, в комнате уже почти темно, будильник у кровати показывает половину шестого. Теперь действие снотворного кончилось, безразличие исчезло, и все проблемы как по команде снова выстроились перед ним.
Яхек садится, закрывает лицо руками и пытается думать, но в голове у него хаос. Ни на что не надеясь, он подходит к зеркалу – и, конечно, опять видит свой новый рот. Видит он и щетину. Надо бы побриться. Это можно сделать и на ощупь. Он вынимает из ящика маленькую дорожную бритву, включает ее и водит жужжащим аппаратиком по лицу до тех пор, пока оно не становится совсем гладким. Потом приводит в порядок одежду; есть ему не хочется, но в желудке сосущая пустота, которую надо заполнить. А стало быть, придется снова просить мефрау Крамер, чтобы она подала в комнату: ужинать вместе со всеми, как заведено в этом доме, выше его сил. Он собирается с духом, но тут в дверь стучат. Он открывает и видит мефрау Крамер с горячим ужином на подносе. Он молча отступает на шаг, она так же молча входит, ставит поднос на стол и, отвернувшись, спрашивает, как он себя чувствует, но Яхек слишком ошеломлен, чтобы отвечать. Хозяйка поспешно выходит из комнаты: он замечает, что она не волочит ноги, как обычно, желая показать, до чего тяжело ей с ее больными ногами что-нибудь сделать для постояльца.








