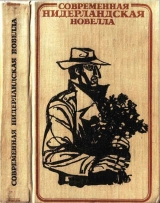
Текст книги "Современная нидерландская новелла"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
– Давай пересядем, – предложил почтальон. – Тогда мы увидим его целиком. Такая возможность бывает раз в жизни.
Поддерживая друг друга, они повернулись на узкой скамейке лицом к широкому тупому носу лодки и невероятному солнцу, которое с нарастающей скоростью тянуло их к себе, манило, сияющим кругом медленно опускаясь за горизонт.
– Дождь перестал, – заметил почтальон.
Да, действительно. Он медленно снял с головы черную форменную фуражку.
– Ну и что же за этим последует?
Он повернулся. Почтальон протягивал ему руку. Молча он пожал ее.
– Ты готов к этому? – спросил почтальон, выбивая трубку о борт лодки, и вдруг, осознав бессмысленность совершаемого действия, резко швырнул трубку за борт.
Он ободрился.
– Да, конечно. Все будет хорошо.
– Ты-то, в конце концов, помоложе.
– А, один раньше, другой чуть позже…
– …Но все мы там будем, – закончил почтальон.
Они немного посмеялись друг над другом.
– Упрись ногами, – посоветовал почтальон, и он уперся каблуками в планку на дне лодки. Он смотрел на летевшие мимо берега. Лодка скользила по середине канала в направлении красного заходящего солнца. Его галстук полоскался по ветру, и он слышал, как хлопал форменный воротник почтальона.
– Боже мой! – еще прокричал он. – Как же быстро она несется. Как же быстро!..
Геррит Крол
ЖИЛОЙ ФУРГОН
Перевод И. Волевич
На южной окраине города, которая застраивалась быстрее других, сохранился жилой фургон. Раньше он стоял в тени двух деревьев. Потом деревья выкорчевали, а ямы и всякие там канавки самосвалы засыпали песком. Разметили кварталы, забили сваи, уложили фундаменты, и вот уже там, где еще весной паслись коровы, выросли шеренги домов. Наступила осень, новоселы затопили в своих просторных холлах камины и, стоя в обнимку, глазели в окно на «старый барак» – так они называли фургон. Надев сапоги, они выходили в садик сеять траву и сажать цветочные луковицы. Через какое-то время мусорщики убрали валявшиеся на улицах строительные отходы; в каждую ямку высадили дерево, а из деревни стал приезжать молочник – район постепенно благоустраивался. По утрам мужчины с портфелями шли на службу и домой возвращались затемно. Женщины – кто с ребенком на руках, кто с ребенком во чреве, кто пока еще без ребенка – стояли у окон, а по выходным рядом с ними стояли и мужья. Это уже был настоящий городской район. Появилось футбольное поле с двумя воротами. А фургон так и не двинулся с места.
Своей складной дверью и подножкой фургон напоминал автобус. Колеса сняли и подложили деревянные чурбаки. В окна вместо стекол вставили куски черного картона, только переднее окно было застеклено, а над ним, словно связывая штабеля ящиков из-под пива, громоздившихся за фургоном и по его сторонам, была вывеска с красной надписью: «Валгалла». К последней букве «а» был привязан кабель, протянутый наискось через двор от ближайшего фонарного столба; куст бузины – вторую опору кабеля – городские строители вырубили. Обитатели фургона редко показывались на глаза; и хотя новоселы квартала частенько с любопытством поглядывали из окон, они только через несколько месяцев смогли рассказать навещавшим их по воскресеньям родителям, что фургон служит домом женщине и двум мужчинам, по-видимому братьям, насколько можно разглядеть при свете уличного фонаря, но женщина точно одна. Где же они пропадают днем? Иногда поздней ночью их видели во дворе: выкрикивая непонятные слова, они выкидывали из фургона всякое барахлишко, женщина подбирала эти вещи и, прижав к животу, уносила обратно в фургон; часто оттуда доносился стук молотка, а в дождь – пение. Играли они на гармонике, причем громко, на весь квартал.
В газете появилась заметка «Мы хотим спать» с подзаголовком: «Жалоба нашего нового квартала». В следующих номерах газеты в разделе «Жилой фургон» были опубликованы письма читателей. Количество этих писем, занумерованных римскими цифрами, стремительно росло, пока редакция не объявила, что больше писем печатать не будет. Ранней весной жители Куличьей и примыкающих к ней улиц учредили специальный комитет и разослали по домашним адресам послание, в котором сдержанно выражалось недовольство поведением обитателей «жилого фургона». Решили переждать лето.
Город вокруг «Валгаллы» разрастался: с трех сторон ее прижали улицы с птичьими названиями. С четвертой протянулись кусты роз, за ними начиналось футбольное поле. Это привело к новым неприятностям: у всех трех жителей фургона взыграли футбольные страсти, они бешено лупили по мячу, а с наступлением погожих дней домашняя хозяйка, прибиравшая у себя в комнатах, все чаще и чаще видела, как один из этих подонков перекидывал ноги через забор прямо в палисадник, чтобы забрать мяч. Вечером она рассказывала об этом мужу.
– Подождем, вот кончится лето, – успокаивал он ее.
Между тем взошли крокусы и нарциссы, хотя кое-где и пришлось начинать сызнова: там проводили канализацию, изрезанные лопатой цветочные луковицы вновь очутились на поверхности, но на деревьях вдоль улицы распускались первые листочки, футбольное поле зазеленело, а в один прекрасный день и обитатели фургона показали, на что они способны. Они отвинтили одну из стенок прицепа, и она свесилась, как откидной трап у парома, потом выкатили на землю то, что смастерили: небольшую тележку, в которой, размахивая флажками, сидела женщина. Братья вынесли из фургона два треугольных деревянных щита, приколотили их горизонтально гвоздиками к тележке – и получился самолетик. Женщина соскочила на землю; ее длинные светлые волосы развевались, точно парашют, она смеялась. Мужчины стояли возле своего детища, заложив руки в карманы; женщина похлопала их по спине и опять скрылась в фургоне. Братья – за ней, подняли опущенную стенку и больше в тот день на улице не показывались.
Впрочем, квартал недолго оставался в неизвестности. Однажды в воскресенье старший из братьев заговорил, правда неуклюже, с игравшими на улице ребятишками. Впервые они видели его так близко: он пригласил их сесть в самолет.
– Садитесь по очереди, друг за другом, – сказал он и начал их фотографировать.
Он установил в сторонке старомодный фотоаппарат, повернулся спиной к солнцу и, распоряжаясь, кому залезть в самолетик, снимал всех по очереди. Родители – ведь было воскресенье – смотрели в окна и говорили: «Вот оно что!» Словно наконец догадались, в чем дело. А вечером кое-кто опять строчил письма в газету. Но когда через несколько дней женщина из фургона ходила по домам и показывала матерям улыбающиеся рожицы детишек, растроганные мамы кинулись на кухню или в комнату за кошельком. Самолетик из «Валгаллы» сделался любимым аттракционом района; по воскресеньям и в полдень по средам вокруг него толпились дети, они снимались в летных шлемах или без шлемов и сообщали свое имя и адрес женщине, сидевшей тут же на траве с блокнотом на коленях. Главным изобретателем, видимо, был младший брат; что ни день он привозил на трехколесном велосипеде с коляской какую-нибудь новую деталь: то пропеллер, то какие-то коробки с металлическим конструктором, а один раз даже ракету, чтобы подвесить ее под крыло самолета; неизвестно только, была ли она настоящей. Тут заинтересовались и взрослые. Мужчины толковали о технических особенностях, о простоте или сложности конструкций; репортер городской газеты хотел взять интервью у старшего брата, но тот сказал: «Черта с два я в этом смыслю», а окружающие разразились громким смехом. Младший брат промолчал, прилаживая с помощью проволоки что-то к хвосту самолета, а женщина развешивала на веревке белье. Зрители смеялись, а вечером все переменилось: смеялись уже в фургоне. Те, кто, на свое счастье, жил напротив, заглядывали в переднее окно и видели, что там пьют, хохочут, тузят друг друга и мало ли что еще. А женщина и двое мужчин не замечали, что за ними наблюдают.
– Нам незачем притворяться, – сказал как-то раз председатель уличного комитета. – Что бы там на происходило, нам незачем притворяться.
И вот пришла осень. Самолет был почти готов. Сидя в нем, можно было, нажав кнопку, запустить пропеллер, или остановить его, или привести в движение хвостовые рули и так далее; но лето кончилось, по воскресным дням часто лил дождь, и детей, желающих сфотографироваться, было так мало, что женщина с мужчинами предпочитали не выходить из фургона. Дождь хлестал по улицам, и однажды ветреной ночью в непогоду произошло несчастье: «Валгалла» развалилась. Уже на следующий день об этом сообщили в газете, появились снимок и заметка жирным шрифтом. Женщина в одной нательной фуфайке собирала раскиданные пожитки, сушила на ветвях деревьев занавески и простыни, а соседи в своих квартирах решили, что все кончилось.
И действительно, это был конец. Как-то утром женщина прихватила все, что ей удалось спасти, да еще две-три бутылки пива, хлеб и поднялась в самолет: братья уже сидели там, и она устроилась между ними. Пропеллер завертелся, самолетик покатил вперед, развернулся, прямо через розовые кусты выехал на футбольное поле и, треща мотором, как бы приплясывая, вприпрыжку пошел на взлет. Вот он оторвался от земли и поднялся над полями, загудел, как жук, набрал высоту и исчез в облаках.
Хозяйки в соседних домах покинули наблюдательные посты у окон. Смотреть было больше не на что. В кухне их ждала немытая посуда, малышей надо было укладывать спать, а вечером – в семь часов, потом в восемь – они включили радио, но о самолетике ничего не передали, как и в одиннадцать часов, и в последующие дни. Ни газеты, ни радио, ни телевидение ни словечком не обмолвились о том, где приземлились обитатели фургона. Они исчезли навсегда – как в воду канули.
Обломки фургона скоро убрали. Участок вскопали и выровняли. Обнесли оградой. А весной приехал грузовик: рабочие с инструментом, всякими деревяшками и железками спрыгнули на землю и устроили на месте «Валгаллы» детскую площадку с качелями, всевозможными лесенками и клетками, по которым можно было лазать, с песочницей и качалками. Была там еще горка и самолетик, который должен был качаться вверх-вниз, как лошадь-качалка, чего он не делал, может быть, из боязни взлететь. Ограду выкрасили серебрянкой, а над входом дугой разместились буквы – «Валгалла». Председатель уличного комитета в своей речи на открытии площадки по мере возможности вспомнил историю жившей здесь примечательной троицы, хотя, собственно, ничего о них не знал. После этого ему подали ножницы, и едва он перерезал ленточку, как на новой площадке зашумела, запрыгала детвора.
KILROY WAS HERE[28]
Перевод И. Волевич
Он вошел в кафе. Обыкновенно. Как посетитель. Как человек, который в самом деле пришел сюда только для того, чтобы выпить чашку кофе, – с ним это было впервые. Конечно, он не первый раз пришел в кафе и не первый раз пил здесь кофе, но, подумалось ему, никогда прежде он не ходил в кафе только для того, чтобы выпить кофе.
Войдя, он слегка кивнул в сторону бара, потом взял стул за спинку, отодвинул его и весьма энергично кивнул посетителям, сидевшим за газетным столом, словно боялся присоединиться к ним, не доказав убедительно всем и каждому свою благовоспитанность.
Никто его не знал. Никто-никто, и поэтому он в известной степени чувствовал себя в безопасности. Он и волновался, и в то же время чувствовал себя в безопасности. Килрой. Надо же, опять эта всепоглощающая мысль, которая никогда ему не надоедала, мысль о том, что он, Килрой, знаменитый, знаменитый незнакомец.
– Менеер.
Официант поставил перед ним чашку кофе. Официант ни о чем не догадывался. И люди за газетным столом, думал он, читают последние новости, склонившись над газетами, – всё они знают, но о нем, о Килрое, ровным счетом ничего.
Ничего. Едва сдерживая радость, он постучал ложечкой по краю чашки. Дзинь… Прежде чем он допил кофе, официант был рядом.
– Пожалуйста, еще чашечку.
Теперь ему было уже не так страшно. Главное – прикинуться обыкновенным. Держаться спокойно. В таком вот кафе только и можно научиться быть нормальным человеком, как все. Надо лишь соблюдать два-три правила. Здороваться, войдя внутрь, и сохранять спокойствие, читать газету. Завести разговор…
Завести разговор? Но он ведь прекрасно знал, что никогда этого не делал. Никогда. Вдруг кто-нибудь спросит, не Килрой ли он, как тогда? Ответить-то ему нечего, останется только молчать, бежать – и тем самым выдать себя! Но тогда уж они наверняка, наверняка все узнают. Да, да.
Последние сорок лет своей жизни он ни с кем не разговаривал. Конечно, иной раз обращался к прохожему с просьбой дать прикурить или указать дорогу, хотя, собственно, все дороги ему были знакомы; и молчал он вовсе не потому, что не хватало духу завести разговор, а потому, что уже давно понял, что беседа, настоящая беседа не для него и что, обращаясь к нему, люди всегда спрашивают одно и то же. И ведут себя так, словно он иностранец. Но даже в тех случаях, когда они были серьезны и говорили о жизненно важных материях, они опять-таки – как это типично для них! – подходили к проблеме с одной стороны – с внешней.
В обществе таких людей и усиливалось в нем это чувство, – чувство странной неуверенности, которым он, наверно, заразился, как болезнью, в первый же раз, когда сбился с пути; таким он и остался, неуверенным, что когда-либо вообще возвращался назад.
Внешняя сторона. Он знал, для того чтобы понять жизнь, ему надо остаться с изнанки. А ведь зачастую изнанка – штука запретная, и ничего тут не поделаешь, но дело не в этом, дело в том, что мир, оказывается, подобен яркой открытке: с оборотной стороны он бел, незапятнан и пуст; и это открытие всякий раз волновало его до глубины души. Эк куда его занесло! И до него здесь никто не бывал.
Выставки, зоопарки, видовые площадки, террасы, табачные лавки, рекламные щиты, памятники, адвокатские конторы, залы ожидания, конференц-залы, гардеробные, туалеты, бордели, луна-парки, музеи, стадионы – куда шли люди, туда шел и он, но неизменно пробирался вниз, в задние ряды, потому что его место было там. Строительная инспекция, пожарная команда, контролеры – вот с кем он здесь сталкивался, а они едва его замечали. Потолкавшись на выставке, он спускался в первый попавшийся подвал и там писал на стене свое имя, там он был в одиночестве, точнее сказать, наедине с предметами, которые тоже были одиноки, которые из года в год одиноко несли свою службу: балки, пол, гвоздь, банка засохшей краски, пятно.
Да, эти предметы были его истинными друзьями: ящик с рухлядью, бог весть когда и кем забытая рейка, о которой никто ни разу и не вспомнил. А вот он написал на ней свое имя и погладил рукой. Нижняя часть перил лестницы, бачок унитаза – кому они нужны? Погладь перила, погладь почтовый ящик. Гладь все подряд.
Порой у него мелькала мысль, что всех дел ому не переделать. Хотя думать иначе – верх наивности. Мир ведь слишком огромен для одного человека, нельзя поспеть всюду, и все же…
Когда, путешествуя, он видел мелькавшие за окном поезда леса и поля, то почти заболевал от тоски. От тоски по тому, с чем он расстался: по водоотводным каналам и заборам, по деревьям и бескрайним лесам. По холмам, лугам и прежде всего лесам, деревьям, под которыми еще никто не сиживал. Сменялись времена года, а они все стояли, росли, погибали, и ни разу никто…
А если уж он там был, то – как бы это сказать – действительно был и бродил там. Подбирал сосновые иглы, целыми пригоршнями, а потом опять ронял их на землю – зато он их видел, видел всё, всё без исключения. Ни одной иголочки не обделил он своим вниманием, и, когда эта мысль оседала в глубине его сознания, мысль, что каждая вещь имеет свое значение и каждая на свой лад узнает его, Килроя, тогда он опять начинал вырезать свое имя на коре бука или ольхи… На красивой гладкой коре появлялось его имя вместе с сообщением, что он здесь был.
Он дарил своим вниманием все. И, сознавая это, страдал. И был счастлив.
Напротив него сел какой-то мужчина, держа перед собой газету. Килрой посмотрел на ее обратную сторону, на улыбающееся лицо девушки, которая наливала лимонад и ласково поглядывала на него. Килрой попросил счет, Килрою захотелось немедленно уйти отсюда.
– Что значит быть остроумным? – спросил кто-то. Килрой не стал прислушиваться, ответ на этот вопрос был ему давным-давно известен. Он расплатился и поспешил уйти из кафе. Человек, который так неожиданно сел за его столик, перевернул газету и застыл в изумлении, прочитав на обратной стороне: Kilroy was here. Остроумная выходка, которую он вполне мог бы оценить по достоинству, но Килрой уже шагал по тротуару, спешил к вокзалу. Нет его, ушел.
Итак, что такое остроумный человек? Это тот, кто сам себе задает загадки. Тот, кто спрашивает себя, долго ли еще будет кувшин ходить по воду, пока разобьется. Такой человек – самый большой забавник на свете. Относится ли это к нему, Килрою?
Он никому не известен. Никто, никто в целом мире не знает о его существовании. Не знает, что он, Килрой, существует, что он человек, один из многих, и все же…
Но разве не может случиться, думал он, что в один прекрасный день кто-нибудь подойдет к нему, протянет руку и спросит: «Ты Килрой?» Да, разве не может случиться, что стоит он, к примеру, утром в очереди за билетом – ведь он много раз стоял в очереди, конечно не ради билета, а просто так, чтобы поприсутствовать,– стоит он, значит, в очереди, а на спине у него приколота бумажка с надписью «Я – Килрой», но он об этом даже не подозревает? Ну в самом деле, сколько же может так продолжаться?
ВЕДЬМИНО ГНЕЗДО
Перевод С. Баженова
Стремление в любом вопросе примирить все точки зрения, счастливая способность радоваться, ненавязчиво указывая, что доводы сторон относительны, как и все на свете, привычка ссылаться на обстоятельства, позволяющие считать «хорошим» то, что называют «плохим», – эти качества снискали Андре в кругу его ближайших знакомых прозвище «философа»; в этом прозвище равно звучало и дружеское восхищение, и недоверие, и обидная снисходительность: но ничего не поделаешь, таков уж был его образ мыслей. Зато, когда знакомые, пускаясь в рассуждения, запутывались в них и впадали в состояние беспомощного беспокойства, эта «философия» всегда дарила ему ощущение свободы, покоя и даже некоторой беспечности.
Он содержал небольшое кафе. Умозрительные рассуждения не были его профессией, впрочем, их вообще едва ли можно считать профессией, равно как и обслуживание посетителей нельзя считать призванием, – просто все это входило в обязанности владельца кафе. Тот, кто по обязанности угощает других, сам обычно едой не увлекается – так было и с его философией: он размышлял в меру, иногда не задумываясь ни о чем по целым дням, и размышления предпочитал серьезные, то есть логичные и реалистические, а не заумные химеры вроде тех мыслей, которые доставили ему столько переживаний в памятный летний полдень много лет назад.
Он вырос в сельской глуши. Отец его, лесоруб, с восходом солнца уходил на работу в лес. Жизнь и детские игры Андре протекали возле родительского дома. От большой проезжей дороги вела узенькая извилистая тропинка, которая выводила мальчика отсюда в большой мир, как отец называл все, что лежало за пределами леса. Благодаря ей Андре вскоре узнал, что у поворота большой дороги, в конце широкой въездной аллеи, полускрытое зеленью, возвышалось величественное белое здание со множеством окон и входной дверью, которая сверкала, как золотая; но вход охраняли два каменных льва, стоявшие по сторонам его на низеньких стенках, поэтому Андре не смел подойти близко, впрочем, ворота в начале аллеи были заперты, и, чтобы попасть в парк, пришлось бы перелезать через ограду; на его вопрос дома: «Кто там живет?» – отец ответил:
– Никто, это загородная резиденция короля.
– Так, значит, это дворец.
С каждым днем Андре все глубже знакомился с тем, что его окружало, все больше узнавал о мире в целом и особенно о мире самого леса. Когда они стали ходить в лес вдвоем, отец часто рассказывал ему о вражде между деревьями в лесу, об их гибели в этой борьбе, предостерегал от ядовитых змей, скрывавшихся в траве, показывал гнезда мелких птиц, разоренные сороками, и мало-помалу Андре перестал бояться леса, чувствуя полное единение с отцом, который в этом царстве беспощадной вражды был верховным Судией. И пусть отец мало что мог рассказать про Дворец, зато о лесе он знал решительно все.
– Лес – это интереснейшая штука, – часто говаривал отец, – потому что там идет война, которая не прекращается ни днем, ни ночью и не прекратится никогда.
Взять, к примеру, бук, что рос неподалеку, среди высоких сосен. В своем стремлении к свету, который заслоняли от него соседние деревья, он рос только в вышину, одним голым стволом, почти без ветвей, и этим походил на сосну, но он не был сосной, и вот однажды утром они увидали, что он сломался, а его небольшая, но гордая макушка бессильно поникла к земле, усыпанной сосновыми иглами. Так погиб бук, который рос один среди враждебных ему сосен.
Как велик был этот лес и далеко ли уходил он на запад, не знал никто. Когда Андре спросил об этом отца, тот ответил, что края леса не видно даже с вершины самого высокого дерева.
– Лес – это край света, и за ним ничего больше нет.
По-разному представлял себе Андре этот таинственный «край света», но всегда он казался ему отвратительным скопищем всяких бед, несчастий и зол, какие только существовали в детском воображении: львы, тигры, каракатицы и кровожадные пираты с «Летучего Голландца» – все Зло притаилось здесь и металось взад и вперед за крепкими оградами, как мечутся хищные звери в клетках, осужденные на вечное заточение; это можно было бы назвать фантазией, игрой детского воображения, если бы однажды он не столкнулся лицом к лицу с этим миром Зла.
Зайдя в лес глубже, чем всегда, он увидел тропинку; окруженная дремучими елями, она была такой сумрачной и зловещей, что он едва осмелился заглянуть подальше. Сломя голову бросился он домой, но уже на следующий день опять стоял там, в напряженном молчании, заложив руки за спину, как осужденный на смерть, и в страхе, в смертельном ужасе перед тем, что виднелось там, в конце жуткого, мрачного туннеля: там был огромный глаз, пристально глядевший на него.
Он убежал, но каждый день вновь отыскивал это место, останавливался и смотрел в мрачную дыру туннеля на того, кто там затаился и кто почему-то представлялся ему женщиной. Странная прожорливая тварь, она расположилась там, как паук в паутине, заботливо выращивая и оберегая мелких гаденышей, свое ядовитое ведьмино отродье. Она была опасна, страшно опасна, как может быть опасна только мать, защищающая своих детей. И пока он стоял там и смотрел, из логова доносились пронзительные злобные вопли. Она, ведьма, не шевелилась, только неистово визжала и неотрывно следила за ним своим единственным глазом, требуя, чтобы он убирался отсюда, чтобы не смел смотреть на то, что здесь происходит. Это место в лесу Андре назвал ведьминым гнездом, и теперь всякий раз, когда он слышал от матери, что с кем-то случилось несчастье, он уже догадывался, откуда оно взялось – отсюда, из этого ведьминого гнезда.
Порой, перевернув большой камень, он находил под ним множество омерзительных тварей, которые отчаянно копошились там, смертельно напуганные, что их обнаружили, и у него появлялись такие же мысли: вот оно, Зло, он поймал его на месте преступления, в самом логове; и тогда он безжалостно втаптывал в песок, уничтожал эту гнусную нечисть навсегда. Он понял, что Зло трусливо и слабосильно, что оно живет, размножается и вырастает сильным и опасным, только пока его не видят; потому-то всякое Зло и прячется в темноте.
Как-то в полдень он опять пришел туда. Лес тревожно стонал, ведьма кричала, но он не убежал. Спокойно смотрел он в единственный ведьмин глаз и уже не боялся. То есть, конечно, было боязно, но он не трусил. И вот оказалось, что лес уже не стонет, кругом спокойно, обычный тихий летний день. В лесу было так темно, что, посмотрев наверх, он не смог разглядеть ничего, кроме сумрачных сводов из серых, давно уже мертвых ветвей. Сквозь эти своды не проникал ни свет, ни дождь. Вся жизнь была там, наверху, в зеленых вершинах, в самых макушках вековых деревьев: их омывали дожди, и там оставалась вся влага. Здесь же, внизу, в ведьмином гнезде, было невыносимо сухо, и гаденыши жалобно вопили, изнемогая от жажды.
Наконец он решился и пошел по тропинке. По колено проваливался он в сухую пыльную хвою – видно, столетиями не ступала здесь нога человека. В некотором смысле он мог считаться первым на этой тропинке, ведь и Колумб только в этом смысле был первым на своем пути в Америку.
Осторожно пробирался он между деревьями к таинственному одинокому глазу, который вдруг оказался совсем и не глазом, а небольшим окном, полуприкрытым ставнями, – так, значит, это дом, кто же тут живет? Мальчик двинулся дальше, колеблясь и в то же время охваченный жгучим нетерпением…
Вот он вышел на освещенное место, но дом, который возвышался перед ним, был мрачным, и серым, и таким громадным, каких Андре еще никогда не видел. Со страхом и изумлением смотрел он вверх на бесчисленные окна, забранные коваными решетками… Так вот где прячется Зло – в шкафах, на полках, шеренгами по старшинству притаились здесь духи злодейства и несчастий; кажется, даже шторы на окнах ехидно пожимают плечами, как будто вот-вот злорадно, украдкой захихикают, – но все это мертво, мертво, мертво навеки. От волнения у него перехватило дыхание: это действительно был самый настоящий край света.
Андре тщательно ополоснул стаканы. Нельзя сказать, чтобы он умел объяснить спорщикам в кафе, кто в чем ошибается, нет, но, вступив в беседу, он тотчас направлял ее в нужное русло. И не потому, что – как считали все – правильно понимал обе стороны, просто он умел незаметно подменить одно мнение другим. Он не мешал им вдоволь наговориться – пусть даже наболтают лишнего, – тем легче потом будет исподволь, как по гладким рельсам, перевести разговор на житейские хлопоты, радости и заботы о хлебе насущном. А Колумб? Ну что же в нем особенного? Правда, он открыл новый материк, но ведь и кроме него всегда находились мореплаватели, которые из простого любопытства и жажды открытий выходили в море с запасом провианта на один месяц, с запасом мужества на целую сотню лет. Да, им не занимать отваги, но, в конце концов, все их испытания и переживания, даже если бы после трех недель плавания, шторма и кораблекрушения их выбросило на сушу всего лишь в каких-нибудь десяти метрах от того места, откуда они отплыли, – даже в этом случае все их испытания и переживания были бы ничуть не сильней тех, что выпали на долю маленького Андре, когда он наконец дошел до края света: сам того не подозревая, он оказался у задней стены того же самого Дворца.
Только когда он обошел здание кругом, увидел главную аллею, львов впереди, а за собой сверкавшую золотом парадную дверь, только тогда он понял, куда же он попал. И вся стройная картина мира, созданная детским воображением, мгновенно рухнула; он шел ни много ни мало полдня, добрался туда, где до него не побывал еще никто, а в результате открыл, что оба его мира – мир Добра и мир Зла – всего лишь две стороны единого целого.
Он пошел по аллее, робко оглядываясь на оставленное позади и недоверчиво посматривая на то, что ждало его впереди, – на ограду парка. Он вскарабкался на нее, но, когда был уже на самом верху, на чугунных наконечниках копий, его заметил подошедший сторож. Как только мальчик спустился на землю, сторож сделал ему выговор за недостойное поведение в таком месте. Но Андре почти ничего не слышал: столько событий за один день!
Еще раз оглянулся он на Дворец. Тот по-прежнему возвышался во всем великолепии, загадочный и белый, не просто белый, а неправдоподобно, фантастически белый. Андре даже показалось, что с этого дня весь остальной мир вдруг потемнел, стал более серым и тусклым. Даже отцовский дом, даже родители показались ему не такими, какими они были перед этим путешествием. И до сих пор ему иногда кажется, что он так и не вернулся в прежнюю жизнь.
Жак Хамелинк
Перевод Ю. Сидорина
ВОСКРЕСНОЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
Все это произошло в августе 1951 года. Кажется, числа десятого мы отправились в поход с группой Молодежного союза нашей деревушки в район Звина[29]. У меня даже сохранилась фотография, которую сделал руководитель нашей группы, когда мы, не замечая, что он нас фотографирует, занимались возле палатки мытьем посуды. Бушмен на этой фотографии сидит на корточках и дает указания, Рябой драит алюминиевую кастрюлю, Дидерик орудует посудным полотенцем, Морда опустил руки в таз, куда я успел тайком высыпать пригоршню песка, а Кобель стоит согнувшись у входа в палатку и, щурясь от солнца, смотрит прямо в объектив.
Он был недоверчивее нас, пугливее – и не без причины: бывало, мы, словно по уговору, дружно набрасывались на него, хватали и раздевали, потом мазали ему промеж ног какой-нибудь липучей дрянью и держали до тех пор, пока его не облепляли насекомые. При всяком удобном случае мы доводили его до истерических рыданий, но каждый раз он опять появлялся среди нас, и мы терпели его, пока все не повторялось сызнова.
Почему мы так к нему относились, я до сих пор не понимаю. Может быть, потому, что мы – остальные – слишком задавались друг перед другом и оттого боялись друг друга подспудным, диким страхом детей, которые еще живут чувствами, рождающимися в глубине их щенячьих животов.
Мы, конечно, могли взять в оборот и Морду, что однажды и случилось. Мне удалось подговорить его прокатиться по луговому бочагу на бортике от старой крестьянской телеги. Я уже опробовал этот бортик: он был слишком узок и неустойчиво колебался в гнилостно-зеленой жиже. Добравшись до середины, Морда вдруг испугался и начал размахивать руками. А после, уже на берегу, лежал, сотрясаясь от рыданий, из ушей у него сочилась вонючая вода, он впился пальцами в песчаную землю и поднес ко рту горсть земли, словно желая ее съесть. Наверное, было во всем этом что то такое, что в дальнейшем удерживало нас от подобных шуток с ним.
Кобель не был похож ни на кого из нас: лгун и обманщик, он водил девчонок в пшеницу и всегда говорил ровно столько, сколько считал нужным, – ни больше ни меньше. Кроме того – опять же не так, как мы, – жил он не с родителями, а у бабки, старой, седой, очень толстой особы, похожей на гриб в ермолке. С трудом волоча за собой чемодан сластей, она ежедневно обходила нашу округу. Бабка-Мороз – так мы ее прозвали. Родом она была из Бельгии, и мы с трудом понимали ее речь, полную странных звуков и сочетаний. «Том» говорила она вместо «дом». А когда увещевала нас оставить в покое ее окна, которые постоянно разбивались в ее отсутствие, грозила свести нас, «глупи мальшики», в «полисию». По слухам, в своей маленькой, набитой всякой всячиной комнате она раскладывала карты и смотрела в магический хрустальный шар (сами мы у них дома никогда не бывали, потому что, когда забегали за Кобелем, он сразу же выходил на улицу и никогда не приглашал зайти: дескать, бабушка не разрешает).








