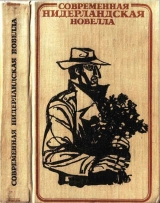
Текст книги "Современная нидерландская новелла"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
– Пожалуйста, – сказал друг. – Может быть, и к лучшему, если ее будет пользовать человек, которому она верит, чем действительно опытный врач.
Он предложил студенту на выбор один из трех своих запасных стетоскопов и дал ему адрес типографии, где можно заказать бланки рецептов.
Очки для чтения, которые обнаружились дома, Калманс не снимал теперь целыми днями. Стетоскоп свернул и сунул в задний карман брюк. Поскольку он навещал больную чаще всего вечером, он стал гораздо меньше пить. По крайней мере раз в неделю, перед уходом от больной, он, пристроив на колене бумажник, с утомленным, но сосредоточенным видом накарябывал рецепт и неизменно предлагал самолично отнести его в аптеку. На улице он рвал его в клочки и пускал по ветру (какой же аптекарь знает доктора Клондайка!), а настоящий рецепт предоставлял выписывать Хемелрику.
Мамаша Венте его полюбила. Ему стоило немалого труда отбиться, когда она попыталась навязать ему в качестве пациентов и других обитателей своего пансиона. А Лили утверждала, что с каждым месяцем чувствует себя чуточку лучше. Вот он увидит, когда придет лето! Все мысли Калманса были заняты одним. Он едва мог дождаться вечера, когда обычно совершал свой ежедневный визит. А уходя, не забывал заметить: «Я ужасно задержался, мне надо идти, меня ждут больные». Лили явно была счастлива, что жертвует чем-то ради других его пациентов. Так что расставание причиняло горе только ему.
Дни становились длиннее. Когда Калманс приходил в пансион, шторы еще не были задернуты; он невольно поглядывал в окно, у которого лежала Лили, и она требовала, чтобы он рассказывал ей, что там происходит. Каждые пятнадцать минут дом наполнялся гулом оттого, что под аркой, над которой как раз и находилась ее комнатушка, проезжал поезд. Перекосившиеся оконные рамы толком не закрывались. Щели по его приказанию были заткнуты, но все равно, если дул ветер, все в комнате покрывалось песком. Под ножки кровати, чтобы не качалась, были подсунуты деревянные чурочки, которые время от времени приходилось менять.
Он рассказывал:
– Я вижу дочурку аптекаря. Она собирает выстиранное белье, которое ее мать утром разложила на чужой лужайке. Девочка машет платком проходящему поезду. А пассажиров в поезде почти нет. Кто поедет вечером к морю, когда еще так холодно… Ты слышишь стук? Его производит человек, который мастерит что-то в курятнике. Он в одной рубашке. Еще бы, ему-то небось жарко – вон ведь как старается… Ребятишки строят из песка дамбу и крепость в канаве у железной дороги. Но им давно пора спать. Все равно никто уж больше не смотрит на их сооружение.
А она спрашивала:
– А птицы? А цветы?
Вот тут-то, чтобы рассказать ей что-нибудь интересное, большую часть ему приходилось выдумывать.
Однажды теплым апрельским вечером, когда окно было распахнуто настежь, произошло чудо.
– Осмотри меня, – приказала она с гордым видом.
– Зачем? – спросил он, дрожащими пальцами впервые в жизни вытаскивая из кармана стетоскоп. – Ты плохо себя чувствуешь? У тебя кашель?
Он «осмотрел» ее. Прослушал с головы до ног, без особого труда сохраняя на лице вдумчивое выражение. «Я же могу честно сказать то, что говорят столько докторов, – прикидывал он. – Что я ничего не нахожу. Я ведь и не сумею ничего найти».
А она сказала:
– Посмотри на мою левую ногу.
Он посмотрел и увидел, что Лили в состоянии без посторонней помощи чуточку приподнять ее, согнув в колене. Он оказался на высоте и сумел преодолеть природную молчаливость.
– Это огромный сдвиг, – сказал он, думая про себя: «Только моей заслуги тут нет. Нет? В самом деле нет? А кто, черт возьми, знает, какие нужны лекарства? Одни заболевают, другие выздоравливают… Может быть, и лекарства и доктора – просто-напросто сопутствующие обстоятельства. Все зависит единственно от того, что́ ты делаешь. А я кое-что сделал, и это главное».
– Я думаю, через недельку ты сможешь двигать и другой ногой, – храбро заключил он.
– Правда? – обрадовалась Лили. – Ты так думаешь? А ходить? Когда я смогу ходить?
Она возбужденно взмахнула руками. Ее лицо среди застиранных подушек сияло сплошной улыбкой.
– Месяца через три… не раньше, – сказал он.
– О, ходить! – вздохнула Лили. – Уйти прочь из этого дома… Если бы это было возможно! Не спать больше под этот гул, не просыпаться от чьих-то стонов, не ощущать больше прикосновений этой мерзкой мамаши Венте.
«Ходить», – думал он. Такая возможность ему даже не снилась. Ходить! Какие возможности это раскрывает перед человеком. Он сидел сгорбившись, не отрывая взгляда от блестящей чашечки стетоскопа, болтавшейся у него между колен. Ходить! Да, она будет ходить.
– Иначе как на своих ногах нет смысла отсюда убираться, – сказала Лили. – Если мне все-таки придется лежать, то какая разница где?
Он не стал возражать, чтобы не погасить в ней надежду на то, что она встанет и будет ходить. И не сказал, что лежать в доме менее сумасшедшем, чем этот, было бы само по себе куда благоприятнее. Ведь это единственное, чем в его власти было реально улучшить ее положение. Но до этого он не додумался.
Ходить… Если она совсем выздоровеет, может, тогда они будут ходить вместе…
– О чем ты задумался? – спрашивала она. – Какая странная от тебя тень на стене. Стена красная, а тень почти зеленая. Как это получается?
– Это от заходящего солнца, – сказал он, выглянув в окно.
– А на что похоже заходящее солнце?
– Круглое, как луна, но больше и краснее. Оно стоит на высоком малиновом небосводе. Сквозь дыры в облаках протянулись к земле длинные лесенки, по которым солнце спускается к горизонту.
– Ах, – прошептала она, – как бы я хотела все это снова увидеть! Но я вынуждена лежать неподвижно, точно мертвая. Единственное, что я вижу, – это отсвет жизни на обоях.
Клондайк встал со стула и заглянул в гостиную. Мамаши Венте там не было.
Тогда он наклонился к Лили, велел ей закинуть руку ему на шею и, поддерживая за бок, посадил ее. Сам же встал коленями на кровать позади нее так, чтобы она могла спиной опереться о его грудь. Теперь они вместе смотрели в распахнутое окно. Ее взгляд нетерпеливо перебегал с одного на другое. Весна поднималась к ним клубами запахов вара, сухого дерева и пыли.
Совсем близко пролетела пара птиц. Залаяла собака и метнулась во двор. Какая-то женщина захлопнула дверь сарайчика.
Вдали загрохотал поезд. Провода электролинии, под самым окном выходившие из-под арки и сливавшиеся на горизонте, напряженно загудели.
– Мне пришла в голову странная мысль, – сказала она. – Провода идут от моего дома к морю. Прислушайся, сюда доносится шум волн. Он идет по проводам.
Он крепче прижался головой к ее голове и впервые почти за два года погладил ее волосы. Его правое ухо прижималось к ее левому. А когда он потом снова осторожно опустил ее на постель, он впился в нее долгим поцелуем и не отрывался, пока она, пробормотав что-то невнятное, не отвернула лицо и не притянула его к себе. Одеяло сползло на пол. Ее руки расстегивали на нем одежду, как бывало раньше. Оба готовы были заплакать. Их губы слились, глаза с минуту не открывались.
– Почему ты меня поцеловал, Флорис? – спросила наконец она. – Неужели только потому, что теперь поверил, что я поправлюсь? А если бы я никогда не поправилась, ты бы не стал меня целовать? Остался бы просто моим доктором? Потому что мой случай представляет интерес для науки?
Клондайк не нашелся, что ответить на так прямо поставленный вопрос. Потому что означал он только одно: «Я знаю, на самом деле ты меня не любишь. Если бы у меня не было никаких шансов выздороветь, ты бы меня не поцеловал – ведь это к чему-то обязывает. Если бы мне грозило до конца дней остаться инвалидом, ты бы радовался, что я в свое время так плохо с тобой обошлась, так что ты и пальцем не мог меня коснуться, не испытав унижения, не говоря уже о том, чтобы посвятить мне всю свою жизнь».
Так он думал, вновь сидя возле ее кровати, голова его лежала у нее на груди. Наконец он холодно посмотрел на нее и сказал:
– Ну что ж, раз ты видишь в моем поступке лишь доказательство того, что тебе стало лучше, тогда мой поцелуй скажет тебе не больше, чем мои заверения как врача: через три месяца ты будешь ходить.
Он встал и захлопнул окно: вечерний воздух становился слишком прохладным. Стук колес поезда нарастал, поглощая все другие звуки, потом замедлился, растворился в пронзительном вое ветра. В соседней комнате мамаша Венте разбила что-то из посуды и тотчас явилась сообщить об этом.
Адрес сестры Ферро он узнал, прочитав объявление: «Лечебный и спортивный массаж».
Калманс решил, что теперь, когда, казалось, блеснул лучик надежды, он не станет больше ждать у моря погоды. Хватит ей неделями глотать аспирин и агарол – хоть и всякий раз в новой упаковке, – с этим было покончено. До вечера просиживал он в библиотеке, перечитал все, что мог, насчет болезни Лили, советовался со знакомыми, изучавшими медицину. Хемелрика, естественно, ни о чем не спрашивал: тот за целый год не сумел достичь того, чего сам он достиг за четыре месяца.
Кто-то сказал ему, что человеку, долгие месяцы пролежавшему в постели, необходим массаж; иначе он, даже если выздоровеет, не сможет подняться с постели просто от слабости мышц. Поэтому он решил пригласить массажистку.
Она жила поблизости, на восточной стороне улицы, в одном из низеньких домишек. Ее домик стоял совсем низко и в то же время почти вплотную к проезжей части улицы, так что к нему невозможно было подступиться. Поэтому прежняя входная дверь была наглухо забита, а вместо нее на втором этаже прорезана новая, к которой с улицы вел деревянный мостик.
Однажды в хмурый и дождливый полдень Клондайк вошел в этот дом. Дверь была не заперта и отворялась прямо в комнату, где сидела сестра Ферро. На керосиновой печке кипела вода.
Сестра Ферро была женщина лет тридцати пяти в белом накрахмаленном переднике. Когда Клондайк вошел, она подрубала носовой платок и не сразу подняла на него глаза.
– Я доктор Клондайк, – представился он. – У одной моей пациентки парализованы обе ноги. Чрезвычайно трудный случай. Паралич длится уже около полутора лет. И все же за последнее время наблюдается обнадеживающее улучшение, так что… (он манерно поджимал губы и, втягивая ртом воздух, откидывал голову назад – такая привычка была у одного профессора)…так что было бы желательно попытаться с помощью массажа вернуть мышцам гибкость.
Сестра Ферро окинула его взглядом больших черных глаз и разразилась негромким, но достаточно выразительным смехом.
– Ах, вот оно что! Ты – доктор? Брось, не морочь мне голову! Не верю я, что ты доктор. Но это ничего не значит. Ты все равно очень симпатичный парень. – Она встала, сложила рукоделие и повторила: – Очень симпатичный парень.
Она потерлась накрахмаленной грудью о его плечо и взяла его за руку. Студент почувствовал, что его унизили, но и приласкали.
– Послушай, – сказала массажистка. – Я всего лишь одинокая женщина, и мне ужасно приятно, когда кто-нибудь заходит меня навестить.
– А я, – сказал он, – как ты правильно поняла, одинокий парень. Но что я не доктор, это неправда. Неправда, учти.
Возмущенный, он шагнул было назад, но медсестра не выпускала его руки.
– Ну-ну, не кипятись, – сказала она. – Доктор ты или не доктор, это вовсе не значит, что я не хочу тебе помочь. – Она опять прижалась грудью к его плечу и добавила, понизив голос: – И я умею молчать. Садись же.
Они сели на стоящее в углу канапе. На окнах висели легкие в голубую клетку занавески.
Клондайк спросил, что она думает о пользе лечения массажем.
– Я лечила десятки таких больных, – заверила она. – И всегда успешно, хотя, на первый взгляд, мой метод кажется парадоксальным. Я учу мышцы расслабляться. Даже от самых сильных мышц нет проку, если человек не умеет их расслабить. Ты согласен?
Клондайк допускал, что так оно и есть.
– Даже самые здоровые мышцы обычно не способны полностью расслабиться, – продолжала массажистка. – Встань-ка.
Он встал.
– Расслабься, – приказала она, подняла его руку вверх и выпустила.
Рука упала, но не как груз на веревке, а нерешительно опустилась: студент невольно придержал ее.
– Вот видишь, – сказала сестра Ферро. – Все дело в непроизвольном сокращении мышц и замедленной реакции. При параличе то же самое. Только тот, кто способен расслабить свои мускулы, может их и напрячь.
Он встал и надел пальто. Что именно она станет делать с Лили, его не интересовало, он все равно в этом не разбирался. Массажистка, по-видимому, это заметила.
– А ты все-таки не врач. Нет, не врач, – сказала она на прощание.
Но его это не задело.
Мамаша Венте обратила внимание, что Клондайк очень бледен в последнее время.
– Бледен? – удивился он. Почему это он бледен, если постоянно находится в возбуждении? Он ответил, что она права, он чувствует себя утомленным, практика отнимает у него много времени.
На самом-то деле он утомился оттого, что упорно штудировал всевозможные медицинские трактаты. Разбирался он в них с трудом, так как ему не хватало необходимых знаний. Часто он даже не догадывался, что понимает прочитанное превратно. Он был как ребенок, услыхавший где-то прекрасную музыку, которая с тех пор день и ночь звучит у него в голове, и вот он пытается подобрать ее на рояле, хотя она слишком сложна для него.
Некоторое время он работал в лаборатории при университетской больнице. Но каким-то образом обнаружилось, что он не сдал обязательных экзаменов, и его выставили. Он сомневался во всем: правилен ли диагноз, поставленный в свое время его другом? Правильно ли лечение, которое предписывают учебники? А не мог бы он сам придумать какой-то новый способ лечения? Однажды вечером он посоветовался со своим другом Хемелриком. Но тот сказал: «Ты говоришь, как врач из другой части света или с луны. Может быть, тебя поймут в твоем окружении, но не в моем кабинете».
«В твоем окружении, – думал Клондайк. – Он, конечно, хотел сказать „в сумасшедшем доме“». Но его это не обескуражило. По дороге домой он совершил величайшее открытие. На следующий день он отозвал сестру Ферро в сторонку.
– Результаты, которых пациентка достигла под вашим руководством, не так плохи, но дело могло бы идти гораздо быстрее. Ваша теория – релаксация, расслабление мышц. А я пришел к выводу, что в данном случае расслабление мышц лишено всякого смысла. Почему мышцы после того, как они отдыхали в течение целого года, должны еще расслабляться? Это против всякой логики. Эти мышцы следует не расслаблять, а укреплять. Делать их крепкими и сильными. Не снимать напряжение, а заново учить их напрягаться, напрягаться и напрягаться, как напрягаются любые здоровые мышцы.
Сестра Ферро всячески противилась, чуть ли не со слезами, потому что Клондайк вдруг заговорил с ней на вы. Она твердила, что умение расслабляться укрепляет мышцы, что Лили уже может немножечко сгибать обе ноги. Что напряжение на этом этапе может привести только к судорогам и в результате к ухудшению. Но он не дал ей договорить.
– Да, конечно, я знаю, что вы в конце концов скажете: «Ты же не врач». Я и в самом деле не врач. Но из этого вовсе не следует, что я не могу быть прав. И я прав. Я более прав, чем те, кто носит в кармане официальное удостоверение в том, что они всегда правы. Я прав, потому что сам нахожусь в постоянном напряжении. Открытый мною метод, который я только что вам изложил, стоил мне огромных усилий. Поэтому совершенно исключено, чтобы мое прозрение оказалось ложным.
– До чего ты изменился, – пробормотала она, усмехаясь. – Такой был фаталист, а теперь так уверен в себе.
– Фаталист только тот, кто не видит в пределах досягаемости ни единой цели, которая казалась бы ему стоящей усилий, – сказал Клондайк. – А у меня такая цель есть. Мне нужно только крепко сжать руку, чтобы ее схватить, и, будьте уверены, я крепко сожму руку, не жалея своих мышц и не боясь судорог.
Сестра Ферро в конце концов сдалась и стала лечить Лили так, как ей было указано. Уже через неделю Лили без посторонней помощи садилось, а еще через две недели смогла сделать по комнате несколько шагов, поддерживаемая сестрой Ферро и Клондайком.
Как ни устал Клондайк, он чувствовал себя счастливым. По ночам, не в силах заснуть, он бродил по паркам, где освещенные изнутри виллы казались ульями, наполненными приглушенным жужжанием музыки радиопередач.
Мысль о том, что Лили снова будет ходить, не давала ему ни сидеть, ни лежать.
А потом он сам слег. Была середина августа, и было очень жарко. Его хозяйка, которой пришлось за ним ухаживать, пожаловалась, что не может выйти из дому. Клондайк совсем растерялся. «Думаете, мне это очень приятно! – хотелось ему завопить. – Лежать тут, когда больная, которую я лечу, находится в критическом состоянии и нуждается в моих заботах». Но он сумел взять себя в руки, Ведь он всего лишь незадачливый студент-фармацевт, а никакой не врач. Ночами он декламировал целые куски из прочитанных учебников, забывался наконец коротким сном, а рано утром пронзительное, как сирена «скорой помощи», пение птиц возвращало его к действительности. Он не мог даже послать к Лили кого-нибудь вместо себя, ничего не мог для нее сделать.
Через две недели он почувствовал, что больше не выдержит, и встал. Голова все еще гудела от жара. Был воскресный полдень. Клондайк оделся, нахлобучил шляпу, сел на трамвай и поехал к ней. Но на одном перекрестке трамвай столкнулся с машиной, так что дальше пришлось идти пешком. Наконец он добрался до места. Перед дверью он помедлил, стараясь справиться с головокружением. Мамаша Венте сама открыла ему и поджидала его на лестнице.
– Ох, доктор, наконец-то вы здесь! С ней, по-моему, что-то неладно. Вы сами увидите, но, по-моему, она умирает. Я-то уж нагляделась на такие вещи.
Лили спала, лежа на спине, голова неестественно свернута набок.
– Ну как, умирает? – спросила мамаша Венте, вошедшая в комнату вместе с ним.
– Не знаю я. Откуда мне знать! – закричал он. – И катитесь вы отсюда. Вы мне не нужны. Не нужны, понимаете?! И нечего вам лезть в дела, которые вас не касаются. Абсолютно не касаются.
Мамаша Венте шагнула к нему поближе.
– Послушайте, вы, доктор. Я уйду, если вы так этого хотите. Только нечего вам кричать, что меня это не касается. Потому что тогда я смогу наконец поменять белье на кровати.
Их перебранка разбудила Лили.
– Флорис, – сказала она со вздохом, который шел, казалось, из самой глубины легких. – Флорис, почему тебя так долго не было?
Она не протянула ему руки, и он спросил, почему она с ним не здоровается.
– Со мной что-то неладно, Флорис, – отвечала она. – Я не могу протянуть тебе руки. Я вообще не могу больше сделать ни одного движения. Только голову еще могу повернуть. И у меня так все болит. Наверное, я скоро умру.
Голос был еле слышен. Клондайк присел у изголовья. Он не мог выдавить из себя ни слова. В горле у него точно застряла рыбья кость.
Ты сделал все, что мог, Флорис. Мне так жаль тебя. Почему ты со мной не разговариваешь? Расскажи, что ты видишь за окном.
– Я вижу поезд, который остановился, войдя под арку. Похоже, там что-то случилось, проводники шушукаются, а пассажиры выходят из вагонов поглядеть, в чем дело.
– О, Флорис, – сказала Лили. – Там наверняка произошел несчастный случай. Поезда ведь никогда под аркой не останавливаются. Должно быть, кто-то попал под поезд. Старик или ребенок. Да, конечно, ребенок. Пойди туда, Флорис, и помоги. Сидеть возле меня больше нет никакого смысла. Здесь твое искусство уже бессильно.
– Никуда я не пойду! Я останусь с тобой! – выкрикнул он. И тихо добавил: – Зачем мне идти? Единственное, что я могу, – это перевязать кому-нибудь рану носовым платком, а это может сделать кто угодно.
Вдруг она несколько раз дернула головой. Все ее тело в последний раз пришло в движение, по нему пробежала долгая дрожь, и больше она уже не шевелилась. Он схватил ее за руку, закричал: «Лили, Лили!» – но ничего не произошло. Тогда он оставил свои попытки, вяло подумал про стетоскоп, но не стал доставать его, откинулся на спинку стула и посмотрел в окно. Ребятишки, которые в этот воскресный полдень собрались на взморье, таращились из всех окошек поезда и размахивали ведерками и флажками. Несколько мальчишек постарше уселись на обочине канавы и пели под гитару.
За его спиной возникла мамаша Венте и тронула его за плечо.
– Ну как, доктор, умерла? – спросила она.
– Умерла, доктор, совсем умерла? – спрашивали другие обитатели пансиона, следом за ней проникшие в комнату. Старуха в ночном капоте, с лысой головой. Мужчина, у которого вместо руки был толстый неряшливый сверток, бинты частью размотались и свисали вниз. Тощий юнец, не умеющий говорить, умеющий только кричать «ду-уу». В гостиной тоже толпились люди.
Клондайк встал.
– Убирайтесь все отсюда вон! – выкрикнул он. – Человек умер. Чем я могу помочь? Я сделал все, что мог. Чего вы еще от меня хотите? Человек уже мертв. Теперь нужно только добыть бланк, чтобы составить заключение о смерти, и все будет кончено.
– Все навсегда будет кончено, – повторил он уже для себя самого и повернулся к двери.
Но старик с перевязанной рукой задержал его.
– Это правда, доктор, – сказал он. – Вы сделали все, что могли, потому она и умерла. Пока вы не делали всего, что вы можете, она потихоньку поправлялась, глядишь, сейчас уже и ходила бы. А теперь она умерла. Никогда не делайте все, что вы можете. Никогда. Самое большее, что вы можете сделать, – это какую-нибудь несправедливость.
– Богопротивную несправедливость! – подхватила лысая старуха.
– Сделал все, что мог, – значит всего лишь, что один метод он предпочел другому. Делать все, что можешь…
– …это вызов богу! – снова перебила старуха.
– Кто делает все, что может, – продолжал старик, – подобен тому, кто мошенничает при игре в кости. За мошенничество наказывают, и это более чем справедливо.
Клондайк вырвался от него и вышел вон, хотя знал: старик прав. Безусловно прав.
Внизу, под аркой, было целое столпотворение, поезд по-прежнему стоял на повороте. Шумно галдели зеваки. Огромная, странного вида автомашина ревела, точно корова на бойне. Клондайк с трудом пробился сквозь толпу. Пишется ли заключение о смерти на специальном бланке или просто на рецепте, он понятия не имел, так что придется ему зайти к своему другу Хемелрику и спросить у него.
У дома Хемелрика он остановился в растерянности, обнаружив, что на дверной табличке криво налеплена бумажка с другим именем. Но все-таки позвонил. Ему немедленно открыли, так как коридор был забит пациентами и никому не понадобилось специально идти открывать. Он впервые заметил, что входная дверь не распахивается до конца, так узок там коридор. Он с трудом протиснулся внутрь.
– Позвольте мне пройти, – пришлось ему попросить присутствующих. Он даже выдохнул из себя весь воздух, чтобы стать как можно тоньше. Но народ в коридоре всполошился.
– Эй, вы позже всех пришли, здесь очередь, займите свое место.
– Я сам врач, – кричал он, локтями пробивая себе дорогу. – Дайте мне пройти.
Ему удалось добраться до кабинета, и он вошел, спиной придерживая дверь от напирающей из коридора толпы. Голая женщина, ожидавшая результатов осмотра, при виде Флориса ахнула, подхватила рубашку и закрылась ею. Желтые хлопчатобумажные занавески на окнах, за которыми вовсю сияло солнце, были опущены – от любопытных глаз. Комната поэтому была залита желтым светом зари, казалось, весь дом еще спит…
Другой, незнакомый врач обернулся от своего стола к Клондайку. Это был крупный мужчина со свирепым красным лицом и толстым животом. На нем был грязноватый белый халат, на животе почти совсем черный.
– Вам что нужно? – спросил он. – У меня в данный момент нет приема. Разве вы не знаете, что сегодня воскресенье?
– Мое имя доктор Клондайк, – сказал Флорис. – Я пришел насчет заключения о смерти. Не могли бы вы мне помочь?
– Нет, – отрезал врач. – Это невозможно.
Он угрожающе поднялся со стула, самописка в руке точно оружие.
– Доктор. – Клондайк положил руки ему на плечи, стараясь задержать его и направить его мысли по другому руслу. – Прежде здесь жил один мой друг, он всегда мне помогал. Помогите же теперь вы. Это крайне необходимо.
– Нет, доктор, – отвечал тот. – И не подумаю. Будьте добры освободить помещение.
Он положил руки на плечи Флориса, стараясь вытолкнуть его за дверь. Вот таким образом они и стали медленно двигаться по коридору к выходу, потому что незнакомый врач был сильнее.
– Ах, доктор, – с мольбой сказал Клондайк. – Я вовсе не врач, но я сделал все, что было в моих силах. Я не мог ей помочь. Ничем не мог помочь. Но я так ее любил!
– Ясно, – сказал тот, – сначала от великой любви он сделал ей ребенка, который не должен был появиться на свет, а потом изобразил врача. Я понимаю. Я все прекрасно понимаю. Старая песня. Прощайте, господин хороший, прощайте.
Лишь когда за ним с грохотом захлопнулась входная дверь, смолк насмешливый хохот пациентов, которые всячески подбадривали своего врача.
Только тут Клондайк сообразил, что на первый вопрос незнакомого врача ему следовало ответить: «Конечно, я знаю, что сегодня воскресенье, но ведь у вас в коридоре полно больных. Почему же вы не хотите помочь своему коллеге?» Но вернуться было невозможно. Пациенты дружно налягут на дверь, не давая ему войти. Возвращаться же с пустыми руками в пансион мамаши Венте тоже не имело смысла, но студент напомнил себе, что там осталась его шляпа, и, чтобы хоть что-то спасти, решил сходить за ней. Однако, оказавшись снова под аркой, он переменил решение. Дорожное происшествие было исчерпано, и поезд как раз трогался. «Ведь от того, что я не составил заключения о смерти, все может выйти наружу, – подумал он. – Уберусь-ка я лучше подобру-поздорову».
И он бросился догонять поезд. Вскоре он поравнялся с задней дверью последнего вагона. Вспрыгнуть на подножку он не мог, так как проволочная сетка, огораживающая путь, было слишком высока. Кончалась она только за аркой. А поезд мало-помалу набирал скорость.
«Если я в него не попаду, все пропало, – думал студент. – Я опоздал на одну-две минуты. Иначе я бы как раз успел вскочить в эту дверь».
Его шаги гулко отдавались под аркой, заглушая шум поезда.
«Машинист, – мысленно умолял он. – Задержи поезд на тридцать секунд. Почему мне нельзя уехать с вами? Что плохого я тебе сделал?.. А железнодорожные правила? – возразили ему. В какую сумму уже обошлась задержка из-за несчастного случая? Правила прежде всего!.. О вы, кто установил эти правила, неужели вы накажете машиниста, если он затормозит ради меня? Почему вы превратили поезд в такое явление жизни, движение которого нельзя задержать никакими доводами? Господа, установившие железнодорожные правила, я вас спрашиваю, как человек человека (а возможно, как человек, я выше вас), почему вы со мной не считаетесь?»
Поезд уже миновал арку, где пути были огорожены, и шел все быстрее.
«Машинист, – подумал Калманс в последний раз. – Сейчас я вспрыгну на подножку. Возможно, я промахнусь, упаду прямо под колеса, буду раздавлен всмятку. В нашей стране, машинист, даже самых страшных преступников приговаривают к смертной казни только после многомесячного расследования, и то не к такой мучительной. А я не преступник, и все же по твоей милости, машинист, я могу погибнуть самым ужасным образом, и только потому, что я на минуту опоздал. У тебя в руках электрический и пневматический тормоз. Включи их на один миг, машинист!»
Он прыгнул – и не промахнулся. Какой-то господин заранее распахнул для него дверь. Другие втащили его наверх.
Дети освободили ему местечко, потому что у него был такой больной вид и он никак не мог отдышаться. За это ему пришлось рассказывать им сказки. Но его сказки были такие грустные и так огорчали детей, что родители уводили их от него и прижимали к себе.
А поезд, покачиваясь на ходу, шел все дальше среди осушенных лугов и выгонов. Быстро надвигалась гроза. Ветер тонким гнусавым голосом сифилитички завывал в полуприкрытых шторками окнах. Вода в канавах стала похожа на серый бархат, который гладят против ворса.
Через полчаса поезд остановился на побережье. Здесь не было дождя, и сквозь облака то и дело пробивалось солнце. По длинной деревянной лестнице студент спустился к морю и не спеша побрел вдоль берега. Мокрая ракушка своим блеском привлекло его внимание. Он поднял ее и с ракушкой в руке простоял целый час, вперив взгляд в пространство. За это время ракушка высохла, и, как он ни тер ее рукавом, она больше не заблестела.
Ян Волкерс
ЧЕРНЫЙ СОЧЕЛЬНИК
Перевод В. Молчанова
Никогда еще у голода не было таких звучных имен: Красный Император, Персиковый Цвет, Роза Копланд, Епископ. Я почувствовал знакомый запах еще прежде, чем увидел их в передней, в серых мешках, на которых большими синими буквами были написаны названия сортов. Я стоял на пороге и вдыхал этот удивительный запах, вызвавший в моей памяти картину давних каникул, тех, что были еще до войны. Я словно опять сидел на солнце между корзинами с луковицами тюльпанов, счищал с них твердую, чуть шершавую кожицу и, прежде чем бросить очередную луковицу в корзину, на мгновение задерживал ее в руке и смотрел на блестящую коричневую поверхность, сквозь которую проглядывала сочная мякоть цвета слоновой кости. Я так загорел, работая на воздухе, что один рабочий сказал: «Если ты умрешь, тебя похоронят на негритянском кладбище».
Как только двери за мной захлопнулись, в другом конце коридора из кухни появился отец.
Настороженное выражение его лица сменилось мягкой отсутствующей улыбкой, и, покачивая головой, он сказал:
– А, блудный сын.
Но он не обнял меня по-отечески, словно на него свинцом давили два тысячелетия христианства, не дававшие шевельнуть пальцем. Он стоял, освещенный теплым светом, лившимся из кухни в коридор и доходившим до меня вместе с запахами вареной капусты и резинового шланга газовой горелки.
Потом он взял один из мешков, развязал его и показал мне несколько луковиц.
– Вот до чего дошли люди, – сказал он. – Должны питаться растениями, которые вовсе не предназначены для еды.
Он пожал плечами, снова спрятал луковицы в мешок и понес его на кухню.
– Это на вечер, – сказал он. – Да, жизнь у нас теперь не райская.
Я заметил, как по его лицу скользнула слабая улыбка, едва не разгладившая сетку морщин, и, когда мы входили в комнату, мне захотелось обнять его. Мать сидела за столом, разложив перед собой продуктовые карточки, вырезала из них пронумерованные квадратики и прикрепляла их скрепкой к книжке бакалейщика. Она взглянула на меня, и я увидел, что лицо ее опухло и покраснело, как будто она долго шла под потоками проливного дождя.








