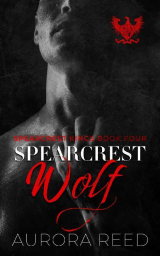
Текст книги "Волк Спиркреста (ЛП)"
Автор книги: Аврора Рид
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Суровые ночи
Яков
Я вырубаюсь за дверью квартиры Захары в Найтсбридже и просыпаюсь в темном и сыром помещении. Высоко надо мной флуоресцентные лампы бешено мерцают, как сердцебиение астматика. Если бы это была видеоигра, то именно в этом месте персонаж должен был бы часто умирать.
К счастью для меня, это реальная жизнь, и мне придется умереть только один раз.
Я пытаюсь перевернуться на спину, и тут мне в лицо летит ботинок. Он промахивается мимо моего носа на дюйм и врезается в щеку. Больно до жути, но я уже знаю, что боль будет наименьшей из моих проблем.
Ботинок врезается мне в плечо, переворачивая меня. Вот что я собирался сделать, ублюдок, хочу сказать я. Но не говорю. Вместо этого я моргаю и оглядываюсь по сторонам, пытаясь сориентироваться как можно быстрее.
Холодный бетон подо мной, флуоресцентные лампы, высокие стены, трубы и металлические лестницы. Какое-то промышленное место. Большое здание, возможно, пустое, возможно, где-то в глуши. Такое здание, куда тебя привел человек, который собирается заставить тебя кричать и не хочет, чтобы кто-то услышал.
Я смеюсь – мокрый звук, потому что мои легкие уже немного подсели. – Privyet, Papa.
Мой отец ненавидит, когда я говорю по-русски, и он ненавидит, когда я называю его "Papa", и он ненавидит меня больше всего на свете. И вообще он ненавистный человек, так что это о многом говорит.
На этот раз он сам бьет меня по лицу. Так я узнаю, как сильно он меня ненавидит. Мой отец – маньяк, деспот и жестокий человек, но он никогда не прибегает к насилию лично. Вот почему у него так много приспешников. Именно поэтому у него есть Антон, который стоит за его спиной со сложенными вместе руками и покорным выражением лица. Вот почему он держит меня рядом, атакующую собаку на коротком поводке.
– Ты думаешь, я отправил тебя в твою модную британскую школу, потому что хотел услышать, как ты коверкаешь мой язык? – говорит он. – Говори по-английски, шавка.
С последним ударом ботинком в челюсть он отступает назад и позволяет мне болезненно покачнуться. Я сижу и перевожу дыхание, руки лежат на коленях, голова низко опущена. Кровь и слюна стекают с моего подбородка на толстовку, уже мокрую и грязную от земли.
Дерьмо. Мне понадобилось меньше двух недель, чтобы испортить свой рождественский подарок.
– Я тоже рад тебя видеть, папа, – бормочу я. Я поднимаю два пальца и бросаю Антону извиняющийся взгляд. – Привет, dedushka.
Он почти незаметно качает головой из-за спины моего отца. Нет, это значит. Не делай этого, пацан. Не зарывай себя в могилу.
Но моя смерть назревала давно, и мы с Антоном знаем, что она всегда должна была произойти именно так. Может быть, никто из нас не ожидал, что мой отец приедет и передаст ее лично.
Видимо, это показывает, как сильно он заботится.
Отец стоит передо мной. Я смотрю на его начищенные до блеска ботинки, на безупречные складки брюк. Я предпочитаю не смотреть ему в лицо. Не потому, что мне страшно смотреть на него, а потому, что я боюсь красной вспышки неконтролируемой ярости, которая проносится во мне каждый раз, когда я смотрю на него.
Но он говорит: – Посмотри на меня, шавка.
И я смотрю. Он причинит мне еще много боли, несмотря ни на что. Этого не изменить. Но, может быть, если я буду делать то, что он просит, и слушать, что он скажет, он сделает это немного быстрее, и Захара не останется одна надолго.
Это единственное, о чем я могу думать.
Захара, моргающая своими сиротливыми оленьими глазками, когда просыпается в пустой кровати. Красивая улыбка Захары тает, когда она понимает, что меня нет, когда я подтверждаю ее глупое ложное убеждение, что она годится только для того, чтобы трахаться и выбрасывать. Лучше я съем каждый удар отца, получу каждую пулю, которую он жаждет всадить в мои кости, чем позволю Захаре поверить, что я добровольно ушел от нее.
Я смотрю в лицо отца. Он постарел с тех пор, как я видел его в последний раз. Вокруг его глаз появились новые морщины, глаза еще глубже втянулись в исхудавшие впадины глазниц. Его волосы выкрашены в неистовый черный цвет, который только и выдает, что они белые. А вот глаза остались прежними. Холодные, мертвые глаза, темные и узкие.
Мои глаза.
– Что случилось с журналистами? – спрашивает он.
– Я позаботился об этом, – говорю я.
Он бьет меня по лицу, и на этот раз у меня ломается нос. Я не могу сказать сразу, потому что теряю сознание в тот момент, когда удар приходится на мое лицо. Но я прихожу в себя, как мне кажется, через долю секунды. Ощущение, как будто я проглотил слишком много горчицы, взрывается в центре моего лица, глаза слезятся. Если я переживу это, то буду выглядеть как чертово государство.
А если нет, то мой труп будет чертовски неприятен. Хорошо. Я умру так же, как и жил, – поганой, никчемной катастрофой от начала и до конца. Не то чтобы кто-то видел мой труп. Исчезновение трупов – специализация моего отца.
Он приседает и тащит меня к себе за воротник. Когда мне было тринадцать лет и он пришел увести меня от мамы и Лены – в первый раз, когда я с ним дрался, – он схватил меня за волосы и ударил лицом о кухонный стол. Это был первый раз, когда он поднял на меня руки, первый из многих. Это был первый раз, когда я плакал при нем, и последний.
В тот же вечер я сбрил волосы до черепа и с тех пор так и остаюсь.
– Я был слишком мягок с тобой, – шипит он мне в лицо. – Слишком щедрым. Слишком снисходителен. Но больше нет. Ты думаешь, что можешь делать все, что захочешь, потому что ты мой сын, но ты ошибаешься. Возможно, я слишком давно не напоминал тебе обо всем, что ты можешь потерять.
Тьма внутри меня сжимается, сжимается, разрастается. Красный цвет гнева смешивается с красным цветом страха, словно лужи крови.
– Ты не убьешь Лену, – говорю я ему. Мой голос – мокрый, носовой. Когда я говорю, кровь приливает к моему лицу. – Она – единственное, что у тебя есть передо мной, старик. Твой единственный козырь.
– Думаешь, я не знаю, как заставить тебя подчиняться без Лены? – Он разражается резким, уродливым смехом. Он встает и пинает меня в спину, выбивая воздух из легких, заставляя меня ухватиться за локти. – Ты тупая гребаная шавка.
– Без Лены ты никто. – Я выплевываю полный рот крови. – Если с ней что-нибудь случится, либо ты умрешь, либо я умру, либо мы оба. – Я оскалил зубы. – И я не боюсь умереть, старик. Я бы не хотел ничего больше, чем забрать тебя с собой.
– Не смерти ты должен бояться, шавка. А меня.
Он достает из кармана сигарету и прикуривает ее. Зажигалка у него причудливая, в металл вписаны его инициалы. Кончик сигареты вспыхивает красным, и из нее вырывается дым. Я начал курить, когда встретил его, и по сей день надеюсь, что рак заберет его первым.
– Это был твой последний промах. Знаешь, что люди делают с плохо обученными собаками? Они их усыпляют. Значит, ты не боишься смерти – молодец, шавка. По крайней мере, ты знаешь, что ни на что не годишься, кроме как сдохнуть. Но если ты хочешь чего-то бояться, то бойся всего, что я могу сделать с твоей Леной, не убивая ее. Ты учился в хорошей школе, ты достаточно умен, чтобы представить себе те вещи, о которых я говорю. Представь их все, мальчик. Потому что нет ничего, чего бы я не хотел сделать. – Он долго затягивается сигаретой и делает короткую резкую затяжку. – Итак. Ты собираешься подчиниться?
Я киваю. Он подбирает крошку табака и выплевывает ее. – Я спросил, ты будешь слушаться?
– Да.
– Да, что?
– Да, буду.
– Да, сэр, – говорит он. В его глазах – больной блеск, извращенное удовольствие садиста, причиняющего боль. – Скажи это, шавка. Ничтожный подонок, сын шлюхи. Скажи это.
Внутри меня вспыхивает красный цвет, голова превращается в камеру с мигающими сиренами. Багровые крики отдаются эхом, заполняя пространство. Я знаю, что в тот же миг убью его. Не сегодня и, возможно, не скоро. Но однажды. Однажды я всажу одну-единственную пулю прямо в его череп. Это будет быстрая смерть. Более чистая смерть, чем он заслуживает.
Но он будет мертв, и если есть ад, то он будет гореть в его самых низких, самых темных ямах. Я буду знать, я буду рядом с ним.
А пока мне просто нужно покончить с этим как можно быстрее.
– Да, сэр. Я повинуюсь. Сэр.
Он смеется.
А потом наказывает меня.

Он не очень творческий человек. У него есть свои методы, и он предпочитает их придерживаться. Последующие дни не особенно приятны. Я провожу их то в сознании, то на холодном бетонном полу, то в чане с ледяной водой.
Головорезы сменяют моего отца, и они полны энергии и энтузиазма. Я получаю еще больше ударов по лицу и телу, со всех сторон. С меня срывают рубашку и брюки, а по ногам и ступням бьют ремнями. Боль от каждого нового удара постепенно перерастает в громкую красную боль от того, что я просто существую в своем теле.
В какой-то момент один из головорезов так долго держит мою голову под водой, что я открываю глаза и вижу, с полной и леденящей душу ясностью, белые руки старухи из Ялинки. Они тянутся ко мне, и я кричу в воду, изо рта вырываются пузыри, я глотаю воду. Мои легкие сжимаются, а тело дергается.
Пойдем со мной, мальчик, – говорит она. С тебя хватит. С тебя хватит. Разве не так? Я слышу, как ты устал. Твое тело кричит от усталости. Но здесь тихо. Так тихо.
Еще нет, – говорю я ей сквозь темноту. Не сейчас, Тетя. Я нужен Лене. Я нужен Захаре. Она ждет меня. Позволь мне пойти к ней.
А я приду к тебе, когда буду готова, tyotya. Просто подожди.
Я теряю сознание до того, как они вытаскивают меня из воды.

Я просыпаюсь на заднем сиденье внедорожника. Затемненные окна закрывают меня от посторонних глаз, заслоняя небо. Я понятия не имею, какой сегодня день и который час.
Я приподнимаюсь. Все мое тело – одна сплошная боль. Каждая конечность – это пронзительный вой. Мой разум – вялый, мутный. Я опускаю взгляд на себя. На мне черные треники и толстовка. Они грязные, но сухие.
Я поднимаю взгляд.
Антон сидит передо мной. Он оборачивается, услышав мое движение. Его лицо тщательно скрыто. Его глаза не так осторожны: из них извергается чертов вулкан печали.
– Ты встал. Как ты себя чувствуешь?
Я пытаюсь рассмеяться, но мои грудные клетки словно раздробило. – Я чувствую себя так, как ты выглядишь. Как полное дерьмо.
– Ты думаешь, это смешно, пацан? – Голос Антона становится более жестким. Он злится. – Ты не знаешь, как чертовски сильно он хочет тебя убить?
– Если бы он хотел меня убить, я бы уже был мертв.
– Ты гребаный идиот. Даже если бы Андрей не был… – Он останавливает себя и сжимает руку. – Павел не тратит ресурсы впустую. Он будет использовать тебя до тех пор, пока сможет. Так что перестань быть бесполезным, пацан.
– Куда ты меня везешь?
– Туда, где мы тебя нашли. – На лице Антона промелькнуло раздражение. – Ты меня слушаешь, пацан? Просто делай, что тебе говорят, ради всего святого. Ты умрешь из-за чего, из-за жизни двух журналистов, двух кисок, которые прячутся за клавиатурами?
– Я уже сказал, что буду делать то, что мне скажут, – ворчу я. – Успокойся. Ты весь на взводе, старик. Тебе нужно перепихнуться.
– Твоя жизнь – не шутка, пацан. Перестань относиться к ней как к шутке.
Я ухмыляюсь ему. Даже улыбаться больно. Во рту привкус крови и металла. Некоторые зубы треснули, а опухоль на лице пульсирует так сильно, что, клянусь, я ее почти слышу. – Ты стал мягким на старости лет.
– Ты хороший ребенок, Яша. – Антон редко называет меня так. Это заставляет боль в моем теле устремляться внутрь, боль другого рода. – Ты заслуживаешь хорошей жизни. У тебя может быть хорошая жизнь, черт возьми. Все не должно быть так, как сейчас.
– Пока он жив, все будет так.
Лицо Антона бледнеет. – Все, что тебе нужно делать, – это слушать. Разве это так сложно? Делай, что тебе говорят, и он даст тебе все, что ты захочешь.
Я знаю, что Антон верит в то, что говорит. Именно так он может смириться с такой жизнью. Он делает все, что говорит ему мой отец. В обмен на это он ездит на лучших машинах, отдает своих детей в лучшие школы, владеет домом в Москве и домом на Мальдивах. Все, что он хочет, он может купить. Все, что хотят его жена и дети, они могут получить. Для него этого достаточно.
– Он не может дать мне то, что я хочу, Антон. – Я откидываюсь на спинку сиденья и закрываю глаза. В темноте я вижу Лену, рисующую акварелью. Я вижу Зака и Тео, смеющихся за кухонным столом. Я вижу Захару, безопасную, любимую и счастливую в моих объятиях, вся печаль изгнана из ее карих глаз. – Я не могу иметь ничего из того, что хочу.
Антон замолкает.
– Не высаживай меня в Найтсбридже, – говорю я ему позже. – Сначала мне нужно куда-нибудь съездить.
– Куда?
– Навестить друга.
– У тебя теперь есть друзья? – спрашивает Антон.
Но я знаю, что это просто его способ быть милым.

ОН высаживает меня перед черными воротами, приютившимися среди сосен, недалеко от Лондона. Перед тем как уехать, он опускает стекло и говорит: – Исправь ситуацию с журналистами, Пацан. Исправь свое дерьмо, а потом возвращайся домой. Веди себя хорошо. Делай то, что тебе нужно. Все будет хорошо. Вот увидишь.
– Не волнуйся. Я все исправлю.
И, может быть, потому что я в бреду от всех этих синяков и холодной воды или потому что мой мозг – гнездо извивающихся черных червей, я хватаю лицо Антона через окно машины и целую его прямо в лоб.
– Отвали от меня! – хрипло кричит он.
– Я люблю тебя, dedushka.
– Отвали. Ты сумасшедший. У тебя мозги набекрень. Я женат, мудак! – Он показывает мне обручальное кольцо, словно отмахиваясь от меня.
Я пожимаю плечами. – Просто скажи, что ты тоже меня любишь, ублюдок.
Он так и делает. А потом уходит.

Я перелезаю через ворота и поднимаюсь по белым ступенькам. Я игнорирую звонок в дверь и бью кулаками в дверь. Мне отвечает лай собак. Через две минуты дверь распахивается.
На Луке модные белые брюки, черные туфли и никакой верхней одежды. Его грудь и лицо блестят от тонкой пленки пота. Под мышкой у него зажат белый шлем с козырьком, похожим на решетку.
Он буравит меня взглядом и отходит в сторону, чтобы пропустить меня внутрь с улыбкой, которая никак не маскирует его явного восторга.
– Тяжелая ночка, Кав?
– Не могу жаловаться.
– Ты никогда не жалуешься. Если бы ты мог съесть кулак на завтрак, ты бы так и сделал. – Его улыбка злобно расширяется, и он наклоняется вперед, внимательно изучая мое лицо. – Похоже, ты уже это сделал. – Он поднимает руку в перчатке и проводит по моей щеке. Боль пронзает мое лицо, словно он только что ударил меня ножом. Мое лицо дергается. Лука смеется. – Ты выглядишь совершенно охреневшим, Кав. Кто бы это ни сделал – это отличная работа.
– Не притворяйся, что не знаешь. – Я отталкиваю его от себя твердой рукой. – Все это жуткое шпионское дерьмо в твоем подвале, и ты не мог предупредить меня, что мой отец едет, чтобы меня поиметь?
Он поднимает руки, его шлем все еще зажат под одной рукой.
– Я действительно пропустил это, Кав. – А потом он поворачивается и бросает мне зловещую ухмылку. – Не то чтобы я сказал тебе, если бы знал. Я был довольно зол на тебя.
Он подходит к своему бару и наливает мне выпить. Я наблюдаю за ним и говорю ему в спину.
– Я не хочу, чтобы ты причинил ей боль, – говорю я ему.
Он не спрашивает, кого я имею в виду, он и так знает.
– С ней все будет в порядке. – Он поворачивается и протягивает мне стакан с прозрачным ликером. Водка. Какой джентльмен. – В любом случае, выкинь это из головы. Иначе ты только накрутишь себя.
Серый цвет его зрачков тошнотворный, как у подземного существа. Внешнее кольцо темнее, зрачки маленькие и пронзительные. Ресницы бледные, как и волосы, и кожа. Он ближе всего к нечеловеческому облику, который я когда-либо видел у человека.
– Нет, если я не дам тебе ее адрес.
Он улыбается, криво усмехаясь.
– Но ты собираешься это сделать. Ведь именно за этим ты сюда приехал.
Избитая собака
Захара
Яков стоит в моей квартире с чашкой кофе в одной руке и белым бумажным пакетом с пирожными в другой. Улыбка у него овечья, едва заметная сквозь пейзаж ушибов, в которые превратилось его лицо.
Смотреть на него физически больно. Его вид – это смертельный удар прямо в центр моей груди. Сердце замирает от боли.
– Слишком поздно для завтрака? – спрашивает он легким тоном.
Его голос грубый, как будто у него болит горло. Его глаза – тусклые черные миндалины в своих синюшных глазницах. У него два черных глаза, а нос выглядит так, будто его сломали, а потом вбили на место.
Я и раньше видела его в ужасном состоянии. Я видела его после драк и после того, как он вернулся из России, когда мне было шестнадцать. Я видела синяки на его скулах, порезы на костяшках пальцев и губах.
Я никогда не видела его таким.
Мне кажется, я вообще никогда не видела ничего подобного. Даже в кино.
В кино герои красиво ранятся, у них есть раны и царапины, которые подчеркивают их привлекательность. В реальной жизни лицо Якова выглядит так, будто по нему били мешком с камнями.
– Яков.
Больно говорить, больно произносить его имя. Все болит.
Он откладывает кофе и бумажный пакет, которые кажутся такими обычными и неуместными в его руках, когда он так выглядит.
– Захара, – говорит он, низко и очень мягко.
Я даже не помню, как преодолела расстояние между нами. Все, что я знаю, – это то, что мгновение пролетело как один миг, и вот я уже рухнула на грудь Якова. Он ловит меня, обхватывая своими толстыми руками. Он что-то бормочет, но я не слышу из-за оглушительного шума моих неистовых рыданий.
Почему я плачу? Потому что мне грустно, страшно и потому что мое сердце словно разорвали на части. Я плачу из-за Якова, не только из-за его лица или грубого голоса, и даже не потому, что через что бы Яков ни прошел, он все равно вернулся домой со сладким угощением для меня.
Я оплакиваю его всего.
Его квартира в Чертаново. Черные змеи на груди, вся его коллекция татуировок. Сестра, о которой он никогда не говорит, и его жизнь. Его темные глаза, такие пустые, и стриженые волосы, как у заключенного. Все это причиняет боль.
Я думаю о том, как он носил мои вещи, когда мне было шестнадцать, и как я называла его собачьим именем. Я думаю о том, как смягчается его лицо, когда он находится рядом с Заком и Тео, думаю о том, как Яков лежит на полу своей спальни глубокой ночью и изо всех сил пытается читать «Республику» Платона, потому что Зак попросил его об этом. Я думаю о том, что Яков не поступил в университет, работает на своего отца, заботится обо мне. Я думаю о сигаретах, которые он выкуривает, о его почерневших легких, потому что он искренне верит, что ни на что не годен, кроме как умереть.
И я думаю о том, что никогда не вижу Якова улыбающимся. Я вижу его только серьезным, усталым, спокойным, сражающимся или раненым. Даже когда он смеется, он никогда не улыбается. Я никогда не вижу его улыбки.
Да и чему ему улыбаться?
Он никогда не улыбается и никогда не плачет, ему нечему улыбаться и есть все основания плакать.
Поэтому я плачу о нем.

После того как я выплакалась и рыдания в моей груди утихли настолько, что я могу строить полноценные предложения, я беру Якова за руку и веду его в ванную. Он садится на край ванны, а я встаю перед ним, обнимая одной рукой его подбородок. Другой рукой я аккуратно наношу гель "Arnica" на его синяки.
Если больно или жжет, Яков этого не показывает. Он сидит спокойно, послушно и умиротворенно, как хорошо выдрессированная собака. Я заглядываю ему в глаза.
– Все в порядке? – шепчу я, смахивая влажные полоски арники в черные впадины под его глазами.
– Да.
– Ты уверен, что мы не можем поехать в больницу?
– Нет необходимости. – Затем, мгновение спустя: – Со мной все будет в порядке.
Я ничего не говорю. В горле стоит комок, который я пытаюсь загнать обратно, я не хочу снова плакать. Я хочу быть сильной для него, заботиться о нем так, как он всегда заботится обо мне.
Когда я тянусь к подолу его толстовки, он на мгновение замирает, прежде чем поднять руки. Я стягиваю грязную одежду через голову и бросаю ее в корзину для белья. Я с трудом сдерживаю шок. Его грудь под всеми татуировками представляет собой пеструю карту синего, фиолетового и коричневого цветов. По бокам его рук и плеч расплываются ярко-красные рубцы. Я тяжело сглатываю, глаза горят, и наклоняюсь к нему. На этот раз я не могу сдержать хриплый крик, который вырывается у меня изо рта.
Кожа на его спине испещрена сердитыми красными пятнами. В некоторых местах удары были нанесены с такой силой, что кожа открылась: зияющие красные раны затянулись темными сгустками свернувшейся крови.
Рука Якова обхватывает мое запястье, и он снова притягивает меня к себе.
– Выглядит хуже, чем есть, – говорит он.
Я качаю головой, глаза горят. – Ты не лжешь мне, помнишь?
Он улыбается, улыбка, от которой у меня в груди все сворачивается. – Я сильнее, чем кажусь. Собака, которая может выдержать побои.
– Собаки не заслуживают побоев, – говорю я ему, голос срывается. – И ты не собака.
– Не собака? – бормочет он с легким смешком, который заставляет его тут же поморщиться от боли. – Ты повысила мне квалификацию, Колючка?
Жаль, что у меня нет такой стойкости; я бы не смогла сейчас смеяться, даже если бы попыталась. Я едва сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться снова и снова.
Я заставляю себя сосредоточиться на задании. Я заставляю его сесть лицом внутрь ванны, очищаю раны и перевязываю их, как могу. Он молчит все это время, сидит неподвижно, не издавая ни звука, когда я протираю антисептиком его раны. Я первая нарушаю тишину.
– Кто это с тобой сделал?
– Ты знаешь, кто, – вздыхает он.
Его отец, снова его отец. Кусок дерьма, прискорбный, презренный, чудовищный отец. Я думаю о своем, о том, сколько боли он причинил мне, ни разу не прикоснувшись ко мне. Я думаю об отце Якова – какую ненависть он должен испытывать к Якову, чтобы так с ним поступить. Как может отец так сильно ненавидеть собственного сына? Как может кто-то ненавидеть кого-то настолько, чтобы так с ним поступить?
– Почему? – спрашиваю я. – Или ему не нужна причина?
– Он хотел, чтобы я убил двух журналистов. Я этого не сделал.
Мы замираем в молчании еще на одно долгое мгновение. Я даже не знаю, что на это сказать. Я всегда знала, что Яков живет жестокой жизнью, именно той, от которой меня укрывали.
Но, услышав это в такой резкой форме, я чувствую, что это жестоко реально. Яков не более прирожденный убийца, чем я. Как мог его отец требовать от него такого? Как он мог допустить, чтобы это сошло ему с рук?
– Может, мы обратимся в полицию? Или…
– Нет. Мы не можем.
– Но мы должны что-то сделать, я могу поговорить с отцом, сказать ему…
Яков разворачивается и встает. Я отступаю назад, умоляюще глядя на него. Я не могу не помочь ему, не могу просто сидеть и ничего не делать.
– Захара. Все будет хорошо. Хорошо? – Он берет мое лицо в свои руки с ужасной нежностью. – Я никогда не лгал тебе – помнишь?
Я киваю, но я так потеряна и напугана, как никогда раньше. Все мои проблемы – все, что я считала проблемами, – вдруг кажутся такими маленькими и незначительными.
Яков проводит большими пальцами по моим ресницам, смахивая набежавшие слезы. Затем он обхватывает меня руками, крепко прижимая к своей ушибленной груди. Я чувствую, как его губы крепко прижимаются к моей макушке. Он говорит в моей голове, снова и снова повторяя.
– Все будет хорошо.

Он не протестует, когда я веду его в свою постель; мне и в голову не пришло бы отпустить его обратно в свою. Я откидываю одеяла и помогаю ему лечь. Он лежит на боку, его спина, вероятно, слишком болит, чтобы на нее опираться. Я сворачиваюсь калачиком прямо у него на груди, его руки обхватывают меня, а мое лицо прижимается к его шее. От него пахнет кровью и дезинфицирующими средствами. Но его кожа, как всегда, теплая, излучающая тепло, как пламя.
Он быстро засыпает – почти сразу. Я засыпаю вслед за ним, измученная плачем и переживаниями, измученная облегчением от того, что он вернулся, что он в безопасности, прямо здесь, в моей постели.
Я просыпаюсь позже, не зная, как долго я спала. Яков все еще спит, и я откидываю голову на подушку, чтобы посмотреть на него. Как это получилось, что я впервые вижу Якова спящим? Почему все должно быть именно так, когда я едва могу различить его черты сквозь синяки?
Я провожу пальцами по его щекам, носу, окровавленным губам. Я даю себе клятву любить каждую его раненую часть, сотней поцелуев покрывать каждое место, где есть синяк или порез.
Я клянусь себе осыпать Якова Кавински такой любовью, что он не будет знать, что с ней делать. И я клянусь себе заставлять его улыбаться и смеяться. Я всегда была одержима идеей быть любимой, быть счастливой. Но ничто из этого не было так важно, как это. Убедиться, что Яков любим, убедиться, что Яков счастлив.
Через некоторое время он просыпается, медленно моргая. Он пытается пошевелиться, но, кажется, вспоминает, что не может лежать на спине, и падает вперед. Я подхватываю его на руки, и его тяжесть ложится мне на сердце.
– Как ты себя чувствуешь? – спрашиваю я, мое дыхание прерывается из-за его веса.
– Как будто меня переехал поезд, я встал, а потом меня переехал другой поезд, идущий в противоположном направлении.
– Так хорошо? – облегченно говорю я.
– Потрясающе, – говорит он с хриплым смехом. – Я чувствую себя чертовски потрясающе.
Нет, думаю, пока нет. Но ты будешь.








