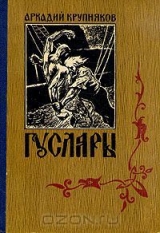
Текст книги "Вольные города"
Автор книги: Аркадий Крупняков
Жанры:
Исторические приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
– А у тебя сабля есть? – спросил он отца, когда Ольга села рядом
– Есть,– ответил Василько
– А где?
– Там в Ростиславе.
– Ты мне ее отдашь?
– Вот поеду, привезу и отдам.
Ольга глянула на Василька с тревогой, но ничего не сказала.
Ночью, после веселого пира, когда боярин уехал, а домашние легли спать, Ольга спросила мужа:
– В Ростислав поедешь... когда?
– Велено завтра.
– Я с тобой!
– Далеко же. Да и вернусь скоро...
– Тебя я не оставлю,– упрямо твердила Ольга.– Единожды я отпустила тебя и чуть навек не лишилась. Теперь не только в Ростислав, в Замоскворечье одного не пущу. Всюду с тобой ходить буду.
Василько привлек ее к себе и, нежно гладя по голове, проговорил:
– В горе и тоске провели мы с тобой полжизни. Неужели и теперь не будет нам счастья и покоя?
ТРЕТИЙ РИМ
Поднималась, расправляла плечи сбросившая ордынское иго Русская земля. Строилась, раздавалась вширь и ввысь Москва. Увенчалась держава византийским двуглавым орлом, и уже ска-' заны стали всем иноземцам горделивые слова: «Два Рима падоша, стал на Москве третий Рим, а четвертому не бывать!» Сие означало: основался центр всего христианского мира в Москве, и быть тут ему до окончания света.
Великий князь с небывалым усердием взялся за перестройку Руси, а в первую очередь решил обновить свой стольный град. Выписаны из-за рубежа муроли[18] для строительства храмов, палат и дворцов, привезены мастера литейного дела, все больше и больше появляются в Москве нужные иноземцы.
Сегодня Иван Васильевич пригласил к себе отобедать самых знатных гостей из-за рубежа.
Семейно князь обедал в трапезной, но когда во дворце появились гости, столы накрывали в гридне. Высокая и просторная; она могла вместить до сотни, а то и более, гостей. Вокруг стен широкие дубовые лавки, над ними по нижнему сосновому поясу развешаны щиты медные, железные, кожаные. Меж ними, острием вниз, повешены мечи, боевые трубы. По второму поясу, на полках, расставлены шеломы. Одни новые, только недавно выкованные, иные блестят тускло, в них хаживали на битву предки князя: Василий Темный, Иван Калита, Владимир Андреевич, их братья и воеводы. На верхних полках и совсем замшелые, покрытые медной окисью шеломы Дмитрия Ивановича Донского, Ярослава, Ивана Ольгови– ча, Всеволода Александровича Тверского.
Сегодня на столы мечут тяжелые серебряные блюда с едой: тут и кабанье мясо жареное, и лебеди вареные, так искусно убранные в перья, что кажутся живыми, гут и лососевое мясо кусками, пироги, ватрушки, грибы, моченые ягоды. И конечно, хмельное пиво. Его вносят слуги в атласных рубахах, разливают в деревянные ендовы", подают на столы.
Среди гостей наиглавнейший мастер – венецианец Аристотель Фиоравенти. Он в Москве живет три года и посажен на большое место рядом с великой княгиней Софьей. Около нее два сына – Андрей и Петр. По правую руку от Ивана Васильевича – зодчий Солари, затем три брата из Венеции – Антон, Петр и Марк. Насупротив них сели мастер Асевиз из Медиолана и пушечный мастер Дебосис из Флоренции.
За малым столом рудознавцы, серебряных дел мастера, лекари, пушечники, есть даже органных дел мастер.
Более всего тут итальянцев, народ этот, в отличие от степенных бояр, чинных князей,—шумливый. Захмелевши, венецианцы громко и наперебой хвастаются своим мастерством, обещают разрушить все плохо построенные здания Москвы и возвести новые, невиданной красоты. Княгиня Софья не успевает переводить их речи. Боярам, радеющим старине, эти разговоры не по нутру, и они сидят хмуры. Да и великому князю хвастовство это начинает надоедать, но он терпеливо слушает. Что поделаешь – гости.
В разгар обеда вошел дьяк Курицын, что-то шепнул на ухо великому. князю. Тот встал и, обращаясь к жене, сказал:
– Пусть простят меня дорогие гости, но я должон их покинуть. Умирает государственный муж и зовет меня к себе. Скажи им, Софьюшка, и гуляйте без меня.
Князь вышел, а по гридне шум: «Кто умер, когда, где?»
– Совсем плох дьяк Василий Мамырев,– тихо говорит Софья.
По гридне шум еще более: «Мало ли хворых дьяков у нас? Ради каждого бросать именитых бояр, князей, гостей – виданное ли дело?»
А великий князь, сидя в возке, думал: «Уходит из жизни человек, который боле для Руси пользы сделал, чем все князья и бояре, что остались сейчас в гридне. Только себе князь может признаться, что Мамырев подал ему мысль расправиться с Ахматом без кровопролития, он один, мудрая голова, знал все, что творится на рубежах Русской земли. Дьяк Федор Курицын – мудрейший и грамотнейший муж Москвы, но тот – книжник, годен для составления грамот, для поездок в иные страны. Василий же из Москвы никуда не выезжал, но, словно ведун и волшебник, знал все и о всех. И всякую беседу он начинал так: «А ведомо ли тебе, государь...» Крымское посольство подготовил он, он же указал на Беклемишева как на самого нужного для этого дела человека. Чем дышит Менгли хан, король Казимир, казанский хан и хан ногайский, о чем думает султан турецкий—все знал Васька Ма– мырев Ничего не просил, ничего не требовал, работал, кажется, и день и ночь. Посла на дворе еще нет, он еще только, на Москву идти собирается, а у дьяка Мамырева уж готовы для него грамоты, и совет князю дан, как посла встретить, что ему дать, что сказать. Да, уходят старые, верные слуги, а молодых мало, ой как мало».
В Сергиевом монастыре, что у Троицы, князя встретил игумен, провел в сухую, светлую, побеленную известью, келью. Дьяк лежал на широкой лавке, под голову высоко подложены сенные подушки. Нос у дьяка обострился, лицо покрылось восковой бледностью, бородка, вечно всклокоченная, сейчас приглажена.
– Впервые вижу тебя, дьяче, на ложе,– сказал князь, присаживаясь на поданную скамью.– Думал я, износу' тебе не будет. Давно ли бодр был.
– Прости, что потревожил, государь, последнее слово тебе сказать надобно.
– С преклоненною главою выслушаю, дьяче. Много ты для русских людей добра сделал.
– А ты?—Взгляд у Мамырева стал колючим, злым,—Говорят, с иноземцами пируешь, Москву третьим Римом назвал. Скоро совсем своих людей в кремле выведешь —с кем княжить-то будешь?
– Люди, коих я к себе позвал, Москве зело надобны. Ты сам мне об этом не раз говорил.
– Иноземцы золота ради к тебе едут, а ты им душу отдаешь. А людей русских, кои государство твое возвеличили, от себя отринул, злом за добро им платишь.
– Как это – злом?
– А так. Боярин Беклемишев для тебя, казалось, невозможное совершил – союз Крыма тебе привез, впервые за все время Москвы стояния, а ты его в темницу бросил.
– Никита выпущен, дьяче, он снова мне служит.
– Чем же снова ты ему отплатил за это? Спесью княжеской. Княжну Катерину, которая любила его более жизни, в монастыре заморил, городок Алексин, как отнял в ту пору, так и не отдал. И теперь Никита получает от тебя в год меньше, чем какой-нибудь муроль за неделю. Он по-прежнему вдов и беден, и помыкаешь ты им...
– Но он мне служит же...
– Да не тебе он служит, он родной земле служит. Потому и не ропщет
– Ранее ты со мной так смело не говорил. Боялся?
»
– Не за себя. За дело боялся. Ты бы под гневную руку голову мне снес, а кто советами тебе помог бы? Я вот ухожу, дьяк Курицын тоже стар – кто иноземные дела вести будет? По моему совету послан был в Бахчисарай юноша, малец совсем, но сколь важны были дела его. Другому, умудренному жизнью боярину столько не свершить. Я бы свои заботы, не оглядываясь, отдал в его молодые руки, а где он? Ты даже спасибо ему не сказал. Не родовит, не сановит. Благо, что не выпорол по ошибке, как было с Беклемишевым.
– Руки не доходят, дьяче...
– Потому и не доходят – не тех людей около себя ставишь. Погоди, если не тебе, то сыну твоему плакать придется с родови– тыми-то да латиняками. Русскому граду – русским надлежит быть, а не Римом Третьим...
– Да что тебе, дьяче, Рим этот дался! Попы сказали, а ты...
– Не попы! Не ты ли орла двуглавого на московский насест посадил! Я еще не знаю, как бы дело на Угре обернулось, если бы ватага хану хвост в Сарае не прижала. А ты только и додумался меня к ним послать да посмотреть, чтобы они тебе лиха не сделали. Где тот атаман, что в самом сердце земли Ахматовой не убоялся тебе на подмогу стать? Не знаешь! А я бы ему удел княжеский дал, и он бы с такой ратью самым верным твоим воеводой был.
– Холопа князем?
– А ведомо ли тебе, государь, что атаман сейчас не холоп? Он у князя Соколецкого дружину водил и сыном побочным ему приходится.
– Да ты-то откуда это знаешь?
– А ты у Никиту Чурилова спроси. Да что там Никита! Ты и его забыл. Тебе любой щеголь из Венеции дороже Чурилова.
– Не думал я, дьяче, что ты так не любишь меня.
– Не сладко правдивые речи слушать? А ты и меня в поруб брось. Ну, повели! Повели! – Дьяк последние слова прокричал с хрипом, потом надрывно закашлялся, на губах появилась пена.
Князь подскочил к нему, взял за руку и горячо проговорил:
– Прости меня, Василий сын Мамырев, прости. Людей, тобою названных, я возвеличу, землю и людей русских в обиду не дам.
– У одра моего смертного поклянись,– тихо прошептал дьяк.
– Клянусь!
– Да простится тебе. Аминь. – Мамырев вздрогнул, вытянулся. Затих. Князь положил руку его на грудь, она плетью упала на лавку.
Иван позвал игумена и сказал властно:
– Похорони его, святой Отец, по большому уставу. Плиту надгробную положи из мрамора и высеки надпись.
– Какую, государь?
– А вот какую: «Месяца июня в пятый день, с субботы на неделю преставился Великого князя дьяк Василий Мамырев и положен у Троицы в монастыре за церковью против Никонова гроба, а жил лет 60 без двух месяцев, а в диачестве был 20 лет без осми месяцев, а именины его в апреле 12 Василия Парийского».
– Все сделаю, государь.
И лег дьяк Васька Мамырев рядом с богатой могилой патриарха Никона по правую руку. Слева, так видно быть судьбе, темнела зеленая гранитная плита, на которой коротко выбито: «Княжна Мангупская. Упокой, господи, ее душу».
Андрейка стал совсем рослым парнем, и уж девицы заглядываются на него. И статен, и красив, и весел: песни поет, на гуслях играет – заслушаешься. И по званию известен – подручный у самого мастера литейного дела Альберти.
Сегодня у Андрейки вольный день – воскресенье. Захотелось ему на простор, на летнем солнышке погреться. Взял с собой он гусли, зашел за Васяткой, и пошли они за город, на холмы. Из Китай-города по деревянному мостику перешли Яузу и по Котельнической набережной улице вышли за укрепную стену.
С недавно возведенной каменной стены кремля они оглядели город. На мутных волнах реки покачивались ладьи, парусники и широкие, плоскодонные баржи. За Яузой поднимались столбами дымы, там жил ремесленный люд: котельщики, бронники, таган– щики, гончары. У каждого свой дым: либо горно, либо печь, либо варница. Внизу до самой Яузы простиралось Зарядье, торговые лабазы, навесы, открытые прилавки и лавчонки. Там кишел людской муравейник, слышался гомон, ветерок доносил вонь от испорченной рыбы, кислой капусты и дубленой кожи. Влево, на холмах, поблескивали крыши боярских теремов. И всюду, куда ни погляди, маковки церквей деревянных, каменных, кирпичных. Они сияли позолотой, сверкали лазоревыми красками. И благовест, извечная музыка Москвы, плыл над городом, растекался звонкими ручейками, гудел медью больших колоколов.
Потом они спустились в Зарядье. Шум торговых рядов оглушил Андрейку. На длинных дощатых рядах, на прилавках, скамейках, а то и прямо на земле шла купля-продажа, каждый во все горло расхваливал свой товар.
– А вот кольчуги-и, кольчуги медный, железный!—орал чумазый бронник.– Вот сабельки муравлены, мечи червленый, шесто– перы-ы, шестоперы!
– Ай девица, ай красавица! Бери сапожки сафьяновы, шиты золотом, подбиты серебром! Черевички бери, черевички-и!
– Кому узорочье серебряное! Есть колты1 алмазный, кольца золотым!
– Пироги-и, пироги с грибами!
Неоглядно торжище, были бы только деньги в кармане.
Андрейка засмотрелся на Москву: красота и величие города, праздничный благовест церквей – все это будило в нем какие-то неясные думы. На Литейном дворе, где сейчас работал Андрейка, часто бывал великий князь Иван Васильевич, иногда он говорил с иноземным мастером и называл столицу вольным городом, часто упоминал об утверждении московской твердыни, о свободе земли русской. А дома, когда к отцу приходили его друзья, он слышал совсем иные речи. Особенно недоволен жизнью был Микеня. Он хоть и срубил себе новую избу, хоть и женился на мягкотелой вдовице из Ростиславля, однако порядками, которые заведены в Москве, тяготился. Работал Микеня с плотницкой артелью на перестройке кремля, куда мастеров сгоняли силой из Новгорода, Владимира и Твери. С иноземным зодчим Солари, который нанят для сего дела, Микеня был в постоянных стычках. Отвык он от того, чтобы на него покрикивали, а Солари в обращении груб, как чуть что – сразу кулаком в зубы. Андрейка видел, что Микеню опять тянет на вольное житье, с тихой грустью вспоминает он пору, когда ходил на Сарай-Берке.
Совсем плохо пришлось попу Ешке. Андрейка знал из разговоров; что в православной церкви началось великое шатание устоев, расплодилось множество ересей и лжеучений. Митрополит расправлялся с еретиками, всякими книжниками жестоко. А Ешка по простоте душевной приволок с собой изображение святой Агнессы да и подарил его малой церквушке в Ростиславле. Поп этой церкви, тоже по простодушию, выставил католическую святую перед алтарем. О сем узнали в Москве, Ешку и попика расстригли и послали в далекий монастырь чернецами.
Отец Андрюшки с Литейного двора ушел – работа там была вредная для здоровья, платили простому люду скудно, даже не хватало на хлеб и на квас. Пришлось Ивашке кланяться Васильку, чтобы тот взял его в дружину сотником.
И Андрейка стал понимать, что в Москве воля есть не для всех, а только для князей, бояр да иноземных людей, коих к этому времени развелось много. Эти размышления прервались гусельной игрой. Пока он стоял и думал, Васятка достал из чехла гусли и стал названивать песню, которую перенял у Андрейки недавно.
– Ты молодец, Васятка, быстро выучил песню,—сказал Андрейка задумчиво,– это деда Славки песня. Она про волю рассказывает.
‘Колты (старорусск.) – серьги.
– Мне бы слова... Я ее петь стану.
– Тебе еще рано. Вот вырастешь – будем петь ее вместе.
Васятка, не переставая играть, согласно кивнул головой.
ГОДЫ ИЗМЕН
Год за годом идет время. Ширится и крепнет государство Московское. Иван Васильевич отладил мир с Крымом. Умер король Казимир – извечный враг Руси, вместо него сел на престол его сын Александр. И здесь преуспел великий князь. Он отдал дочь свою Елену за молодого литовского короля и заключил с Литвой мир. Уже перешли под руку Москвы князья Вельские, Черниговские и Северские со своими землями, уже закончены битвы под Ведрошью и Мстиславлем, уже ходят русские послы в австрийский двор, шлют своих купцов в Москву дожи Венеции.
И только с Казанью никакого ладу нет. Как только отравил Алихан своего отца Ибрагима, как развязал себе руки, так и начал лютовать. То снаряжает поход на Нижний Новгород, то шлет своих конников на Вятку, то воюет Муром и Галич. Надо было что-то делать. Вспомнил тогда великий князь про сына царицы Нурсалтан...
Магмет-Аминь прожил эти годы в Кашире. Тихо прожил, скучно. Сунул его великий князь в этот худой городишко на кормление и забыл. А ныне весной вдруг весть: просит мать приехать в Крым, погостить. Обрадовался Аминь. За день снарядил возок, взял десяток конников – и айда в Крым. Встретила Нурсалтан сына ласково, показала его мужу, провела по новой столице ханства – по Бахчисараю. Много лет не видел мать Аминь. Думал, постарела. А царицу будто и годы не берут. Какой была, такой и осталась. Красивой, властной, деятельной. Вечером стал Аминь жаловаться на свою жизнь!
– Скоро мне исполнится девятнадцать, а кто я? В Казани говорят– выкормыш царя Ивана, в Москве говорят – будущий хан Казани. Предки мои, ханы Золотой Орды, в мои годы на тронах сидели, громкую славу битв имели. А я до сих пор, как щенок, скулю у казанской подворотни, великий князь меня в военные дела не берет, на мои письма не отвечает.
– Ты долго в Москве жил, а нрав Ивана не понял,– спокойно говорит в ответ сыну Нурсалтан.– Он такой человек, если ты ему нужен, он тебя на руки возьмет и через любую реку переносить будет. Но если вдруг с того берега ему крикнут, что ты уже не нужен, он посреди реки тебя бросит, будешь тонуть – руки не подаст.
– Чтобы понять это, – говорит Аминь, – долго в Москве жить не надо. Все властители такие.
– Верно сказал. От писем что толку. Надо показать, что ты Ивану нужен.
– Как?!
– Жениться надо.
– О валлах-биллях! Мне себя кормить трудно...
– Ты руки к небу не поднимай – ты меня слушай. Были у меня от ногайского мурзы Юсуфа люди и сказывали, что есть у него две дочки неописуемой красы. И намекали, что Юсуф не прочь со мной породниться.
– Я слышал – Юсуф богат?
– И силен. Вся ногайская орда в его руках. И если ты станешь его зятем – Иван тебе письма слать будет, а не ты ему. Поезжай к Юсуфу, я с тобой богатые подарки ему пошлю.
Обрадовался Аминь, на другой день по-быстрому собрался и катнул в ногайские степи.
Мурза принял его ласково, дочек показал: старшая, Гюльнэ,– пышнотелая, круглолицая, младшая, Сююмбике,– смугла, черноглаза и стройна, как тополек. Разбежались глаза у Аминя – какую сватать? Обе около него увиваются. Аминь – джигит тоже хоть куда: статен, силен, красив.
Две недели гостит он у Юсуфа: слушает песни сестер, пирует с сыном мурзы Али-Акрамом, на скачки ездит. И никак не решит: к какой дочке свататься. Если у мурзы спросить – неудобно, у невест выпытать, какой он больше нравится, тоже смеяться будут. Решил с Али-Акрамом посоветоваться.
– Сватай любую,– сказал подвыпивший Али-Акрам.– Я бы на твоем месте Сююмку взял.
– Не молода ли?
– Ля илляхи! Пятнадцать лет – самая пора. А Гюльнурка тебе ровесница. Когда ты станешь зрелым мужем – она старухой будет.
Подумал-подумал Аминь и решил сватать Сююмбике. Позвал ее в степь поговорить...
Над полуденной степью вьется ковыльный пух. Теплый, упругий ветер приносит с низовий Волги горький запах полыни и прелого камыша. Всходят, наливаются соком молодые травы, поднимаются над выветренным за зиму сухостоем.
Кони идут рядом, сбивают копытами росу, тянут за собой, как бесконечные арканы, два влажных следа. Аминь смотрит на Сююмбике и дивится. Девушке совсем мало лет, а в больших черных глазах ее светится взрослый ум, в уголках сочных, розовых губ таится усмешка. Две толстые косы перекинуты на упругую грудь, в седле сидит твердо, играет стременами, касается коленом ноги Аминя, вроде дразнит. Аминь молчит, не знает, с чего начать разговор. Девушка приходит ему на помощь:
– Моя сестра тебе нравится?
– Гюльнэ? Я завидую тому, кто станет ее мужем. Женихов у нее много?
– Отбою нет. Ты ведь тоже...
– Нет, нет,– Аминь торопливо поднял руку, – не она отворит ворота моей любви.
– Кто же звезда твоей ночи, джигит?
– Сердце мое отдано другой.
– Там, в Москве?
– Нет. Она тут, недалеко... Совсем рядом.
– Уж не я ли?
– Ты, джаным[19].
Девушка стрельнула глазами в Аминя, спрятала улыбку.
– Обо мне рано думать, джигит.
– Тебе уже пятнадцать. Я знаю...
– Не в годах дело.. У меня тоже сватов было немало. Но я...
– Чем же не хороши женихи?
– Я хочу, чтобы мой муж дал мне то, чего у меня нет.
– Чего тебе не хватает?
– Мне предлагали табуны коней и скота. Зачем мне они? Ты видел бесчисленные отары скота у моего отца. Мне предлагали золото и красивые одежды. Разве дочь Юсуфа бедна?
– Ты хочешь полюбить? – догадывается Аминь.
– У каждой девушки сердце переполнено любовью. Я хочу власти. И Гюльнэ тоже. Все остальное у нас есть.
– Я тебе дам власть! —дерзко и решительно говорит Аминь.– Ты знаешь, что Алихан незаконно занял мое место на казанском троне. Скоро царь Иван пойдет на Казань войной, и я буду ханом.
– Вот тогда и пришлешь ко мне сватов,– мягко, как бы в шутку говорит Сююмбике и лукаво смотрит на Аминя.
Лицо джигита покрывается бледностью, взвилась над головой ногайка, со свистом опустилась на круп коня, и засвистел в ушах ветер. Если бы знал Аминь, что ждет его у мурзы, не скакал бы так поспешно от насмешливого взгляда Сююм. Может, пошутила, лукавая, может, ждала уговоров?
На дворе мурзы встретил его Али-Акрам, взял под уздцы коня, спросил:
– Ну как?
– Гюльнэ в жены возьму! – крикнул Аминь, соскакивая с седла.
– Поздно,– равнодушно говорит Акрам.– У отца сваты от казанского хана сидят. Гульнэ уже согласие дала.
– Но у Алихана три жены уже есть!
– Шариат позволяет... Достойный хан четыре жены иметь должен.
– О порождение Иблиса! Он похитил у меня трон, теперь из– под носа уводит невесту.
– Ах, был бы ты ханом... – Али-Акрам огорченно разводит руками.
Прискакал Магмет-Аминь в Каширу, злой как черт. А там гонец его дожидается. Зовет Иван Васильевич Аминя в Москву.
Весной 1487 года собрал Иван Васильевич военный совет – позвали туда князей: Данилу Холмского, Александра Оболенского, двух Семенов – Ряполовского и Ярославского. Был на том совете и Магмет-Аминь. Дело, видать, предстояло нешуточное – под рукой этих князей, почитай, около ста тысяч воинов. Великий князь, как всегда, говорил коротко:
– С Казанью надо что-то делать, князья и воеводы. Мало того, что Алихан окраины наши терзает, так появился еще и черемисский князь Алгазый со стороны Камы. То и гляди, повоюют наши рубежные уделы. Пришел к нам из Казани мурза Урак и жалуется он на Алихана. Говори, мурза!
– Мы недаром отпустили к тебе малолетнего Аминя,– сказал Урак,– покойный хан Ибрагим ему наследником казанского трона велел быть. Мы так думали: если Алихан будет плох, то мы позовем Аминя. Теперь не только вам, но и нам, коренным казанцам, от Алихана жизни нет. Недавно позвал он всех знатных к себе на пир, а потом велел перерезать, как баранов. Хорошо, мы успели из города уйти, но семьи наши в руках его остались. Настала самая пора ханом Аминя сделать, теперь он возрос, он законным властителем Казани станет, нам и вам доброхотство будет.
Спустя неделю повели князья свои рати на Казань. Впереди воеводы Василько да Ивашка со своими тысячами на судах, лошадей берегом повел Магмет-Аминь. Остальные рати пошли пешком.
Встретил их Алихан, как всегда, на реке Свияге, но бой длился недолго. Ивашкина да Василькова тысячи побились с татарами сутки без передыху, утром с правой стороны подоспели конники Магмет-Аминя. Еще день шло сражение, а ночью Алихан ушел в город и заперся там, потому как узнал, что вот-вот основные войска русские подойдут.
Князья Ряполовский и Оболенский обложили Казань со всех четырех сторон, Данила Холмский ударил на Алгазыя, смял его передние сотни и погнал в сторону Камы. Князь Ярославский стоял в запасе, на случай штурма. Алихан в одни ворота выскочит, ему Оболенский даст по зубам, в другие ворота вылазка – там ра– ти Семена Ряполовского. Да и Данила Холмский с Камы возвратился. Алгазый ушел в степи, боя не приняв.
Три месяца стояли русские рати у стен Казани накрепко. Воеводы слали гонцов к великому князю – пора-де город приступом брать, пора победный конец походу делать. А Иван Васильевич спешить не велит. Зачем людей в приступе губить, если, не торопясь, можно осадой хана заморить – сам, придет время, из города выползет.
Так оно и случилось. 9 июля открылись ворота Казани, мурзы вывели Алихана с женами, отдали его в руки князя Холмского, запросили мира.
Суд великокняжеский в Москве был скор: Алихана, его жен всех сослать в Вологду, Суртайшу и братьев – еще дальше, на Белозеро, в дикий городишко Карголом. Крамольных мурз и эмиров по усмотрению нового хана Магмет-Аминя – казнить. Вот тут уж Аминь потешил душу: сыскал всех противников отца, матери и своих – сек головы, вешал, душил.
Казань склонила голову, притихла. Пришло спокойствие на русские рубежи.
Через год в Вологде Алихан умер. Говорят, не столько от болезней, сколько от обиды и злости. Не успели опального хана похоронить– великому князю от Аминя грамота. Просит молодой казанский царь позволения взять в жены вдову Алихана—Гюльнэ. Иван Васильевич отвечает отказом. Он знает: появись Гюльнэ на троне – спокою в Казани не будет. Магмет-Аминь снова грамоту:
«Великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, брату моему, Магмет-Аминь челом бьет. Ты бы злобу на вдову Алихана снял, в мои руки бы ее доверил, и оттого я, с ногайским ханом породнившись, тебе буду служить спокойно. А так с ногайской землей Казани миру не быть».
Великий князь снова отказал, но потом сдался – канючил Аминь целый год, гонцам покою не давал.
Десять лет Москва и Казань жили мирно. Иван Васильевич спокойно вершил свои дела.
Но недаром не лежало его сердце к браку Аминя и Гюльнэ. Злоба к Москве* притушенная страхом и ссылкой, снова разгорелась в душе своенравной Гюльнэ, и стала она точить Аминя день и ночь – на князя Ивана натравливать.
Хвори совсем доконали великого князя. Он почти не вставал, плохо ел и пил, жаловался на ломоту в ногах. Около него часто сиживал старший сын Василий, которому, как было уже известно, передается великокняжеское место. Остальные сыновья, Юрий,
Дмитрий, Семен и Андрей, на отца были в обиде и к больному почти не подходили. И то надо сказать—Василию Ивановичу отец в завещании отделил 66 городов самых знатных, таких, как Москва, Новгород, Псков, Тверь, Владимир, да волостей княжеских, вплоть до мордовских и вятских земель, а остальным сынам дал всего 29 городов самых худых. Иван жаловался старшему сыну:
– Обиду и зло на меня несут, а того не понимают, дробить государство Московское – значит погубить его. Дай я всем поровну, снова междоусобицы начнутся, и растрясут княжество, яко старый веник.
Особенно тяжко перенес велик-ий князь весть об измене Маг– мет-Аминя. Да что там перенес – именно это известие и уложило Ивана в гроб. Перед смертью он наказал Василию:
– Я вскормил, вспоил его, от матери Нурсалтан я все лиха отвел, брата его, Абдылку, грудным младенцем из рук злодейских вырвал, воспитал, в Крыму пристроил, а как он мне отплатил за все это? Мне уж за неверность наказать его не доведется – сие тебе завещаю. С весны шли рати в Казань, злодея с трона долой, посади на его место Абдылку. Нече ему всуе в Крыму сидеть.
27 октября Иван Васильевич умер на 67-м году жизни и на 44-м году княжения. Он на два года только пережил жену свою Софью.
Державу великокняжескую принял Василий Иванович Третий.
ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ
Ольге, видно, так на роду написано – жить одной. Муж ее теперь тысяцкий воевода, постоянно в походах. То на Литву, то на Казань, то на Вятку. Брат снова уехал в Крым, в Кафу. После турецкой войны междуцарствие там кончилось, султан снова отдал трон Менгли-Гирею, договор с Москвой подтвердил и снова стал привечать в Кафе русских купцов. Дом Чуриловский подновили, живут там и Семка, и Гришка – торговлю ведут. Вырос и Васят– к.і, его гоже Ольга видит редко. Взят статный и красивый парень ко княжескому двору, должность у него немалая – великокняжеский постельничий. Присмотрел там боярскую дочку, жениться думает. Дом в Сурожике пришлось продать. Земли те отдал великий князь какому-то ордынскому царевичу (их много ныне на Москве развелось), и житья там не стало.
Ивашка у князя в чести, он, как и Василько, водит в походы тысячную рать при князе Даниле Холмском. Андрюшка Литейный /тор оставил, служит тоже в рати, при пушечном наряде. И тоже, как водится, дома почти не живет. Встретятся в доме Василька, попьют пива или браги, вспомнят крымское житье, в гусли поиграюг, песни попоют, а больше их Ольга и не видит.
С Микеней беда приключилась. Послали его артель ломать камень под Гарусу Работать заставляли много, а платили мало. Артель взбунтовалась, бросила работу. Послали туда для наведения порядка боярина, а Микеня тому боярину разбил рыло в кровь, стражникам тоже бока наломали – пришлось всей артелью в леса уходить, на вольное, разбойничье житье.
Василий Иванович, на троне укрепившись, сказал себе: пора отцовский завет сполнять, пора мятежного Аминя наказывать. Обдумывая поход на Казань, князь понимал, что дело сие трудное.
Воевод надо бы подобрать умелых, но местничество на шее великого князя хомутом висит. В думе ли, в походе ли у каждого князя свое место обозначено. И установлено это место не по уму, не по доблести воинской, а по родовитости, по богатству. Тот же Бельский-князь. К ратным делам мало способный, в думе от него мудрости не жди, а родовитее его в Москве нет. И на войне ему первое место, потому как его полки самые многочисленные.
И пришлось в Казань посылать его. Вельского, да младшего брата Дмитрия Ивановича
Вот тут и взыграла у князя Дмитрия византийская кровушка. Собраться ратям как следует не дал—торопил, рвался в битву: «Скорее, скорее – вон из Москвы, в жаркое дело, на Казань!» Весенняя земля еще не просохла, апрель на дворе, а князь приданное ему войско из Москвы вытурил, велел идти в Нижний Новгород.
Великий князь Василий Иванович по опыту отца своего поход обдумал всесторонне. Брату крепко-накрепко наказал:
– В походе зря не торопись, но и не мешкайся. На рожон не лезь. Как придешь к Казани, там уже совсем горячку пороть не след Гляди в оба – хан тебя непременно упредит. Встречь ему всю рать не кидай. Если сил не хватит – отойди. За тобой вслед рать князя Ростовского пойдет – жди его. Стены казанские высоки и крепки, зря, аки пес, на них не бросайся, ворога выманивай на чистое поле. Решительную борьбу не починай, пока Данила Холм– ский свою рать не приведет.
Князь Дмитрий слушал брата вполуха – ему ли учить его, сам– то много ли воевал? Все по примеру отца своего сделать норовит, а тот сам рати в бой никогда не важивал. «Вот,– думал Дмитрий,– возьму Казань с налета, покажу вам всем, как воевать, и все увидят, кто истинно престола великокняжеского достоин».
Передовую тысячу в рати князя повел Василько Сокол. Он при главном воеводе вроде бы за помощника – через него все княжеские повеления другим тысячам передавал. Когда Дмитрий решил тащить за собой стенобитные машины, Василько сказал:
– Пушки везти – еще так-сяк, а эти громадины зачем? Измучаемся мы с ними. Их на месте соорудить можно. Лесу там скоко хошь, плотники есть...







