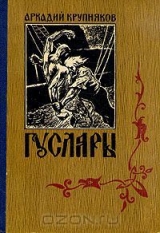
Текст книги "Вольные города"
Автор книги: Аркадий Крупняков
Жанры:
Исторические приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
– Не хочу. Сам прочти.
Холмский пододвинул свечу, развернул свиток:
– «Благоверному и христолюбивому, благородному и богом венчанному,– начал читать Холмский,– преславному государю
великому князю Ивану Васильевичу всея Руси богомолец твой, архиепископ Вассиан Ростовский, благословляю и челом бью. Ныне слышим, что бусурманин Ахмат христианство губит, а ты перед ним смиряешься, молишь о мире, а он гневом дышит, твоего моления не слушает, хочет до конца разорить христианство. Дошел до нас слух, что прежние твои развратники не перестают шептать тебе в ухо льстивые слова и советуют предать на расхищение волкам словесное стадо христовых овец. Какой пророк, какой апостол научил тебя повиноваться этому богостыдному, оскверненному, самозванному царю? Не уподобайся окаянному Ироду...»
– Ироду? Вот до чего дошло. Хватит, боле не читай. Лучше скажи – ты на берегу Угры был? Что про Ахмата слышно?
– Был. От хана лазутчика слушал. И будто хвастает Ахмат и говорит: «Даст аллах зиму на вас: когда все реки станут, то много дорог будет на Русь, и никто не сможет остановить меня».
– Скоро ли на Угре лед будет, по-твоему?
– По утрам, государь, прибрежные воды схватывает ледком, но днями солнечно, и лед тот тает. Брат твой, Андрей Меньшой, спрашивал, как быть, когда лед будет крепок. Сын твой рвется на переправы...
– Завтра же шли гонца с моим приказом: как только появится тонкий лед, отвести рати на Кременец, а полки, что под рукой сына моего, еще дале – на Боровск.
– Тут и я замыслов твоих, государь, не понимаю. От Боровска до Москвы рукой подать...
– Скажи, князь, от Угры до Кременца много ли сел?
– Леса там дремучие. Деревенек, почитай, совсем нет.
– Слышал я, что воины Ахматовы сей день постолы в казанах варят и жрать им нечего. А в лесах, когда снег выпадет, он не токмо себе, а и лошадям своим корму не найдет.
– А ежели Казимир ему кормов подбросит, подмогу пошлет? Не зря хан прямо на нас не пошел, а к левому рубежу жмется. Литва там рядом...
– Казимир с крымским ханом воюет. Ему не до Ахмата.
– А ежели Ахмат в тех лесах не растворится и пойдет прямо?' Кременец, тем паче Боровск нам не удержать.
– Добро было бы, коли пошел он на Боровск. Но хан не пойдет. У него уже на седни хвост к берегу Угры примерз...
...Хан каждую ночь засыпает в своем шатре под заунывные песни волчьих стай. По утрам выскакивает на волю, ждет заморозков. Но мечет по берегу студеный ветер вороха опавших листьев, а мороза все нет и нет. Иногда прихватит за ночь землю ледком, а днем либо солнце, либо дождь, и все снова тает.
Вчера на рассвете вполз в шатер воин, распластался перед кошмой, на которой спал хан.
Ахмат сердито тряхнул головой, сбрасывая остатки сна, сказал хрипло:
– Встань, говори.
Ордынец сорвал с головы войлочную шляпу, запахнул мокрый, драный стеганый халат и, дрожа всем телом не то от страха, не го от холода, произнес:
– Худые вести привез.я, могучий. Всадники Туралыка до столицы не достигли и все рассеяны у Семи холмов. Сам Туралык попал в плен к урусситам.
– Откуда там урусситы?
– Не знаю, великий. Нас осталось не более сотни, юнагас Хонтуй отошел к Донцу, а меня послал к тебе. Он ждет твоих повелений.
– Иди обсушись. Повелеваю прикусить язык и молчать. Узнают об этом – язык вырву.
В другое время после такой вести хан излил бы зло на гонце, принесшем дурную весть, приказал бы отрубить ему голову. От такой обиды он откусил бы кончики своих усов, изгрыз бы губы до крови. Позвал бы слуг и бил бы их нагайкой, срывая гнев. А сейчас хан промолчал, укрыл голову подушкой, только застонал устало. Для гнева не было сил, да и не время буйствовать – надо спокойно самому, без советников, обдумать, что делать дальше. Если бы это был простой набег... Раньше, бывало, придет в войне удача —слава аллаху, возвращается хан с добычей. Если набег неудачен, тоже невелика беда: отлежится хан в своей столице – и снова в дорогу. Теперь совсем другое дело. Сейчас этот поход решает: быть Орде или не быть. Домой теперь дороги нет, в Сарай вести войско нельзя Стоит только двинуться с места—русские сразу в спину ударят и будут бить до самой Рязани. Там айдамахи какие-то появились. Если они за один день пять тысяч лучших бойцов разметали, значит, у них сила. Хоть и обессилели ханские сотни, но всей ордой разбойников придавить можно, до Сарая добраться можно. Но столица пуста, не успеешь там кибитки поставить, как Менгли-Гирей пожалует. Ахмат знает: за спиной крымского хана султан Баязет. Они его не помилуют.
Остается одно – Москва. Надо строптивому Ивану все простить, пожаловать его, выпросить хоть какую-нибудь дань – тогда можно спокойно и не спеша в родные степи идти. Гордость свою до поры до времени спрятать.
И, не советуясь с сераскирами, хан велел послать гонца в Москву.
Гонцу было сказано так:
– Передай князю Ивану, что я его жалую. Но пусть он сам придет бить челом, как делали предки его.
Гонец ускакал. Идет неделя, вторая, третья. Князь все не едет.
Снова хан давай собирать совет. А на совете даже настырный Ка– ра-Кучук против переправы. Надо ждать зимы,– сказал он,– либо склонить князя на мир». Послал хан гонца в Боровск, где в это время стоял князь.
– Если сам не хочешь ко мне идти, сына или брата пошли.
Иван обещал послать сына. Еще прошла неделя. Нет ни сына
княжеского, ни брата. А время идет. Хан шлет еще гонца.
– Если сына и брата не хочешь слать, то пришли Никифора Басенка. А то даст бог зиму – все реки станут, тогда много дорог будет на Русь.
Хану теперь не до гордости, пусть русские посылают просто ратника – лишь бы мир выговорить. А Иван думает: «Теперь не я к тебе, а ты ко мне гонцов шлешь. До зимы же ты не токмо лошадей, но поеголы свои сыромятные сожрешь».
В первых числах ноября выпал снег. Мокрый, но обильный. В реке Угре снежная каша – льду еще не жди.
А в стане ордынском разгулялась простудная хворь. Мрут ордынцы тучами – хоронить не успевают. Ахмат ждет ледостава, а на дворе слякоть. Совсем плохо хану: он тоже простудился, все тело в жару, ломит кости, в голове боль.
Десятого ноября, наконец, ударил страшный мороз. А по морозу прискакал из Сарая всадник с вестью: Крымская орда вырвалась на просторы Дикого поля и идет к столице хана. Ахмат выслушал весть лежа и ничего не сказал. Ночью позвал Кара-Кучука и, задыхаясь, выкрикнул всего одно слово:
– Домой!
В один день свилась орда, собралась и ринулась через литовские и польские земли в свои пределы. Ахмат, когда его выносили хворого в повозку, сказал Кара-Кучуку:
– Главным подстрекателем этого несчастного похода был круль Хазиэмир. Это он погубил поход, оставив нас без помощи. Теперь для меня врага хуже, чем он,– нет.
А это означало: грабь, разоряй, жги.
Глава девятая
МОСКВА – ВОЛЬНЫЙ ГОРОД
Москва всем городам мать. Кто а Москве не бывал—красоты не видал.
В. Даль. Пословицы русского народа
ГУЛЯЙ-ГОРОД
очью грянул мороз. Словно выпущенный после долгого и томительного ожидания, он зарезвился на улицах и начал бедокурить: пьяному сторожу у Покровских ворот прихватил мокрую бороденку к воротнику чапана, и тот, отдирая ее, вырвал препорядочный клок волос, заморозил воду в пожарных кадях, разорвал обручи, впаял в лед все лодки, плоты и переправы на Яузе, на Неглинной и на Москве-реке.
У Тверских, Никитских и Арбатских ворот с утра собрались толпы москвичей. Людишки встревожены и насторожены. Этого дня ждали давно. Все знают: с первым ледоставом бросит хан через Угру войско, не сомнет ли он русскую рать и не налетит ли черной тучей на Москву? От Угры до Москвы чуть более ста верст, если класть по прямой. В городах попутных посады все равно выжжены, орда там не задержится и через сутки будет здесь, у городских стен.
В утепленной башенке над Арбатскими воротами осадный воевода князь Михайло Верейский, инокиня Марфа, архиепископ Вассиан. Осадную рать уже благословили на битву кро-
вавую. Стоят, безотрывно смотрят на обледенелую дорогу. Ждут тревожного вестника, либо, хуже того,—орду.
День прошел беспокойно и тревожно. Еще тревожнее была ночь. Мороз чуть отпустил, повалил снег. Мало кто в Москве спал – по расчетам, орда должна появиться ночью. На улицах жгли костры, колотили лапоть о лапоть, хлопали рукавицами, согреваясь. Около рассвета, когда было время петь петухам, на белой снежной дороге к Никитским воротам появился возок. Тройка коней, раскидывая по сторонам снежные комья из-под копыт, несла возок легко и быстро. Настенные сторожа от Никитских ворот во все стороны подняли переклич: «Едут, едут!»
Осадные ратники повскакали с нагретых мест, расхватали поставленные у стен копья, бердыши, рогатины, шестоперы. Горожане крестились и разбегались по дворам. Сторожа, расхлебянив ворота, возок пропустили. Тройка, не остановившись, помчалась по Земляному городу, на Арбат. Здесь, уже спустившись на землю, ее ждали воевода, Марфа, Вассиан.
Из возка выскочил дьяк Васька Мамырев, с хрустом расправил плечи, похлопал по затекшим от долгого сидения коленям, перекрестился на церковь Благовещенья, стоявшую почти у самых ворот. Все думали – побежит он навстречу воеводе, крикнет: «Орда близко!» – и упадет на колени. Но дьяк, перекрестившись, снял тулуп и стал укладывать его в повозку. Верейский не утерпел, зашагал торопливо к возку. Инокиня Марфа – за ним. Только Вассиан, сжав тонкие губы, не тронулся с места.
– Где? – задыхаясь, спросил воевода, подходя к Ваське.
– Что где?
– Орда где? Близко?
– Орда ушла,– тряхнув бородкой, ответил дьяк.
– Куда ушла?
– Как куда? Восвояси.
– Быть того не может! – стукнув посохом, крикнула Марфа.– Ты, поди, лжешь.
– Что ее уйти заставило? – спросил Верейский.
– Великий князь Иван Васильевич заставил.
– Чем?
– Разумом и деяниями своими.
– В догоню орде мой сын пошел ли? – Марфа распрямилась, приосанилась.
– А зачем?
– Как это – зачем? Иродов бегущих изничтожить чтобы.
– Нет нужды, великая княгиня-матушка. Теперь Ахмата литовские князья и прочие попутные люди всю дорогу клевать будут. Заклюют и без нас...
...Еще не окончены расспросы, а радостная весть молнией осветила весь город. Во все стороны из уст в уста передавалось: «Ушла орда, нет ворога на рубежах наших, слава богу!» И забурлила Москва! Как будто из кандалов вырвалась. Люди, радостные, сияющие, вышли на улицы, поздравляли друг друга с победой, целовались. К полудню веселье затопило все улицы: из кабаков выплескивались хмельные ватажки, на площадях появились скоморохи.
По Котельнической набережной к Зарядью несется песня:
Как из дальних, диких стран ехал к нам Багьиа-хан На пятнистом жеребце, с зверской думой на лице.
Это припевка старая. А за ней новая, может быть, сложенная
тут же.
У родных, святых ворот собрался честной народ:
Убежал Батыга-хан, испугался христиан.
А на Красной площади скоморошья ватага собрала огромную толпу. Молодой скоморох, сунув колпак за пояс и повязавшись платком, жеманясь, пел:
Сватался за Марьюшку татарский лютый хан,
Сказывал-рассказывал богачество свое:
Двадцать городов и все без домов,
Двадцать сундуков полны рубленых голов,
Думала-подумаЛа, пойти ли за него?
Остальные скоморохи, подпрыгивая, подпевали:
Тюх-тюх-тюрюрюшеньки, ай да на улице Марья-душенька, Думала-подумала и хана прогнала!
Пой, веселись, вольный город Москва!
Все лето и осень Андрейка прожил в Бахчисарае у хана Менгли– Гирея. Когда посылал его туда великий князь, наказывал жить до того, как хан его сам не отпустит. Но однажды подняли его в холодную слякотную ночь, повели во дворец.
Когда Андрейка был у хана в первый раз, то разглядеть его не успел. На этот раз провели по дворцу тихо, открыли дверь и поставили перед ханом. Менгли-Гирей оглядел парня, через толмача спросил:
– Сколько лет?
– Восемнадцать,– соврал Андрейка.
– В Москву пора ехать. Готов?
– Хоть сейчас, великий хан.
– Брату моему Ивану-поклон передашь. Грамоту я ему не пошлю: поедешь ты на Москву другой дорогой... опасная эта дорога. Все, что скажу, в голову свою положь, память у тебя свежая. Чтобы никто, кроме меня, тебя и князя не знал.
– Исполню.
– Скажи Ивану так: хан Ахмат в Сарай-Берке не возвратился. Он меня сильно теперь боится. И пошел хан Ахмат к устью реки Донца—там кочевать думает. И еще скажи: по ту сторону Волги есть Шибанская орда, князь Иван знает где. Ханом этой орды Ивак есть. Он Ахмата ненавидит, но о беде его не знает. Пусть князь повелит Иваку Ахмата убить. Запомнил?
– От слова до слова.
– А теперь про себя слушай: дам я тебе коня, провожатых дам, пойдешь Донской степью тайно, ночами. Мои люди укажут тебе место, где ваши русские живут. А главным там у них Сокол да рыжий Ивашка. Дальше они тебя проводят. И передай им мой совет: пусть с этой земли уходят, пусть идут на Москву. В степи они мне мешать будут. Степь Донскую твой князь мне отдал.
Андрюшка слушает ханскую речь, будто песйю колыбельную.
– А как про это султан скажет? Они вроде ему служить обещались.
– Ты откуда про султана знаешь? – хан насторожился.
– Какой из меня был бы посол, ежели бы я ничего не знал.
– Тогда знай еще,– хан ухмыльнулся, глядя на безусого посла,– султану сейчас не до них. Султан три котла каши заварил: одну с королем Карлом, другую кашу с венграми и третью со святым папой. И во всех котлах каша подгорает. Если брат мой Иван об этом не знает—ему тоже об этом скажи. Еще раз кланяйся князю. И не медли. Кони у ворот. Пусть тебе ветер в спину будет. Иди
Андрейка важно, как справный посол, поклонился и вышел.
Две недели спустя от Дона на Волгу двинулось разношерстное войско: и верхом, и на повозках, и на санях. Вооружены чем попало: и кистенями, и мушкетами, и саблями, и пиками. Впереди войска Василько, Ивашка, Микеня. Сзади Андрейка с попом Ешкой.За ними – обоз. В обозе все более Микенин скарб-добыча.
Девять ден гуляла Москва, а вместе с нею Коломна, и Серпухов, и Таруса, и Оболенск, и Калуга. Ратники гуляли и веселились в Медыни, в Боровске, в Верее, в Можайске. Благовестили колокола, служились молебны по церквям от Звенигорода до Ростис– лавля. Спёрва люди думали: откупился Иван от ордынцев, такое бывало не единожды на Руси, хоть сколь-нибудь отдохнет от набегов русская земля. Но что ни день, то новая весть. Узнали, что хан ушел не по откупу, а по нужде, что орда к зиме оказалась разутая и раздетая, и что моровая язва появилась у татар, и тает войско Ахматово, теряя по дороге раненых и мертвых. И стали по-
нимать люди: не подняться больше Орде, а если и поднимется, а пределы русские сунуться не посмеет. И что сбросила Русь иго татарское на веки веков.
На десятый день Москва ждала воевод и великого князя. Встречу рати своей готовила небывалую. Улицы разукрасила хвоею, люд принарядился, как на первопрестольный праздник. Звонари на всех колокольнях, а их в Москве без малого три сотни, приготовились к благовесту. К Тверским, Никитским и Арбатским воротам вывезли кади с пивом, брагой и вином. Священники вынесли хоругви, иконы, сами вышли вместе с Геронтием и Вас– сианом к воротам во всем благолепии.
Рати возвращались тремя дорогами: первую рать вел Данила Холмский, его ждали к Арбатским воротам, вторая рать должна подойти к Никитским – ее вели Иван с сыном. Через Тверские ворота готовились принять рать князя Андрея Меньшого.
Марфа, Вассиан и князь Верейский подошли к Никитским воротам. День выдался морозным, солнечным. Блестел снег на куполах церквей, золотом горели торжественные одеяния епископа и священников. Колыхались на ветерке сотни хоругвей, яркая разноцветная толпа запрудила улицы Земляного города. Как только рати появились на дорогах, ударили колокола всех церквей. Распахнулись Никитские ворота, и рать вошла в город. Но что это? Впереди рати не только великого князя не видно, но и нет сына его. Ведет рать захудалого рода князь Лыко-Оболенский. Воевода подошел к Геронтию под благословение, тот перекрестил его, коленопреклоненного, поздравил с победой. Вассиан наскоро окропил его святой водой, и войско двинулось к ликующей толпе. Народ отсутствие князя даже не заметил – все думали, что князь вошел не в эти ворота, а в соседние.
А у князя с сыном вышла размолвка еще на реке Пахре.
– Дале я не пойду,– сказал князь,– веди рати ты. Я в Красное сельцо поеду.
– Как можно? – возразил Иоанн.– Москва ждет тебя как Орды победителя, а ты...
– Меня вся Москва трусом чла,—сказал князь,– недостоин я.
– А я достоин?
– А как же! Ты от самой Москвы до Медыни мечом махал где надо, а боле, где не надо... доспехами бряцал – вот ты и покрасуйся впереди рати. А я же по-стариковски отдохну,– и поехал в сторону Красного сельца. Сын скрипнул зубами и повернул в сторону Домодедова. Рать повелел вести Лыке-Оболенскому, которого москвичи недолюбливали за частые перебежки из одного княжества в другое.
Спустя два дня в Красное сельцо прикатили Вассиан и Марфа. Ивана нашли на площади села – он закладывал с мужиками но-
вую церковь и как раз обтесывал брус. Воткнув топор в бревно, обнял мать, поклонился Вассиану, и невиданное доселе дело: к благословению не подошел.
– Святая церковь в селе есть – зачем еще одну? – спросила Марфа.
– В честь ослобонения Руси от неверных думаю храм Пречистой деве поставить.
– Не рано ли? Орда еще жива, отлежится, раны залижет...
– Не залижет. Все мною сделано, чтобы не поднялась боле. Скоро о гибели хана Ахмата услышите...
– В Москву пошто не идешь? Меня вот, святого старца, обидел. Ты же знал, что мы оба этого лыкового князя ненавидим.
Князь ничего не ответил, накинул на плечи шубу, повел гостей в хоромы. Когда разделись, Марфа строго сказала:
– Ну, хоть теперь благословения попроси, нехристь.
– У кого мне благих слов просить? У кого? – Князь сверкнул глазами в сторону Вассиана.– У этого выжившего из ума старца, который оскорблял меня весь минулый год устно и письменно? Ты нехристью меня назвала, а я трижды боле вас для христианства сделал, ни единой капли крови не пролив. Видит бог, пошли я по вашему совету рать свою в сечу, теперь бы не ордынцы, а мы раны зализывали. И пришлось бы нам рыскать по пределам, последнее от мужика отнимать, чтобы поминки хану Ахмату везти. А неистовый сей старец и ты же с ним служили бы за убиенных христиан панихиды, и все для вас лепно было бы...
– Не смей хулить святого владыку! – крикнула Марфа.
– Ты, матушка, подожди,– Вассиан положил руку на плечо Марфы,– сих речей я ждал и, рассуждая зрело, князя не виню. Но скажи мне, княже, зачем ты в радостный день ликования рать христову обидел, перед ее очи не вышел? Ну мы, ее пастыри, замыслов твоих не поняли, содеянного твоего для одоления сыроядцев не увидели, так ты нас вини! А людьми православными брезгуешь пошто? Гордыней себя тешишь зачем?
– Если пастырь стадо свое с откоса в обрыв гонит, какой он пастырь? Если ты, святой владыка, над душами людскими владеть хочешь, то трижды государственным мужем должон быть. Трижды! И на много лет вперед должон видеть и государю это виденное рассказывать. А коли не можешь, то иди со своей святостью в монастырь. Что касаемо людей наших, православных, то я их не обидел, и они меня поймут. Обида ли то, коль я их пошлю сейчас храмы новые строить, землю свою удобрять, рубежи нашего государства крепить. И простите меня, я к мужикам пойду, у меня брус не обтесан остался. Гостите тут – хозяевами будьте.
И, накинув шубу, вышел.
Шестого января 1481 года ночью в устье Донца появилась неожиданно Шибанская орда. Ничего не подозревавший хан Ахмат спал в своей юрте. Вдруг послышались крики, топот коней, в юрту ворвался Ивак с обнаженной саблей. Ахмат только успел вскочить с лежанки, сверкнула сабля, и голова ордынского хана покатилась по кошме. Ивак схватил ее за чуб и, словно чайник, понес к выходу. На ковры ручьем хлестала темная кровь.
Так погиб Ахмат – последний грозный для Москвы хан Золотой Орды, потомок Чингиз-хана.
Ватага пришла на московские рубежи только в половине зимы. О ее подходе уже знали и выслали навстречу дьяка Ваську Ма– мырева. Наказ ему был такой: остановить ватагу в Ростиславле, оглядеть попридиристее, что это за люди, куда их можно приспособить. А потом взять с собой атамана и ехать к великому князю. Ватаге стоять в Ростиславле и ждать государевой воли.
Дьяк Мамырев, приехав на место, нашел Василька, поздоровался.
– Как дошли?
– Трудно. Зима.
– А турок твой где?
– Говорят, в Стамбуле...
– А я думал, перешерстит он вас.
– Мы тоже боялись этого. Потому и весны ждать не стали.
– Ахмата по пути не встретили?
– Сотню одну заблудшую повстречали.
– Ну и как?
– На махан[17] перевели.
– Всех ватажников привел?
– Только тех, у кого кони. Остальные на Дону остались.
– Ну показывай, где твои разбойники?
Посмотрел дьяк на ватагу – люди как люди. Ходят по городу, толкаются на рынке. Иные пьяные – песни орут. Все на постой по домам приспособились, с хозяевами подружились. А некоторые уже успели пожениться. Сосчитали всех – вышло три тысячи с половиной. У каждого конь, оружие у всех разное.
Вечером к атаману пришел Ешка-поп, сказал сердито:
– Совсем ты, атаман, от рук отбился. Ежли заутреню и обедню пропустил, так хоть на вечерне бы помолился. Совсем, дьяче, пастыря своего не слушает.
– Вот как?
– И тебе, дьяче, помолиться бы не мешало,– и подмигнул хитро.
Мамырев сразу смекнул, что затевает этот разбитной попик, и к вечерне сходить согласился. Пришли они к Ешке, а там уже ждут Микеня и Ивашка. На столе брага, медовуха, фряжское вино.
Накачали они дьяка по самое горлышко, поволок его Василько к себе. На морозе дьяк очухался, покачал скулой из стороны в сторону:
– Давай воротимся... помолимся ищо, а?
– Хватит, дьяче, нам завтра ко великому князю ехать надобно.
– А вот этого не хочешь?– и Васька вывернул под нос атаману кукиш.
– Теперь князь, о-го-го! Раньше, бывалоче, войдешь к нему запросто и скажешь: «Иван Василии, мне потребно то-то и то-то», а он: «И сделай. Васька, и все тут». А нонче меня и вовсе к нему не пускают, нонче к нему только Федька Курицын вхож. Теперя его, князя нашего, запросто по плечу не похлопаешь. Теперь он, Иван Василич, божьей милостью государь всея Руси и великий князь Владимирской, Московской, Новгородской, Псковской, Тверской, Пермской и прочая и прочая. Недавно на Литейном дворе отлили для князя печатку, а на ней – византийский двуглавый орел. А сие означает, что князь- наш – государь над всем православным миром. И ты к нему ноне не ходок. Ежели боярин перед светлые очи допустит, скажи спасибо.
Слова пьяного дьяка встревожили атамана, и он всю ночь не спал. Вдруг снова раскидают ватажников по княжеским вотчинам, повелят идти под прежних князей – ради чего тогда ушли от вольного донского житья? Василько, грешным делом, думал: приветит его князь особо, пожалует высоким чином, все-таки сильно он помог князю, послав Микеню грабить Сарай-Берке. Теперь пришли сомнения, вспомнил Василько княжеский норов: пока в беде, ты нужен – города сулят, а прошла беда – и деревни жалко.
Утром, опохмелившись, вчетвером в одном возке поехали в Москву. Дьяк всю дорогу молчал, жевал какой-то корень, дабы выгнать изо рта винный дух. Сокол был грустен и задумчив, а Ивашка с Микеней сразу же заснули и подняли такой храп, что с испугу шарахались встречные кони.
В Москву приехали ночью. Ватажников определили в съезжую избу, а дьяк Мамырев пошел сразу к боярину Никите Беклемишеву Весь следующий день прождали вызова, но их так никто и не позвал. На минутку вечером зашел Мамырев, сказал, что их дела решатся не сразу, и велел пока смотреть стольный град Москву. А Москва за это время изменилась. Даже в кремле все по-друго-
му. Брусяную деревянную избу повалили, на ее месте возводят преогромную палату из белых граненых камней. За собором тоже стройка: поднимают палаты митрополиту. На самой средине кремля псковские мастера возводят огромный собор в честь благой вести об уходе татар с Угры. Кремлевские стены во многих местах разрушены, на их месте ставятся новые, из темно-красного кирпича. Из такого же кирпича, замест старых, деревянных, поднимали огромные башни. «Недаром возгордился великий князь,– думал Василько,– есть чем. Во всем величии и силе встает Москва, и великие перемены будут впереди».
Позвали их на другое утро. Разговор с боярином был короткий.
– За верность вашу земле Русской,– сказал боярин,– государь наш Иван Васильевич вас и людей ваших повелел посадить на Москве в посады, и место вам указано. Ты, Василько Соколов, гы, Ивашка Булаев, и ты, Микеня Ноздреватый, сядете в Китай– городе на улице Варварке. Люди ваши сядут: кто в Замоскворечье, кто в Белом городе, кто в Земляном. Избы себе сами строй– го, на это дам вам время – до весны. Дел для ваших людей у нас ноне великое множество. Идите снова в Ростислав и людям разбор сделайте. Ты, Булаев, набери себе людей сколько можешь и поди их на Литейный двор к мастеру Альберти. Будете пушки лить, колокола. Рукомеслом ценнейшим обзаведетесь – будете у государя в чести. Ты, Ноздреватый, бери к себе народ, веди прямо в Белый город. Там жить они будут и будут стены кремлевские заново выкладывать, храмы и палаты строить. А с тобой, Василько, у меня разговор особый будет.
Под вечер встретили они боярина Беклемишева.
– Кафу, поди, часто вспоминаешь? – спросил боярин.
Тяжелое время для меня было. Да и для всех нас.
– Тяжелое? А разве любовь свою не там встретил?
Василько глянул на боярина, удивился. С чего бы сей суровый
муж о любви заговорил? А боярин, не ожидая ответа, сказал:
У меня то времечко светлым пятнышком в груди светится. Как увидел тебя ноне, кольнуло под сердцем. Вспомнил я те дни...
Боярин смолк, долго глядел на слюдяное оконце, где светилось желтое солнечное пятно.
Выходит, княжну Мангупскую не довез, боярин? – тихо спросил Василько.
Довез. Поместил ее тайно в монастырь, думал у великого князя прощения за самовольство выпросить, а уж тогда... Не довелось. Может, выведал все князь, может, с умыслом послал меня в Iмиопию. Пробыл я там чуть не полгода – вернулся домой, по– II в монастырь, а там надгробная плита. Говорят, тосковала там сильно, говорят, простудилась. Бог один знает. До сих пор
забыть не могу.– Боярин подошел к Васильку, взял его за плечи и неожиданно привлек к себе. – Ты тоже пострадал без своей зазнобушки немало, но ты счастливее меня. Ты ее сегодня увидишь.
– Где она?
– К вечеру будет в Москве.
– Знает, что я здесь?
– Не знает. О том, что ватага пришла, в Москве и то знают немногие. А ей в деревне откуда знать. Никита Василии хворый лежит. Повелел он ей сегодня быть в городе с Васяткой. Поедем вечером к ним – хоть на твое счастье полюбуюсь. Что ж ты не весел, а?
– Боюсь. Судьбы своей несчастной боюсь. Так и кажется, случится что-нибудь.
– Все будет хорошо. Будешь в Москве жить. Повелел тебе государь выбрать тысячу самолучших воинов, и станешь ты тысяцким воеводой в дружине великого князя. Жалованье тебе будет хорошее, а жить, я чаю, у Никиты места хватит...
Ольга, как только получила весть, что батюшка захворал, сразу стала собираться в Москву. Было еще сказано, что дедушка больно соскучился по внуку и просит его привезти с собой. Васятка узнал, что ему предстоит поездка, и рад несказанно.
Дорога была укатана. До Москвы добрались хорошо. Светило солнце, повизгивал под полозьями саней снег. Васятка, как скворец, высунув нос из высокого воротничка тулупа, во все глаза смотрел по сторонам. Мимо бежали косматые ели и пихты с белыми снежными шапками на лапах. В одном месте из перелеска заяц выскочил и поскакал по снегу наперерез. У Ольги защемило сердце. Она знала: заяц через дорогу – к беде. Васятка гоже увидел зверька и звонко крикнул: «Маманька, заяц!» Косой, услышав крик, резко остановился перед самой дорогой, повернулся и, вскидывая длинные задние ноги, поскакал обратно. Ольга, радостно вздохнув, перекрестилась и подумала: «Стало быть, батюшка выздоровеет».
В сумерки приехали к Чуриловскому двору. Ольга вошла в прихожую, чмокнула мать в щеку, стала раздеваться. Кирилловна, помогая ей снять шубу, шепнула радостно: «Гости у нас, Оленька».
Васятка, не раздеваясь, в тулупчике и кушаке, пробежал в переднюю к деду. Дед сидел за столом, рядом с ним были дядя Гриша и еше двое незнакомых ему людей. Один из них, помоложе, увидев мальчонку, привстал. Васятка бегом бросился к деду, забрался к нему на колени, обвил ручонками шею и приник к его мягкой волнистой бороде. Дед распустил внуку кушак.
– А я, деда, зайца видел! – воскликнул Васятка, снимая тулупчик.
– Ты сперва поздоровайся,– сказал Григорий,– не видишь, у нас гости.
Васятка слез с коленей на пол и, как учил его дед, сперва подошел к боярину, подал Беклемишеву руку и спросил:
– Здорово ли живешь?
– Слава богу, здоров,– ответил боярин, смеясь.– А как ты?
– Живем помаленьку,– сказал мальчуган и подошел к Васильку.
– А тебя я где-то видел,– сказал он атаману, протягивая руку.
– Где же ты меня мог видеть? – сквозь проступившие слезы произнес Василько и, взяв озябшую ручонку мальчика, привлек его к себе.– Нигде ты меня не видел, кровиночка ты моя.
Он хотел было взять сына на руки, но распахнулась дверь, и на пороге появилась Ольга. Она на миг задержалась в дверях и птицей перелетела через комнату.
– Долгожданный мой! – Ольга приникла к Соколу.
Мальчишка недоуменно глядел на мать, а она, смеясь и плача,
обнимала чужого человека, а тот, целуя ее в мокрые от слез глаза, повторял: «Плакать пошто? Пошто плакать...»
Васятка подошел к матери, потянул за сарафан. Ольга подхватила мальчишку на руки и передала мужу.
– Это, сынок, тятька твой... тятька. Помнишь, я тебе рассказывала?
Васятка сначала пытался оттолкнуть от себя человека, который прижимал его к себе, но потом, глянув в его глаза, светящиеся лаской, обхватил руками голову и сжал ее всей своей детской силенкой.
Васятка сидел у отца на коленях и рассказывал, какие у него дома есть игрушки, и о том, что в деревне мужики изладили для него санки и ледяную горку, и о том, что он уже ходил с ребятишками в лес' за грибами.
Вошла Ольга, одетая по-праздничному. И все залюбовались ею, изукрашенной не столько нарядами сколько радостью и счастьем.
Один только Васятка этого не заметил – все его внимание было отдано широкому кожаному ремню с блестящими медными пряжками







