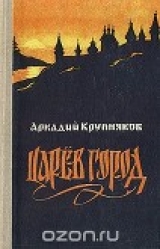
Текст книги "Царёв город"
Автор книги: Аркадий Крупняков
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
– Да уж наверно. Однако бунтовщиков, я полагаю, больше.
– И там бунтовщики? Им-то, лесным людям, чего недостает?
– Бог с ними, с лесными людьми, Федя, – сказала Ирина. – Сядь, поужинай, кровь бражкой согрей.
– Ну ее, бражку, – Федор сел за стол. – У меня от нее в брюхе урчит. Ренского в кубок плесни немного.
– Ну, я, пожалуй, пойду, Иринушка, – сказал царь, слегка склонив голову. – А ты совет мой помни. Помни слова мои, не забывай.
– О чем это он? – спросил Федор, когда отец ушел.
– Велел мне государь крепость на Кокшаге строить. Вот и...
– Ты, чаю, не воевода. Тебе-то пошто?
– Скоро, говорит, царицей будешь. Привыкай к делам. Хочет в скорости державу тебе передать.
– Ну какой я царь, Иринушка? Ну сама подумай.
– Всякому свое, Федя. Отец твоей жестокостью правил, ты будешь царствовать добротой. Может, она, доброта, сильнее...
Утром Ирина пошла в Разрядный приказ. Веление царя сперва напугало ее, потом увлекло. Ей надоело торчать в теремах без цели и без дела. Царевича ничто, кроме медвежьих потех, звона колоколов и моления, не волновало, ей с ним было скучно. А в деле большом, важном и трудном можно всем показать себя, пусть бояре знают, что будущая царица не квочка, а деятельница. Брат Борис намеренья ее тоже одобрил.
III
На площади перед Разрядной избой – словно на базаре. Здесь всегда людно. Отсюда начинаются чуть ли не все походы. Ратные ли полки на Ливонию, осадные ли на Псков – все идут по этой площади. Строить новые крепости и города уходят смешанные полки стрельцов и мастеров тоже от Разрядного приказа. Тут то и дело толкутся воеводы, их товарищи, городничие с дьяками и подьячими, острожные начальники, а то и просто воины, плотники, каменщики. Много жонок. Одна провожает своего мужа-вое-воду в поход, другая встречает из похода. Девицы вьются около своих ^суженых, утирают концом платка слезы – вернется из похода или нет, неведомо. А вот дети боярские и приставы торчат около высокого крыльца, а тут, на углу, звенят щитами оружейники. Всюду торчат золоченые, серебряные, а то и медные шишаки шлемов, блестят латы на солнце, щетинятся ежами ватаги копейщиков. Звенят мечи, стучат древки знамен, развеваются стяги. Ирина в сопровождении двух слуг идет по площади, удивляется. Всюду шум, смех, шутейные разговоры; словно на праздник собираются люди, а не на кровавую сечу.
Приказная изба только на словах изба. А всамделе это хоромы с надстройкой на двенадцать палат. Крыльцо рубленое, высокое, трехлестничное. По ступенькам медлен-но спускается воевода Данила Сабуров. Князю отдохнуть в Москве не дали, снова указали городское воеводство, теперь уже не в Казани, а в Новгороде Нижнем. Увидел Ирину, замедлил шаг, поклонился низко, спросил шутейно:
– Уж не в поход ли, Федоровна? Удивлен зело, увидее тя здесь.
– Царским повелением иду, Гаврилыч. Велено мне град на Кокшаге строить. Узнать надобно.
– Ишь ты! Уж не сама ли в походе том будешь?
Как бог укажет. А то мужики ныне все более по
Москве разгуливают.
– Напрасно намек бросила, Федоровна. Я вот ныне иду в Нижний Новгород. Буде на Кокшаге нужда – дай знать.
– Запомню. Спасибо.
Голова Разрядного приказа, боярин Васильчиков Григорий Борисович, увидел Ирину Федоровну из окна. Он имел привычку оглядывать площадь, дабы видеть, сколько гам людей, и скоро ли закончится день его забот. Ныне он подошел к затянутой морозными узорами оконнице, подышал на нее, оттаял малый кружок. И видит – поднимается по лестнице сестра Годунова. Боярин не то чтобы удивился, скорее, вспомнил, что Ирина – будущая царица и надо выскочить ей навстречу, принять с почетом. Не одевая шубы и шапки, Григорий Борисович выбежал в сени, дробно протопал по ступенькам, схватил Ирину под руку:
– Гостья-то у нас какая, господи! Оконницы заволокло инеем, не видно ничего, а я сердцем почуял. Милости прошу, Ирина Федоровна, заходи.
Так, за руку, боярин провел ее сенями, ввел в палату, усадил на скамью, кивнул дьякам и подьячим, сидевшим за длинным боковым столом, те тихонечко, на носках, вышли.
– Как драгоценное здоровьечко, княгиня? Здоров ли царевич Федор?
– Все, слава богу, здоровы, боярин. Хворать ныне некогда, заботами обременены многими. Повелел мне государь заботиться о построении града и крепости на Кокша-ге-реке.
– Да уж знаю. Братец ваш, Борис Федорович, сказы вал*.
– Так вот, я хотела бы знать: с чего мне начинать и как скоро дело это соберется?
– Не гневайся, княгиня, но у дела сего пока нет не токмо коня, но и возу. Град в диких пустынях лесных по. строить зело трудно и долго. И я полагаю...
– Если трудно и долго – тем скорее его надо начинать. Аль ты, боярин, инако мыслишь? Скоро ли первый столб ставить будем?
– Годика, я мыслю, через два,
– Отчего так много?
– А вот сама посуди, княгиня. Чтобы первый кол забить, надо знать, где его забить. Мы, княгинюшка, пока еще не знаем. Разведчиков, нами посланных, черемисы поубивали. Это раз. Три полка, самое малое, надо собрать, чтобы град тот ставить. А мы не токмо три полка, а десяток стрельцов для разведывания не найдем. Все замирения с Баторием ждут, а пока для ратных дел людей нехватка, не говоря о мирных. Вот кончим войну...
– Земли те разведывать не стрельцов потребно посылать, боярин, а монахов. Они не с мечом туда пойдут, а со словом божьим, и не погибнут. Что касаемо реки Кокшаги, ?о государь монахов туда уже послал. И я мыслю, что са-<мая пора полки готовить. А то ленивая работа, боярин, получается. Пока монахи дойдут, пока разведают, пока !весть пошлют – пройдет полгода. Весть получивши, вы начнете полки собирать—еще год. Пока они дойдут до места– «еще полгода.
– Так оно и рассчитано, княгиня. И Борис Федорович...
– Худо рассчитано, боярин! Вестей от разведчиков ждать не надо. Надо полки собирать, на Волгу посылать, а там они вести и без нас получат. Ведь в устье Кокшаги крепостишка наша стоит.
– В твоих словах зерно смысла есть, княгиня, однако из кого полки собирать? Из ратных полков я ни одного воина взять не смею. Поверь, княгиня, я тебе помочь рад, посему совет мой выслушай. Попроси у государя повеления из ратных полков сбор сделать. Ежели он, государь наш, к замирению клонится, можно, я чаю, ратные части умалить.
– Добро, боярин, жди. Государь тебе укажет.
– Вот тогда, княгинюшка, мы и подумаем...
– Нет уж, Григорий Борисыч-, думать долго я тебе не дам, не надейся. Сразу начнем полки собирать. Може, завтра же я к тебе снова пожалую.
Васильчиков проводил Ирину до крыльца и долго глядел ей вслед. Подумал: «А государыня из нее выйдет отменная».-
А в полях под Коломной по завьюженному санному пути сквозь пургу и холод тащилась лошаденка с розвальнями. В них, прижавшись друг к другу, сидели Ешка и Палага – простые русские люди, вечные скитальцы, раз-ведыватели родной земли.
IV
К полуночи небо очистилось от облаков, луна осветила лес, и идти стало легче. Настя дошла до ручья, пересекавшего просеку, о нем ей рассказывал Дениска, и повернула направо. Вот и полянка. Чуть поодаль от могилы в траве нашла два узла со скарбом несчастных убитых родителей Настёнки. Видимо семья перебиралась на новое место, и все, что у нее было нужного, завязано тут. Перевязав узлы бечевой, Настя перебросила их через плечо и двинулась к -просеке.
Всадники появились неожиданно, налетели на Настю, опутали сыромятным длинным ремнем, бросили, как мешок, поперек лошади и поскакали вдоль просеки. Девушка принялась было кричать, чтобы дать знать о похищении ватажникам, но всадник ожег ее тело несколькими ударами нагайки.-
Через полчаса дикой тряски кони остановились, Настю сняли и внесли в какое-то помещение, бросили на нары и стали развязывать. Еще в пути Настя догадалась, что ее схватили ногайцы. Живя у Абыза, она хорошо научилась говорить по-татарски и все, что кричали всадники, было ей понятно. К нарам подошли двое.
– Кто ты такая? – это спросил Ярандай. Спросил по-русски.
– Не понимаю, – по-татарски ответила Настя.
– Ты татарка? – это спросил Аббас. – Как в эти места попала?
– С отцом и матерью в Параньгу ехала. К дяде жить. Из под Казани.
.– Родители где?
Разбойники налетели на нас. Отца-мать убили, коня
отняли, увели.
– А ты?
– Я за ручьем пряталась. Испугалась. Сидела до ночи.
– Почему в русском сарафане?
– В дороге купила. Для тепла. А внизу своя одежда,– Настя приподняла подол, показала татарские шальвары, которые захватил для нее в Лаишеве Дениска.
– Она правду говорит. Мои джигиты в лесу побаловали мало-м'ало, коня привели. Как дальше жить думаешь?
– Дорогу к дяде я не знаю. Что хотите со мной делайте.
– У меня пока поживешь, – сказал Ярандай. – Потом будет видно. Иди в другую половину кудо. Скажи жене, чтоб накормила.
Во второй половине – потухающий очаг, под котлом– подернутые серым пеплом горячие угли. В котле что-то булькает, по запаху – каша с маслом. Ярандаиха, женщина лет сорока пяти, сидит у стола, прокалывает шилом серебряные монеты и нашивает их на грудь белой рубахи. Мысль мелькнула у Насти, она вошла, сказала по-татарски:
– Муж велел меня накормить.
– А ты кто?
– Аббас взял меня и подарил твоему мужу. Я его второй женой буду. А может, и первой.
Ярандаиха открыла рот от удивления.
– Рот закрой – брюхо простудишь. И торопись.
Ярандаиха растерянно встала, взяла деревянную плошку, подошла к котлу. Зачерпнула половником кашу и только тогда пришла в себя:
– Наша вера двух жен держать не велит, ты врешь.
– А пророк Магомет четырех жен держать позволил. Твой^муж, я думаю, решил магометову веру взять. Кашу-то давай, чего столбом стоишь.
Ярандаиха пустила по столу плошку с кашей, бросила в нее ложку.
– Жри, – села против Насти, окинула ее ненавидящим взглядом, полушепотом произнесла: – Я тебя зарежу тогда.
Мне Аббас тоже нож даст. Я им владею хорошо, – Настя зачерпнула ложку каши, попробовала, выплюнула. – Ты кашу варить совсем не умеешь. Ну ничего, я тебя научу. Заставлю шибко жернова крутить, хорошую крупу делать. Ноги мне перед сном мыть будешь.
– Я лучше тебя убью! Какой кереметь принес тебя?!
Не кричи. Муж услышит—побьет. Давай лучше тихо
поговорим.
– С собакой говори!
– Напрасно. Мне твой муж не очень нужен. У меня жених есть. Но если ты меня второй женой не хочешь, помоги мне.
– Убежать хочешь?—Ярандаиха подвинулась к Насте.
– Поймают все равно. У них кони.
– Я тебе лошадь найду!
– Всему свое время. Сперва съезди в лес по просеке верст двенадцать. Там найди мужиков, среди них мой жених есть. Скажи: пусть меня не ждут, а идут к своему месту. Я смирной прикинусь, когда за мной глядеть перестанут, вот тогда ты дашь мне лошадь и я их догоню.
Ярандаиха долго думала, но потом все же сказала:
– Завтра я сестренку туда пошлю.
1
Народ ждал смерти царя, ждал добрых перемен. «Зажился государюшко-батюшко, ох зажился»,* – думали мужики и крестились торопливо, испугавшись крамольной мыслишки.
Русь лежала в запустении и страхе, люди пребывали в горе. Что ни война – то проигрыш, что ни поход – растрата казне. А это, стало быть, снова налоги, снова поборы. Торговлишка захирела совсем, купеческие лавки заколочены досками крест-накрест, разорены. Проторговавшись до креста на голой шее, одни сидели в долговых ямах, а иные ударялись в бега.
В городах храмовые колокола гудели набатом бесперебойно. Либо звали на пожар, либо на бунт. Мелкота голопузая расползалась по слободам да посадам, а там тоже жевать нечего. И оставалось браться за дубину да в лес.
Сперва мелкие ватажки бродяг хоронились в ближних лесах, но потом волей-неволей сбивались в огромные ватаги, и места в перелесках хватать не стало, да и страшно было – вдруг нагрянут рати, а они шутить не умеют. И приходилось бежать в заволжские леса, к инородцам. Там дебри необъятные, прокорму много, спрятаться есть где. Царь это знал, боялся – занесут туда русские люди мятежный дух, сговорятся с инородцами. А те и сами только и глядят, где своровать. Стакнутся разбойные ватаги с чувашами, черемисами – такой бунтовой пожар запалят, что от него нигде не спрячешься. И посему надумал царь (уж который раз) пожениться. Поручил тайные переговоры доверенному дьяку . Савве Фролову, чтобы тот связался с Лондоном и засватал бы в жены царю племянницу английской королевы Машку Хастинскую5. Царь все рассчитал накрепко: если все сойдется слава богу, то союз с английской державой укреплен будет; если бояре, псы-изменники, да холопы-мятежники поднимутся – можно будет сбежать с богатством в Лондон и дожить там свою жизнь безбедно. Это, конечно, на крайний случай. А пока царь торопил Бориса Годунова и сноху Ирину – стройте за Волгой в лесах города, силу царскую укрепляйте.
Весна в том году приходить в Москву не торопилась. Уже март на дворе, а от мороза трещат зауголки домов, сыплют березы инеем, а предрассветьем часы долги, словно зиме не конец, а начало. Выйдешь на улицу и не поймешь – не то город спит, не то дремлет. Скрипят колодезные журавли, это молодушки чуть свет берут воду. Бухают деревянными ведрами в оледенелые срубы колодцев, гремят коромыслами. Потом, покачивая бедрами, несут воду по узким, только что протоптанным в снегу тропинкам ко дворам. Встречь им идут ранние пташки – молодые ямщики. Они, заигрывая, хлопают молодушек рукавицами по заднему месту. Молодайки повизгивают, незлобно отругиваются.
Боярин Богдан Вельский, один, без свиты, тайно пробирается по улицам в хоромы Бориса Годунова. Сторож дворовых ворот на стук открыл смотровое окошко, узнал боярина, впустил.
– Борис Федорович спит?
– Встамши. Видел – по двору ходил.
– Кто спросит – я у вас не был.
– Да уж понимаю.
– Лекарь аглицкой не приходил?
– С полночи тут. Супругу-боярыню лечит.
– На вот тебе, – Богдан сунул в протянутую руку сторожа гривенник.
– Благодарствую, боярин. Не сумлевайся.
В опочивальне боярыни натоплено жарко. Больная после трудной и мучительной ночи уснула. Около нее переговариваются шепотком боярин Борис Федорович Годунов и английский лекарь Иоган Эйлоф. В Москву Эйлоф приехал давно с единственной надеждой—разбогатеть. Отменно говорит по-русски, в желании своем преуспел – в Москве у него домишко, как у боярина, и золотишка, однако, тоже немало. Лечит Эйлоф не только царя и его семейство, но и знатных бояр, князей и дьяков. В дверях показался слуга и мотнул головой. Лекарь и боярин поднялись и на носках осторожно вышли из опочивальни. В горнице их ждал Богдан Вельский. Здесь чуть прохладнее, полумрак. Ставни на окнах закрыты наглухо, посреди горницы на столе мерцает единственная тонкая восковая свечка– Борис отослал слуг, закрыл дверь, набросил крючок.
– Хорошо ли дошел, Богдаша? – спросил Годунов, присаживаясь к столу. – Пошто задержался?
– Снегопад был, боярин. Улицы занесло. Тропки заново протаптывать пришлось. Взопрел, яко мерин.
– Доглядчики не прицеплялись?
– Я без слуг, незаметно. Будто простой ^ямщик. Даже армяк надел. А ты во дворец скоро ли?
– Да вот, – Борис кивнул на дверь, – пока боярыня не оздоровеет. Неделю около нее сижу. Как там, во дворце? Государь-батюшко здоров?
– Какой там сдороф, – вместо Богдана ответил лекарь. – Сперфа ноги отекал, теперь прюхо, крудь... Рас-дулся, как пусырь.
– Назавтра баню заказал, – добавил Вельский.,.
– Паню, паню! Ему покой натопен, легкая жизнь. А
он фино пьет, как воду, про пап думает. Фечером пражни-чает, утром кричит: «Кте Ифашка Эйлоф! Кте этот сукин сын!» После пани снова орать пудет. ^
– Нет, ты уж, Иванушко, подлечи государя, как надобно.
– Кому натопно?
– Да хоша бы мне, – Вельский глянул на Эйлофа, прищурил правый глаз.—За государево здоровье я ответствую. Лекарей, знахарей я ищу. Месяц тому приволок я из печорских лесов ведунью, велела она исподнюю рубаху государя принести. Долго она нюхала ее, шептала, а по-том и говорит: «В начале весны хозяин сей сорочки отдаст богу душу». Я, понятно, нести такую весть побоялся, но Иван Василич об этом все-таки узнал и сильно огневан был. Сказал: «Если в начале весны я заболею – всем лекарям и знахарям головы снесу, а тебе, Богдашка, первому. Дак как же мне о здоровье государя не печалиться. Ты уж его подлечи. По-особому как-нибудь. И тогда получишь от меня двести рублей золотых.
– И от меня получишь, – сказал Годунов и отвер* нулся.
– За то, что я лечу косударя, мне итет жалофанье...
– Сказано тебе – ты по-особому полечи.
– Не просто, чтоб государь жив был, но чтобы на принцессе Хастинской поженился. Всем боярам, особливо мне, это желательно. Я тебе пятьсот золотых дам.
Эйлоф долго молчал, поглядывая то на Богдана, го на Бориса. Он хорошо понимал, чего хотят бояре, но их двое. А вдруг они, поссорившись, у гроба царя выдадут его. Тогда – плохо. Но Вельский прав, Иоган и сам слышал, как царь не единожды грозился обезглавить всех лекарей. Это чертова ведунья знает, чго любому тяжко больному человеку опасно начало весны. И если царю в марте будет хуже, он запросто может послать его на казнь. А если помочь боярам... И будешь жив, и деньги! Семьсот золотых! В Лондоне за эти деньги можно купить лучшую лекарню...
– Тобро. Я полечу государя по-особому. Когда, ково-ришь, будет паня?
– Завтра с утра.
– Котофьте солотые.
– Ну, вот и договорились. А теперь, пока совсем не рассвело, – по домам.
Возвратившись в покои, Эйлоф нашел царя в тяжелом состоянии. Иван Васильевич дышал отрывисто, стонал и бранился. Иоган раздел государя, помял ему грудь, потом, надрезав на руке вену, пустил кровь. После снадобья, выпитого царем с большой охотой, ему стало легче. И он сказал;
– Ты, Ивашка, вели послать за боярином Никитой .Юрьевым, пусть придет Иван Мстиславский, воевода Шуй*
ский. И Богдашку Вельского пусть позовут. Потом пусть духовник мой придет.
Лекарь ушел, царь встал с постели, перешел из опочивальни в Крестовую палату. Телу царя полегчало, но душа стала болеть еще сильнее. Он не знал, куда себя деть. Ходил по палате из угла в угол, садился за стол, принимался читать свитки, потом бросал их, подходил к окну. Такое с ним в последне время бывало часто. Звать второй раз лекаря не хотелось.
Через час званые бояре пришли в палату. Они поздоровались с царем, чинно расселись на лавки, на свои привычные места. Царь угрюмо их разглядывал исподлобья.
– Позвал я вас, бояры, вот зачем. Отныне я постригаюсь в монахи и ухожу из мира. Власть свою отдаю сыну моему единоутробному Федору. – Сказав это, царь повел глазами по палате. Бояре сидели молча. Иван Мстиславский даже гладить бороду не перестал, князь Шуйский незаметно усмехнулся в усы, Богдан поднял было брови, опустил, прикрыл веки. Только дядя царевича Никита Юрьев, вытянув шею, ждал, что скажет царь дальше. «Не верят, сволочи, ухмыляются, – подумал про себя царь.– И правильно делают. Третий раз от престола отрекаюсь—привыкли. И на сей раз душой кривлю, но надобно. Видит бог, надобно. Если умру, все будет по закону. А озодоро-вею – там будет видно».
– Вам, позванным сюда, самым верным моим боярам, вверяю я попечение моего сына. Только вам одним, и никому более.
– Бориса Федоровича надо бы, – сказал Богдан Вельский.– Ему первому около трона стоять придется. Деверь все-таки.
– Он и без опекунства постоит, коли деверь, – сердито сказал царь, а про себя подумал: «Может, разведу я Федю с Ириной, вот и не будет деверя. – Мне наследник нужен, внук». Потом начались разговоры: как опекать молодого царя, что надобно сделать в государстве. Проговорили до вечера. Вечером пришел духовник.
Ночью царя мучила одышка, он просил Эйлофа убрать отеки.
– Сии отеки, косударь, суть фодянка, ее как крофь не отфоришь.
– Иные средства есть?
– Есть, косударь. Утром, пойдя в паню, мойся толго, парься сильно – фыконяй ис телес фоду. Польше потей. Потение – есть тфое спасенье. А Пельскому Поктану я там снатобье, после пани прими. Путет польза.
Царь мылся и парился в бане четыре часа. Мойщики хлестали его вениками до изнеможения, потом завертывали в льняное полотно, выносили в предбанник отдыхать. Потом снова парили.
После бани хоть и обессилел царь сильно, но отеки исчезли, и он, уверовав в уменье Ивашки Эйлофа, без опаски принял снадобье от Вельского. Царь не знал, что пока он мылся в бане, Эйлоф подогревал ртуть, собирал ее пары в склянку и разбавлял малиновым настоем.
Лежа в постели, Иван позвал дьяка Фролова, спросила
– Зятек твой, Родионко, жив?
– Жив. Что ему сделается.
– В шахи играет?
– Силен, собака. Никто его обыграть не может,
– А почему я обыгрываю?
– Так ведь, государь-батюшко, своя голова дороже...
– Пошли его ко мне. Скажи, что я отныне не царь и голову ему сечь за выигрыш не стану. Хочу истинно свой ум испытать.
Годунов на правах постельничего одел царя в коричневого шелка рясу (отныне Иван не царь, а монах), пере* тянув ее широким кожаным поясом, на голову надел скуфейку, какую носили все монашеские послушники. Богдая Вельский в Сводчатой палате поставил к рундуку етолик с шахматами, привел туда Родиона Баркина– Царь сел на рундук, застланный шкурами, Родион – на стул. Началась игра. Баркин, поверив своему тестю, решил играть честно и каждым ходом прижимал королевскую фигуру в угол доски. Царь сразу почувствовал, что он проигрывает, и чем дальше шла игра, тем больше ошибок он делал. Застучала кровь в висках, учащенно забилось сердце. Стало трудно дышать. И не успел Баркин произнести слово «мат», как Иван вздрогнул, выпрямился и упал навзничь, на рундук.
– Лекаря! – истошно крикнул Вельский.
– Духовника! – еще сильнее заорал Годунов.
По палате забегали, засуетились слуги. Баркин стоял бледный.
– Убирайся ты! – Богдан толкнул его в спину. – Пока жив!
Годунов и Вельский остались вдвоем. Царь хрипел, на губах появилась пена.
– Что смотришь, Борис, – зашипел Вельский! – Очнется ведь. И тогда нам...
– Ты сам. Я не могу.
– Вот мякиш! ЕгЪ надо было придушить сразу после казанского взятия – иное было б дело. Теперь не оплошаем!
– Ты первый...
– На плахе будем препираться, не здесь.
Богдан подошел к рундуку, сжал кистями шею царя с двух сторон. Годунов положил ладонь на губы царя, надавил сильно. Иван дернулся, затих.
Вбежал Эйлоф, приложил ухо к груди Ивана, сказал окружившим рундук людям:
– Финиш.
Пятидесятилетнее царствие Грозного кончилось.
Ирина никогда не верила своему свекору. Пусть в последнее время он называл ее будущей царицей, приблизил к себе – она всегда была настороже. Знала, характер царя изменчив: сегодня он называет тебя дочерью и царицей, а завтра может застричь в монашескую* келью. Даже после поручения заботиться о построении города на Кокшаге она не укрепилась в вере и начала ходить в Разряд только для того, чтобы не огневать государя. И вот теперь свершилось! Ее Феденька провозглашен царем, она царица, и сегодня мужа венчают на престол. Она почему-то совсем не боялась боярских козней, не страшилась превратностей царской власти – перед нею и Федором стоял могучий ее брат. Она верила, Борис в обиду их не даст, да и сама решила помогать мужу во всех его делах неистово. Ирина была сегодня радостна и торжественна.
Был на исходе май, день выдался солнечным, безветренным. Только что отцвела черемуха, и началось теплое, ласковое лето. Царская семья встала рано – началось одевание по чину. Ирину и Федора одевали в разных палатах. Молодого царя раздели донага, но тут вышла заминка. Руководил одеванием Борис Годунов, он повелел вместо льняного белья принести шелковое. В палате было тепло, но Федору почему-то казалось, что он застыл:
– Озяб я, шурин, – хныкал царь. – Мурашки по телесам бегают. – Он стоял посредь палаты сжавшись, прикрыв ладонями рыжеватый лобок. Наконец, принесли шелковое белье, поверх него одели богато расшитую белую рубашку. Под бархатный, широкий, унизанный жемчугом пояс одели камчатый зипун, на тафтяной подкладке. Поверх зипуна надели царский становой кафтан с жемчужны-
. ми запястьями на рукавах. И в накидку (чтоб легче ходить по переходам дворца) было наброшено на плечи платно из парчи тканной золотом, убранное драгоценными каменьями и жемчугом.
– Плечи больно, шурин,—жаловался царь.—Уж больно платно тяжело, легче нет ли?
– Терпи, государь, – Годунов усмехнулся. – Впереди бармы будут, они намного тяжелыие. А про шапку Моно-маха я уж не говорю. Терпи.
Долго вели Федора по переходам дворца в царскую семейную молельню – Благовещенский собор. Здесь царя ждала Ирина.
Служба у Благовещеньев была недолгой, но царь уже и здесь утомился, и в Архангельский собор его вели под
руки. Здесь царскую чету ждал митрополит и высшее духовенство – снова было моление. Дорога между Архангельским и Успенским соборами, через площадь, устлана коврами и дорогими тканями. По обеим сторонам сплошной золоченой стеной стояли князья, бояре, дьяки. За знатью чернела толпа вплоть до кремлевских стен.
Федор горбился, запинался за ковры. Годунов и Мстиславский удерживали его с двух сторон:
– Головку подними, государь, – шептал Мстиславский.– На тебя вся Москва смотрит. Ты теперь самодержец Российский.
Успенский собор в сиянии свечей. От людской тесноты, от кадильного дыма и резкого запаха воска в храме душно. Гремит хор певчих.
А по площади к храму – шествие. Впереди причетник с фонарем, за ним попарно дьяконы с большими крестами и хоругвями. За хоругвеносцами священники с иконами, дьяконы со свечами и кадилами. Далее, тоже парами, шли архиереи, за ними хор отроков, два диакона – один с патриаршей свечой в полпуда, другой с крестом высоким в два аршина. Митрополита Дионисия, как и царя, с двух сторон поддерживают иподиаконы. Золотым крестом осеняет он народ. За патриархом через порог храма провели царскую чету. После царской свиты в собор хлынули князья, бояре, толкаясь и тихо бранясь из-за мест. Простому черному люду в собор не попасть. Его место на площади. Но зычный голос Дионисия слышен и здесь:
– Троица пресущественная и пребожественная и преблагая! Направи нас на истину свою и настави нас на повеления твоя, да возглаголем о людях твоих по воле твоей. Осени венцом твоим божеским на Российское царствование славимого милостью и хотением твоим раба божьего Федора Иоанновича и вручи ему скипетр престола нашего, вручи державу ему крестоосененную, назови его великим государем, царем и великим князем всея Русц. Да будет славен самодержец Владимирский, Московский, Новгород ский, царь Казанский, царь Астраханский, государь Псковский и великий князь Смоленской, Тверской, Югорской, Пермской, Вятской, Болгарской и иных земель государь, и великий князь Новгорода, Низовские земли, Черниговской, Рязанской, Полоцкой, Ростовской, Ярославской, Белозерской, Угорской, Обдорской, Кондинской и всея Сибирские земли и Северные страны повелитель, и государь отчинный земли Лифляндские и иных многих земель государь.
Гремят хоры, возносятся к куполу храма славопения, и воздевает патриарх на голову Федора шапку Мономаха,
два архиепископа кладут на плечи молодого царя тяжелые бармы, вручают в правую руку скипетр, а в левую – державу.
У Федора кружится голова, в уши врываются громкие возгласы «многая лета царю Федору Иоанновичу, многая лета!», от тяжести шапки Мономаха болит шея, пудовые, осыпанные каменьями и жемчугом бармы ломят плечи. Торжественное молебствие идет бесконечно долго, руки с' скипетром и державой на весу немеют, болят ноги. Чувствует молодой царь, что вот-вот упадет, выронит из рук державу, и не быть ему царем. Он вскидывает взгляд на Бориса, протягивает ему державу, шепчет: «На-ко, шурин, помоги малость, тяжко мне». Качнулся скипетр, его еле успел подхватить Мстиславский, упал бы на плиты храма Борис принял золотой шар с крестиком наверху, передал его Ирине, подхватил царя под руку, Мстиславский кивнул головой патриарху. Дионисий торопливо осенил Федора крестом, сунул крест соборному ключарю и двинулся к выходу. Венчание на царство окончилось. Богдан Вельский
• за процессией не пошел. Он перекрестился, глядя на иконостас, подумал: «Это хорошо – царь слаб и ничтожен. Боярин Никита стар, то и гляди помрет, Мстиславский горяч и честен, его можно легко отодвинуть в сторону. Шуйского пошлем воевать... Ах, если б не Борис, всю власть в свои руки я взять мог бы».
При раздевании во дворце царь немного отдышался, воспрянул духом. Вспомнил слова Мстиславского: «Ты теперь самодержец Российский», но не обрадовался этому, а испугался. «Самому всю Россию держать придется. Мне ли, если я скипетр не удержал? Только на одного Бориса надежда. Надо бы его чином повысить, долго ли ему царские подштанники подавать». Борис будто прочитал мысли царя, сказал:
– Прости меня, великий государь, и позволь мне на пиру не быть.
– Пошто так?
– Сегодня пир, завтра похмелье, а у меня дел невпроворот. Иные заботы совсем неотложны. Стало ведомо – на окраины наши снова рать крымская идет. А столицу наводнили воры и разбойники, пожары тушить не успеваем. То и гляди мятеж вспыхнет.
•– А чего князь Иван Туренин смотрит? Ему спокойствие города охранять поручено.
– Князь больше мед-пиво пьет, заменять его надобно.
– И замени.
– Всюду мне не успеть. Чин мой хоть и почетен, но
хлопотен. Я, как постельничий, все время около тебя повинен быть. То одеваю, то раздеваю, то в постель укладываю.
– Я уж думал об этом, шурин. Напишу указ – я жалую тебя чином конюшего. А на пир приходи. Не придешь– люди бог знает что подумают.
– Спасибо, государь.
На пиру Федор был недолго. Сославшись на усталость, он ушел. Борис раздел его, уложил в постель. Царь отослал его на пир, велел быть около Ирины, чтобы было ей не скучно, и чтобы люди не сказали, что царицу оставили на пиру одну. Как только Годунов ушел, царь покинул постель, оделся и вышел из дворца. Пересек площадь, остановился у колокольни Ивана Великого. Сторож преградил ему дорогу, но, узнав царя, скинул с двери замок, распахнул створку.
Федор долго взбирался по крутым скрипучим лестницам, несколько раз отдыхал, присев на ступеньки. Он понимал, что творит сейчас что-то очень недостойное его сана, но ничего поделать с собой не мог. Его неудержимо тянуло наверх, к колоколам.
В широких окнах колокольни шумел ветер, в небе светила яркая летняя луна. Царь глянул в окно, и у него зашлось сердце. Перед ним лежала освещенная луной Москва. Блестели серебром реки, справа горбились Воробьевы горы, а дальше, насколько охватывал глаз, темнели беско-конечные леса и поля. «Господи,– подумал Федор,– сколь необъятна земля наша, все это мое, за все я ответствовать должен, всем управлять. Боже! Дай мне сил, разума, крепости!» И только сейчас, в этот миг, он почувствовал себя по-настоящему царем. Порыв ветерка качнул язычок маленького колокола, он слегка зазвенел. Федор продел пальцы в связку веревок, хотел дернуть, ударить в колокольцы, но удержался. «Достойно ли царю, как простому звонарю... не дай бог, узнают люди!» Потом пришла другая мысль: «Пусть узнают! Царь я или не царь!» И рванул бечевки на себя. Серебристо зателенькали колокольчики, рассыпая свой благовест над ночной летней землей. Потом тенькнула троица средних колоколов, грянул густым дрожащим голосом большой колокол. И пошло, и пошло!








