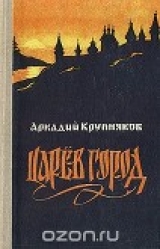
Текст книги "Царёв город"
Автор книги: Аркадий Крупняков
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
– Иванко где?
– У себя, поди. Где ему быть, – ответила Елена.
– Мне он надобен, а его нигде нет. Какая ты ему жена, если не знаешь, где муж ночует, – увидев нелюбимую сноху простоволосой и голозадой, Иван озлобился. Ему захотелось всю накопившуюся обиду и тревогу излить на Елену.
– Я ему жена хорошая, —на обидные слова свекра йиоха решилась отвечать дерзко. – А вот ты какой о^ец, если сын от тебя прячется?
– А ну, мамка, выйди! – приказал Иван, и Марфута, почуяв гнев, сразу вышла. Елена выпрямилась, натянула подол рубахи ниже, но прятаться не стала. – И не стыдно тебе! Что ты, словно блудница Вифлеемская, ляжками передо мной сверкаешь?
– Коли тебе, старому человеку, не совестно, то мне и подавно. Я роженица! Я внука тебе принести готовлюсь.
– Вот и хорошо! – царь отвернулся от снохи, присел на конец скамьи. – Я чаю, он будет весь в отца. Пусть Ванька почувствует на себе, каково ему в старости жить, когда сын его будет ненавидеть да по ночам прятаться, да заговоры плести. Ужо взвоет тогда, как мне сейчас выть приходиться.
– На это не надейся! Мой сынок будет чист, твою лихую кровь он не примет!
– А чью?! – Иван вскочил со скамьи, подбежал к снохе. – Уж не шереметьевскую ли?
– Да, нашу, честную, доброго рода кровушку, всю ему отдам до капельки.
– У, сука срамная! – царь схватил Елену за голые плечи, с силой тряхнул, бросил на рундук. – Да я его, выродка шереметьевского, в утробе твоей задушу!
– Ирода-царя вспомни! Он тоже деток малых душил, а как умер? В мученьях! И ты подохнешь скорее, чем...
– Вона как! – царь схватил сноху за ноги, рванул на себя, сбросил с рундука. Елена охнула. Иван отвел ногу назад и с силой ударил по животу носком сапога. Елена закричала истошно, свернулась калачом, обхватив руками живот... Царь выскочил за дверь, столкнулся с Годуновым:
– Помоги ей... Рожать начала.
Как он очутился на своей постели, не помнит. Откинулся на подушки, задыхаясь, проговорил отрывисто:
– Он... еще там у нее... в брюхе... а уже... изменник.
Утром во дворе стало известно – у Елены выкидыш,
а сама роженица лежит в беспамятстве.
IV
Царевич, чтобы не идти на пир, решил спрятаться в Оружейной башне. Там, в каморке под лестницей, жил его личный дьяк Спиридон, у него можно было скоротать ночь.
Дьяк встретил его новостью:
– Был у меня князь Масальский, велел тебе, царевич, кланяться. Велел передать, что он зря себя и коня истомил...
– Давно?
– Часа, поди, два тому.
– Ладно! – Иван Иванович бросился из каморки на конюшню, сам оседлал коня и вырвался за стены слободы на дорогу. Он решил догнать друзей и сказать им, что решился. Выжидать нет смысла. С отцом он рассорился накрепко, мириться с ним не хочется, надо действовать. А то друзей позвал, тесто затворил, а потом бросил. Нет, пора уж и хлебы печь.
Осенью ночь наступает быстро. Вроде и проскакал-то царевич немного, как дорогу заволокла темень, начался холодный обложной дождь. А царевич одет легко, сразу промок до нитки. Конь от резвого бега горяч, со спины его валит пар, а Ивана начала колотить дрожь. Ко всему он, видно, сбился с дороги и понял, что Масальского ему не догнать. Коня он повернул назад, да поздно. Где дорога домой – бог ведает? Пришлось опустить поводья, дать жеребцу волю, он-то дорогу найдет.
К слободе подъехал только утром. Озноб сменился ломотой в теле и жаром. Встретила его Марфута и сказала, что сына у него не будет. Про ночное посещение царя повитуха на всякий случай промолчала.
Царевич кинулся в опочивальню жены. Елена лежала на том же рундуке, в бреду вскрикивала: «Ирод ты, ирод... В мученьях подохнешь, убивец!» Около нее хлопотали иноземный лекарь, две няньки. Они расступились. Царевич опустился на колени около рундука, положил ладонь на пылающий лоб жены:
– Касатонька ты моя, очнись. Будет у нас сын. Еще будет... – Елена услышала знакомый голос, открыла глаза. Приподняла голову, простонала:
– Он... его... ногой, по темечку. Он...—голова ее снова упала на подушку. Елена и царевич меж собой никогда не называли царя по имени. И Иван сразу понял, кто это ОН и что случилось. Лекарь тронул его за плечо:
– Отойти, царевич. Ей отшень покой натопен.
Иван, пошатываясь, вышел из опочивальни. Ломило
голову, кровь стучала в висках, знобило. «Что творится на белом свете, господи! Он же дитя убил! Внука своего». Царевич сжал кулаки, и сразу в разгоряченную голову пришла мысль идти к НЕМУ, выплеснуть в его рожу всю свою ненависть, броситься на него, схватить за горло, душить, рвать и топтать его костистое тело. Пусть его схватят потом, пусть предадут смерти, это не пугало царевича.
ее ;
Он побежал по переходам, на ходу неизвестно зачем сбросил меховой терлик прямо на пол, остался в легком турском расписном шелковом кафтане. Потом сорвал с головы шапку, может оттого, что ему было жарко и душно, откинул ее в сторону. На лестнице встретил Федора. Брат схватил его за рукав, заговорил умоляюще:
– Не ходи, братец, к нему, не надо. Ты, Иванушка, добрый человек... не надо, сохрани тебя господь.
– Пусти, блаженный! – Иван вырвал рукав, но брат ухватил его за полу кафтана:
– Не сердись, Иванушка... негоже так. Ну пережди денек-другой...
Иван оттолкнул Федора, бегом, гремя сапогами по ступеням, спустился вниз, столкнулся с дьяком Спиридоном:
– Где он?!
Умный дьяк сразу понял, куда и зачем стремится Иван; ухватился за пояс:
– Охолонь, царевич, погоди. Государь в Крестовой палате, молит-ся богу. Благоразумен будь.
– Не мешай, дьяче! Я задушу его! А ты... ты бумаги мои в случае чего, сожги. А людям скажи—он дитя мое убил!
– Зачем? Вся слобода знает...
Около Крестовой палаты на мягкой скамье сидели Борис Годунов и Александр Нагой.
– Он там? – Иван тяжело дышал. Годунов встал перед ним, загородил дверь. – Пусти, Борис! Мне надобно.
– Он ждет тебя. Только чуток обожди, посиди с нами. Молитву кончит, тогда уж.
Крестовая палата невелика. Справа – изразцовая печь, слева – кресло. Стол небольшой, скатерть рытого турецкого бархата расшита красивыми цветами. Лавок в палате нет, есть рундук, на нем подушки золотные, атласные с кистями. Пол сплошь покрыт толстыми коврами, вытканными багряными узорами по красному полю. В палате полутьма, окна занавешены наглухо, только одно узкое, как бойница, окно освещает аналой, на котором раскрыто евангелие. На подставке большое серебряное распятие Христа.
Царь в старой черной рясе стоит на коленях перед распятием, спиной к двери. Голова запрокинута в молитве, видна только лысина и взлохмаченный пушок на ней. Царевич, ступая неслышно по мягкому ковру, вышел на середину палаты, остановился. В дверях встал Годунов. Царь будто не слышал прихода сына, он только усилил голос в молитве. Царевич понял, отец лицедействует.
– Боже правый, боже крепкий, боже бессмертный,– монотонно молился царь. – Коль прознаша ты про грехи смиренных слуг своих, в руце свои возьми судьбы наши дланью господней препроводи нас, грехи наши отпусти и прости. – И тем же голосом: – Кто взошед в хижины моя?
– Царевич у ног твоих, – Годунов, сказав это, отступил, скрылся за дверью.
– Встань одесную меня, сын мой, помолимся.
– У меня грехов нет, – ответил царевич.–Мне замаливать нечего. И я не молиться к тебе пришел.
– Все мы грешники, сын мой. Молитвой и постом повинны искупать грехи наши. Встань одесную!
– Лицедей! Смиренье на себя наложил, грехи свои лбом отстучать хочешь! Дитя загубил и молишься!
Царь медленно поднялся, взял посох, повернулся к ;ы-
ну:
– Умерь гордыню свою, ум воспаленный охлади.
Сядь, – голос царя, хриплый в молитве, вдруг зазвенел медью, глаза, устремленные на сына, буровили его насквозь. Иван как-то сразу обмяк, сел на рундук. Царь величественно прошел к креслу, уселся напротив сына, положил посох поперек колен, оперся на него обеими руками.—О гибели внука моего я сам сожалею более, чем ты. Я ранее не лукавил перед тобой и сейчас не стану. Большую надею я питал на внука, ибо тебе державу свою от
далять я не хотел, да и ныне не хочу жё. Думал, родишь ты мне сына, воспитаю я его добрым радетелем дел моих... А ныне кому престол оставлю я? Федор умом хил, духом немощен, ты до великих дел еще не дорос, все заговоры супротив меня плетешь да ловитвами тешишься. Растрясешь государство мое, все сделанное мной порушишь.
– Все, что было, до меня растрясли. Ливонию крулю польскому отдаешь, Нарову свейский король отнимет, казну бояре разворуют. На трон пустой я и сам садиться не хочу.
– Да никто и не просит тебя. Я еще сам...
– Дитя невинное убил пошто?
– Да не убивал я его! – царь схватил посох, ударил острым концом по полу. – Оленка, дура, испугавшись, побежала от меня, по полу распласталась...
– Ты же бил ее!
– Велика беда. Осерчал я, ударил... Легонько...
– Безвинную!
– А пошто она по светлице металась, яко молодая кобылица, в единой рубашке полупрозрачной! Ткань титьки напряженные облепила, выявила. Сосцы насквозь видно! Что у тебя, дома бедность какая, полотна на рубашки не хватает? Спокон веков жонки при людях три одежины носят. Рубашку нательную низкую, другую—сорочку красную, шелковую, а поверх всего сарафан надобен. А она? Короткая сорочка на бремень живота вздернулась, а задница голая, яко у блудницы. Ляжками оголенными трясет. Вот за это я ее и поучил малость.
– Ты же в полночь глухую к роженице ворвался, ты по животу ногами бил, изверг! Она сама мне сказала.
– Не верь ты ей! Вся шереметьевская полесйна лжива, двоедушна! – Вспомнив о ненавистных Шереметьевых, царь сразу дал волю гневу: – Не жаль мне ее, да и недоноска шереметьевского не жаль! Завтра в монастырь блудницу заточу, сдохнет в келье пусть!
– Не отдам я тебе ее, людоядец! Ты сам скорее сдохнешь, чем невинного человека...
– А ну, повтори, червь, повтори-и! – царь вскочил с кресла, бросился на сына. Распахнулась дверь в палату, ворвался Годунов, встал между отцом и сыном.
– Уйди, Бориско! – царь поднял посох, ткнул тупым концом Годунова в грудь. – Во-он, банщик3! Рано в царские дела лезти. Во-он! – царь схватил Бориса за воротник, вытолкал за дверь и снова кинулся к сыну, ударил его посохом по спине. С криками «Кровопиец! Кровопиец!» Иван схватил отца в охапку, бросил на рундук. Царь охнул, выронил посох, подняться не успел. Царевич придавил грудь отца коленом, схватил за горло, начал душить. Он был много сильнее царя, и не миновать бы отцу смерти, если бы не Годунов. Тот вбежал, оторвал царевича, поволок его к выходу. Иван около двери стряхнул Бориса, снова, как зверь, пошел на царя. Отец в это время успел оправиться, поднял посох и, размахнувшись им как копьем, бросил в сына. Иван закрыл голову руками. Острый конец жезла скользнул по рукаву, ударил в висок, мягко упал на ковер. Хлынула кровь, царевич зажал рану ладонью, потом отнял руку, глянул на окровавленные пальцы, в голове у него помутилось, и он рухнул на пол. Темное кровавое пятно расползалось по ковру.
Борис с ужасом начал пятиться к двери, исчез. Царь рванулся к сыну, встал перед ним на одно колено, поднял Ивана, прижал к подбородку, закрывая ладонью рану. Меж пальцами царя сочилась кровь, она сбегала по щеке сына на шею, на бородку двумя темно-красными ручей ками.
– Не смей, слышишь, Ваня, не смей! Не умирай, не надо!
Царевич очнулся, глянул в выпученные глаза отца, тихо простонал:
– Что мы наделали с тобой... тятя...
– Обожди, не надо! – твердил отец. – Я не хотел, не хотел! Господи!
Царевич закрыл глаза, голова упала на плечо.
– Бориско! Он умирает! Лекаря! Скорее, скорее! Спасите!
Вбежал Годунов, Он подхватил Ивана, перенес на рундук. Царь оттолкнул, крикнул:
– Сказано – за лекарем!
– Нагой побежал!
– Сынок, очнись! – отец схватил сына за плечи, стал поднимать. – Сядь, Ваня, милый. Не смей умирать! Не надо! Я не хотел! Что ты стоишь, Бориско. Кровь унять надо! Умрет ведь!
В дверях появился лекарь, за ним нес ушатец с горячей водой Александр Нагой.
Царевич умирал мучительно. Боли от простуды и от раны соединились воедино. Иван то бился в горячке, то затихал, впадая в беспамятство. Лечили его два иноземных лекаря: разводили медвежью желчь в молоке, обкладывали льдом ноги, поили горячим вином. Царь беспрестанно молился у себя в палате; в храме дважды, утром и вечером, служили молебны во здравие царевича. На третий день болезни по слободе пошел слух: к Ивану нарочно приставили иноземцев, чтобы уморить, поскольку за деньги те иностранцы могут и оздоровить, и залечить. Царь приказал немедля приставить к сыну двух своих знахарей – их привезли из Москвы. Те, оттолкнув немца и угличанина, стали натирать больного тертой редькой, обкладывать виски хреном, поили мочой младенцев. После знахарей к Ивану лезли монахи. Они клали на лоб умирающего ладанку с мощами, жгли под носом ладан, молились. Иноземцы, знахари и монахи ссорились около посгели царевича, иногда дело доходило до драки. На пятый день царевич пришел в себя, позвал отца. Странное дело, вся ненависть к царю ушла куда-то, Иван взял руку олга, стал нежно ее гладить. Царь зарыдал, упал перед ложем сына на колени, уткнулся в грудь лицом. Плечи его вздрагивали. Иван гладил его костлявую спину, говорил медленни:
– Я на тебя не в обиде, нет. Видно, так угодно... Может, так и для меня... и для тебя лучше. А ты помнишь, мать говорила, что для бога я рожден, не для царствования... Ты бранил ее...
На одиннадцатый день царевич умер. Гроб с его телом повезли в Москву. Вслед за сыном покинул слободу и царь, чтоб более не возвращаться сюда никогда.
Гроб установили в скорбном полумраке Архангельского собора, там, где лежал прах всех предков царя.
Четверо суток отец не отходил от гроба сына. В черной монашеской рясе он стоял на коленях на каменных пли-» тах храма, громко читал молитвы, каялся в грехах, просил у бога прощения. Иногда молитвы утихали, царь поднимался с колен, сгорбившись, старческой походкой ходил вокруг гроба, что-то шептал про себя. Ночью садился на стулец у изголовья гроба и думал. Может быть, впервые он спрашивал себя: правильно ли прожил свою жизнь?
«Что человеческого я видел в жизни своей, господи?– думал Иван. – Любви к ближнему своему у меня не было, какая у царей любовь? В семье своей, почитай, не бывал никогда, женами любим не был. Плоть тешил свою, а пошто? Род свой множить старался, да сам же и пресекал его. Царством своим правил ли? Может, не сам правил, а пла-хг с топором остро наточенным? Покоя всю жизнь не знал, всю жизнь в страхе провел, трусом стал, тени своей боюсь. Хотел люду своему добро сотворить, а что вышло? Державу разорил – люд обнищал. Трон без наследника оставлю, казну без надзора. Для чего копил сокровищницу свою? Один раз только и порадовался богатству своему, когда укрывался от татар, перевозил драгоценности в Новгород. Четыреста пятьдесят телег везли сокровища мои, пять тысяч пудов золота и серебра лежало в мешках и сундуках. А сколько драгоценных камней, сосудов, украшений! Показалось мне тогда: нет государей богаче, чем я. А теперь кому это все достанется? К чему все золото, серебро, сапфиры, изумруды? Может, отдать в храмы, монастыри, пусть грехи мои замаливают?»
После пышных похорон царь поехал в Троицкий мона-. стырь. Дьякам дал указ составить списки всех людей, им казненных. Возвратившись от Троицы, Иван подписал грамоту, по которой посмертно прощались все казненные. Списки были посланы по монастырям, чтобы вся Русь молилась за души помилованных. Со списками посылались мешки с серебром на помин души каждого.
До Богородицкого монастыря оставалось всего семь верст. Но Ешка и Палата настолько в дороге истомились, что далее идти не могли. В деревеньке попросились в крайнюю избу христа ради на ночлег. Мужик впустил их, дрожащими руками запалил лучину.
– Покормить бы вас надо, страннички, да нечем. Сами лебеду толчем, мучицей припорашиваем и едим.
– Благодарствуем на добром слове, – Ешка развязал котомку, вынул черствый каравай хлеба, мешочек с толокном, узелок с солью. – Раздели, раб божий, с нами трапезу.
Из-за печки вышла простоволосая баба, выставила на стол глиняную плошку с водой. Палага посолила воду, размешала в ней толокно. С печки высунулись четыре детских головенки. Ешка взял нож, перекрестил им каравай, распластал на ломти. Прогудел в сторону печки:
– А ну, мелочь пузатая, беги за стол – ужинать будем. – Ребятишки кубарем скатились с печки, расселись вокруг стола.
– Издалека ли едете, страннички? – спросил мужик.– И куда?
– В обитель к Богородице идем, – ответила Палага.– Почитай всю Русь исходили.
– Богу и царю служим.
– В каком сане ходишь? Ряса у тебя вроде монашеская, а грива поповская...
– Сам забыл, кто я. В молодости ходил по диким лесным землям, инородцев к христовой вере приобщал. Был у черемис, у татар. Государю нашему Казань покорять помогал с крестом и саблей в руке. Во Свияжске настоятелем храма был, во Пскове игуменом монастыря обретался, в пустынях лесных отшельничал, * потом сызнова воевал...
– Душа у него беспокойная, да и выпить, грешным
делом, любит.
– Молчи уж, старая. Скажи лучше – любил. Теперь под старость лет хотим в иноческую жизнь проситься, да не берут.
– Ох-ох-хо! Кому старики нужны, – Палага перекрестилась. – В монастырях ныне молодых, работящих полным-полно. Если у Богородицы не примут, не знаем уж, куда и податься. Бедность везде, как и у вас.
Утром вышли на дорогу к монастырю. В одном месте, где дорога проходила мимо болотца, в низине увидели возок, увязший в грязи по самые ступицы колес. Тщедушный монашек в синем кафтане пытался вытолкнуть возок на сухое место, но яма была глубока, а лошаденка худа. Ешка сказал: «Бог в помощь», обошел телегу кругом, увидел большой кожаный кошель:
– Груз пока надо сбросить.
– Не можно! – стрелец махнул бердышом. – Там царское селебро! Пять пудов.
– Никуда оно не денется. Инако возок не вытянуть,– и, не ожидая согласия стрельца, Ешка взял кошель за гор ло, бросил на обочину. Потом оперся плечом в задок возка, стрелец, монашек и Палага подсобили, и лошаденка, поднатужившись, выдернула телегу на бугор.
– Пошто такое богатое приношение? – спросил Ешка монаха, шагая за возком.
– На помин души убиенных. Слышал, чай, царевич умер. Государь в казнях своих раскаялся, простил всех виноватых.
До монастырских ворот стрелец и монашек рассказывали Ешке о переменах, которые произошли в Москве.
Как и предполагала Палага, в монастырь их не только не приняли, но и не впустили за ворота. Около стен толпилось множество желающих попасть в обитель, но ворота не открывались.
– Что делать будем, старая? Куда стопы свои направим?
– В Москву идти надобно, батюшка.
– Кто нас ждет там?
– К государю Ивану Васильевичу перед светлый лик Ты всю жизнь ему служил, под Казанию единую чашу крови пили вы, неужели не поможет. Если лютость его прошла, может, вспомнит и нас сирых.
И снова отправились странники в дальнюю дорогу.
а»
I
Данила Сабуров, боярин и воевода, любил деньги (кто их не любит?), вино, гнедых лошадей и красивых баб. А не любил воевода родовитых людей, сидение на одном месте, топленое масло, а также лодки, паромы и всякую передвижку по воде. Потому как цыганка еще в молодости нагадала ему, что женится он на дочери кабатчика, а смерть найдет в речной пучине. Назло цыганке воевода женился на самой богатой девке Москвы и на самой, как говорили, сварливой. Прожив с нею три года, Данила совершенно неожиданно узнал, что его тесть разбогател на кабаках, когда жил в Ярославле. Исходя из этого, следовало– тонуть ему в воде. А как избежать водных путей? Паромы, лодки, их люби-не-люби, а пользуйся. Вот нынешний случай взять: из Казани до Свияжска ни на чем другом, как на лодке или на плоту, не добраться. И пришлось Сабурову с-конями, стрельцами и слугами садиться на потарлоту и дрожать на этом большом весельном пароме.
В-се, слава богу, обошлось благополучно, если не считать, что его любимый гнедой жеребец потерял подкову.
Она застряла меж досок парома, оторвалась. Вроде бы пустячный случай, но он, как мы увидим далее, имел большие последствия. Дело в том, что боярин Борис Федорович Годунов, родственник и покровитель Сабуровых, от имени царя послал указ совершить очередную проверку приволжских крепостей. Уж так повелось: воеводы городов нещадно грабили инородцев, присваивали казенные деньги и не столько служили охране границ государевых, сколько старались о своем «кормлении». Не зря тот же Годунов изрек однажды, что если бы не воеводы да городничие понизовых городов, то, может быть, у инородцев никаких бунтов бы не было. Посему указывалось: воевод прощупывать и менять если не каждый год, то через год. Для этого приезжали дьяки из Москвы, но чаще поручали это казанским воеводам, поскольку в этой самой большой на Волге крепости воевод было двое: один – большой, другой – осадный. Ныне в больших воеводах сидит Богдан Сабуров, а Данила—в осадных. И велено ему, Даниле Сабурову, идти в Москву, а по пути проведать свияжского и кокшайско-го воевод и посмотреть, как строится кузьмодемьянская крепость. На Свияге сидит князь Петр Буйносов-Ростовский, а на Кокшаге – его братец Василий. Буйносовы – давние недруги Годуновых и Сабуровых, а посему боярин Данила имеет намеренье прощупать князей тщательно. Ибо Годунов в отдельной грамоте намекнул, что в делах грядущих эти два братца могут зело помешать, и поэтому неплохо было бы их не просто столкнуть с воеводского сиденья, но и подвести под гнев государев накрепко.
Данила, перебравшись на правый берег, всю дорогу думал, как бы это дело похитрее сотворить, но надежду на успех имел малую. Оба Буйносовы хитры и осторожны, самому не попасть бы в их капканы – и то слава богу.
Петр Иванов Буйносов-Ростовский сразу выделил Даниле кузнеца, и Сабуров, не заходя в избу, повел жеребца к ковальному станку. Навстречу ему из кузницы вышел рыжеватый красивый мужчина, косая сажень в плечах. Он поклонился воеводе, принял повод, завел жеребца за столбы. Ударил ребром ладони по подколенью, ласково прогудел: «Ножку». И конь послушно поднял копыто. Кузнец выбрал из связки подкову, примерил по копыту, отбросил, взял другую. Она пришлась впору. Работал коваль сноровисто, красиво и быстро.
–• Может, и другие подковы сменить? – спросил Сабуров кузнеца.
Мастер глянул на него исподлобья, улыбнулся, тряхнул рыжими кудрями и начал отдирать подкову на задней ноге,
– Не больно ты разговорчив, – заметил Данила. Ему плечистый нравился, и захотелось с ним поговорить.
– Мое дело – подкова. А говорить дьяки мастера.
– Зовут-то как?
– До сих пор Ильей звали.
– Роду-племени какого?
– Родителев не помню, – не глядя на воеводу, ответил кузнец и крикнул: – Эй, Андрюха, гвоздей принеси!
В дверях кузни появился молодой парень в кожаном фартуке, тоже высокий и плечистый. Он высыпал в ладонь кузнеца горсть гвоздей и снова скрылся под крышей.
– А прозвище у тебя како? – не унимался воевода.
– Говорят, что батя мой кузнецом был. Стало быть, Илья, сын Кузнецов.
– А молодой – брат?
– Он мне здесь в подмастерья дан. Тоже сирота.
– Женаты?
– Ему еще рано, а мне уже поздно. Себя бы прокор-
мить.
Проверив подковы, Сабуров вынул
сунул в ладонь кузнецу:
– Знатно работаешь, таких люблю.
– Спасибо, батюшка. Теперь хоть до Москвы скачи – подков не потеряешь.
– До Москвы – как бог велит, мне бы до Кузьмодемь-янска добраться.
Кузнец ничего не ответил, поклонился и зашагал к двери.
В воеводской избе уж и стол накрыт. Буйносов, борода до пупа, брюхо отвисло над приспущенным поясом, проворно выскочил из-за стола, подбежал к Сабурову, помог ему стянуть кафтан, поднял длань к шапке. Данила отстранил руку, сказал насмешливо:
– Не по роду честь воздаешь, Петр Иваныч. Буйносовы, я чаю, родовой хвост из-под Рюрика-князя тянут. А мы, Сабуровы...
– Ох, хо-хо] Кто ныне на хвосты смотрит?! А ты, я полагаю, двоюродным братом Борису Федоровичу Годунову приходишься?
– Троюродным.
– А он ныне одной нОгой на подножье трона встал. То и гляди...
– Сабуровы не Годуновыми знатны. У нас в родне и царицы были. О сем не забывай.
– Я помню, Данилушка, помню. Супротив пострижения бедной Соломонии я первый руку тянул.
Разгладив влажными ладонями волосы, Сабуров уселся на скамью. Слуги, хлопотавшие вокруг застолья, вышли. Буйносов разлил по чаркам вино. Выпили, заели пластовой квашеной капустой.
– Почитай, живем мы рядом, – утерев усы, заговорил Буйносов, – а в гостях ты у меня первый раз. Не по-соседски это, воевода.
– До гостевания ли ныне, князь. Казанские татары
сызнова голову поднимают, черемиса, чуваша все им в рот глядят. Мало того, камские вотяки, башкиры, как и восемь лет назад, к ним пристать хотят. А теперь, когда грозный царь немощен, наследника нет, нам остается только на себя надеяться. Я бы и сей день к тебе приехать не удосужился, да получен из Москвы указ осмотреть все понизовые города и крепости и донести о их ладности либо худости. . V .
– Стало быть, в Казани снова беспокойно?
– Казань-то стоит. Там у меня, почитай, полк, да у брата Богдана два. Казанцы в городе сидят смирно, а вот лесную черемису, камскую чудь волнуют. Посему Богдан поехал в Арске-крепости Гаврюшку Щекина проверить, в Лаишеве Степку Кайсарова посмотреть, в Тетюшах голова Невежа Оксаков, говорят, запил, в Олаторе князь Засекин заворовался. Мне велено у тебя побывать, потом кузьмо-демьянску крепость поглядеть. Говорят, плохо и медленно ее строят. По пути побываю в Чебоксари да кокшайский острог посмотрю. А потом, даст бог, и в Москву.
– Так ты, стало, Богдана Юрьича не увидишь ныне?– спросил князь после второй чарки.
– В Разрядном приказе велено встренуться,– Сабуров выпил тоже.
– Кланяйся ему моим земным поклоном. И попрошу тебя, Данилушка, пусть он Степку Кайсарова в приказе сильно бы не хулил. Он, я чаю, у него в Лаишеве непорядков найдет немало, крепость там дальняя, хилая, сам Степка горяч и молод, мало ли что...
– Сродни, что ли?
– Да зять он мой, будь неладен. Только служить начал. Пусть уж Богдан Юрьич пожалеет малого.
– Ладно, скажу. Вот ежели у тебя я найду прорухи, не помилую. А Степку надо пощадить. Кайсаровы, я знаю, люди хоть и не родовитые, зато честные. А тебя, многоопытного, всего насквозь прощупаю, так и знай! – Сабуров начал хмелеть, и его нелюбовь к родовитому Буйносову так и вырывалась наружу.
– Да что у меня щупать, Данилушка! Свияжск – кре-
пость особая, й посадили меня сюда, дряхлого, ради сеДйн моих, а не дела.
– Не скажи, князюшка, не скажи. Ты тут длани свои нагрел немало.
– А кто ныне не греет? Все, яко воробьи, клюют понемножку. А я к тому говорю, что никто на мои стены не полезет. Казань рядом, вон она, через реку наискосок стоит, стены острожьи крепки, еще до казанского взятья возведены. Чай, помнишь, как в Угличе самолучшие сосенки срубили, плотами перегнали и за две недельки крепостишку вздернули? Более тридцати лет прошло, каждый год что-то пристраиваем – чего тут смотреть... Выпьем давай еще чарку-другую, да и на покой. Я те девку сенную постель погреть пошлю. Есть тут у меня одна ягодка-малинка...
– Ой, хитер ты, княже Буйносов, – Данила погрозил Петру пальцем. – Чарку-другую я, конечно, изопью, ягодку попробую, но крепость ты мне все одно покажешь. И если что не так...
– Да покажу, покажу. Вот утром опохмелимся, и посмотришь. Мне такую махину в карман не спрятать.
В дверь бочком пролез подьячий. Вытянув лисью мордочку, пропел:
– Князюшко-батюшко, у нас гость во дворе.
– Кого еще бог принес? – недовольно, через плечо, спросил Буйносов.
– Прибежал из-под Лаишева голова Степан Кайсаров. Пустить?
– Ох ты! – воскликнул Сабуров. – На помине, как сова на овине! Зови! Поглядим, что за пташка твой зятек.
Мимо подьячего в избу вошел Кайсаров. Посреди горницы остановился, перекрестился на образа, бросил мокрую, смятую в руке шапку на лавку, утер рукавом бородку и усы:
– Бью челом тебе, боярин Сабуров, и тебе, князь Петр Иваныч. Простите за мокроту, на дворе ливень. В конце пути все же меня прихватил.
Буйносов, широко раскинув руки, шагнул к зятю, обнял, поцеловал трижды.
– Разболокайся и – за стол.
– Хорошо ли доехал? – спросил Сабуров, когда Степка уселся на скамью.
– По Каме лодка бежала, слава богу, ходко, а вот по Волге спроть течения намаялись. Не только у стрельцов, но и у меня руки измозолились в кровь, – и он показал багряные ладони.
– К тестю погостить?
– Смилуйся, боярин. В такую даль – ЛОгостить. По делу я.
– Крепость на кого оставил? – сурово спросил Буйносов.
– На Митьку Болтина. Мужик надежный.
– Надежный-то надежный, а к тебе с проверкой Богдан Сабуров из Казани выехал. Приедет, а головы кре. постного нету.
– Ладно, не бранись, княже, – Сабуров налил вина, подвинул чарку Кайсарову. – Ты сперва согрей гостя, потом и спрашивай. А с Богданом мы договоримся как-нибудь.
– Мог бы Митьку послать, – с напускной суровостью упорствовал Петр.
– Мог бы, мог бы... К тебе в гости зятюшка любимый приехал, а ты с упреками. На, выпей, потом о деле скажешь.
Степка в трудном пути оголодал, а после чарки осмелел и начал усердно поглощать оставшуюся телятину, овсяную кашу на сале, пироги с грибами. Сабуров глядел на него искоса, усмехался. Буйносов то и дело подвигал гостю чарку. Данила нюхом чуял, что Степка прискакал в такую даль не по пустому делу. Наверняка что-нибудь натворил и приехал к тестю за помощью. И, может, дело это и есть та зацепка, которая так нужна сейчас Сабурову. Не зря же хозяин старается поскорее оглушить гостя хмелем и увести на покой.
– Ты на хмельное-то не особенно налегай, – сказал Данила. – На голодно брюхо упьешься и о деле сказать не сможешь.
– Дело, оно не волк, в лес не убежит. Завтра поговори^ – торопливо откликнулся Петр Иванович и налил зятю полный ковш медовой браги. Тот вылакал его не отрываясь, и через малое время уткнулся в миску с кашей. Буйносов хотел позвать слуг, чтобы Степку унесли, но Данила проворно поднялся, взвалил Кайсарова на плечо:
– Указывай, князь, куда нести. Зачем слугам его по-называть? Воевода все-таки.
Потом выпили еще по чарке, поговорили о том о сем, и Данила попросился на покой. Буйносов указал ему отдельную спаленку, пожелал доброй ночи, и они расстались.
В спаленке и в самом деле грелась постель. На широкой кровати кто-то лежал под одеялом. «Ну и хитер старый лис, – подумал Сабуров.—Мысли мои прочитал и приставил ко мне на всю ночь сторожа». А задумал Да-нило в полночь тайно сходить к Степке и все у него спы-тать. А теперь уйди, попробуй... Бабу, конечно, можно прогнать, но она сразу разбудит князя... «Ладно, – решил воевода, – ты, Петрушка, хитер, а я тебя перехитрить попробую». Он вз'ял единственную свечу, мерцавшую в углу, оглядел спаленку. Его пузатый кожаный кошель, где хранились деньги, бумаги и три штофа романеи, был на месте. Укрепив свечу на спинку кровати, он вытащил штоф, походные чарки и, ткнув локтем лежавшую под одеялом, сказал тихо:








