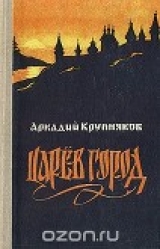
Текст книги "Царёв город"
Автор книги: Аркадий Крупняков
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
Государь ворочался под одеялом недолго – уснул. Спал он час, может, два. Вдруг тишину ночи разорвали колокола храмовой звонницы. Сначала затенькали малые колокольцы, потом – Бум! Бум! – подал свой басовитый медный голос большой колокол.
Иван рванулся на перине, сел, сбросил одеяло. В душу вошел страх – в полночь-ту звоны не к добру!
– Бориско!
Годунов возник в темноте около постели.
– С чего в колокола бьют, стервецы? Пошли узнать.– Годунов шагнул к двери, царь вслед ему крикнул: – Виноватого волоки сюда!
Сразу пришло раздражение, потом оно сменилось злой яростью. Всю неделю царь мучился бессонницей, только уснул, и на тебе – что-то стряслось! Теперь не уснуть до утра. «Если звонили попусту – голову снесу», – подумал Иван и, не ожидая постельничего, начал одеваться. Вошел Годунов со свечой в руке, тихо сказал:
– Спи, государь, спокойно. В колокола бил царевич Федор.
– Пошто?
– Сам сюда идет, скажет.
Борис от своего огарка зажег две большие свечи, ушел в угол, сел на лавку. Он знал, что грозы большой не будет. Царь не то, чтобы любил младшего сына, он его жалел, как всегда жалеют родители своих ущербных детей. Сейчас Федору шел двадцать четвертый, он скоро уж два года как женат, но отец звал его по-детски Феденькой или Федюнькой, а за глаза – либо блаженным, либо убогим.
Федор вошел в опочивальню тихо, прикрыл за собой дверь, остановился под сводами, втянув в плечи голову. Царь глянул на него, и волна гнева, все еще давившая грудь, схлынула, вместо нее пришла жалость. «Господи, прости, я в его годы Казань покорил, бояр взял за горло, а он и на мужика не похож». Вид сына был жалкий: ростом невысок, над узкими худыми плечами качалась ил стороны в сторону, словно плохо прикрепленная, маленькая голова. На лице блуждала улыбка, она менялась, становилась то виноватой, то подобострастной.
– Ты что, Федюня, по ночам колобродишь, людям спать не даешь? – спросил Иван, улыбнувшись. – На колокольню полез зачем?
– Прости, батюшка, не спалось мне ныне, – торопливо заговорил Федор и зачем-то потрогал пальцами мочку уха.– Вышедши во двор, я всюду усмотрел непорядок. Стрельцы под навесами дремлют, сторожа спят, у ворот охраны никакой. Долго ли до греха, батюшка.
– Трезвоиил-то пошто?
– Дак всех, батюшка, разве добудишься! – Федор по-детски хихикнул. – А я как в колокола вдарил – зашевелились.
– Так ты и меня разбудил. А я ведь не сторож.
– Мне ведомо, батюшка, что ты по ночам так и так не спишь, а глядь, даст бог, и днем выспишься. На дворе ьсе одно дощь.
– Мудро рассудил, – царь засмеялся. – Ну, садись. Я все одно звать тебя хотел, поговорить надо. Ты, Борис, уйди, мы уж тут по-свойски как-нибудь обойдемся.
Годунов пододвинул Федору скамью, поклонился и неслышно, на носках, вышел. Иван сунул ноги под одеяло, откинулся на подушки.
– Вот ты сказал, я по ночам не сплю. А отчего сие?
– Заботами великими обременен...
– Не в том суть, – Иван посуровел, натянул одеяло на грудь. – Стар я стал, немощен. Болезни одолевают меня, сна нету. Ем мало, а тучнею. Ресницами не успею хлопнуть, а эта стерва с косой тут как тут!
– Что ты, родименький! Да ты еще множество лет...– Федор захныкал, утер глаза ладонью.
–1 На кого державу оставлю, кому скипетр передам? Вот о чем денно и нощно думаю.
– Как это на кого? А братец Иванушка? Он умен...
– Верно! Умен он. Чужими подсказками. А государю свой разум надобен! Не верю я ему. Все потомки наши были Руси собирателями, а он государство мое растрясет. Он дело наше продолжать не станет. Он спит и видит: подняться надо мной, доказать, что царством я правил плохо. Не отдам я ему бразды, нет, не отдам!
– Кому же, батюшка? – царевич покачал головой. – Я скипетр не удержу,
*– Верно, Федя. Какой ты царь? Тебе господь иной удел назначил. Вот на колокольню лазить ты горазд.
– Ежели братец не угоден тебе, то, может, его сын?
– Какой сын?
– Вчера Иринушка моя сказывала, ходит твоя сноха последние дни и ждет будто сына. Будет тебе внук.
– Ты забыл – она боярина Шереметьева дочь?!
– Ну и что же? Род древний...
– Древний?! Этот род мне противнее всех родов. Отец Олены изменил мне с крымским ханом, а дядя его не только присягнул на верность Баторию, но и навел его на Великие Луки, отчего город сей мы потеряли. Другой дядя, бесов сын, в монастырях хоронится. Был еще один Шереметьев, его, слава богу, я успел на плаху положить. Да ежели такому внуку престол отдать... Вот если бы ты мне внука подарил! Об этом твоя Иринушка ничего не сказывала?
– Не говорит, – грустно ответил Федор,
– Ты бы меньше по ночам на звонницу лазил, вместо того, чтобы в колокола тренькать, обнимал бы ее крепче, тогда, может, что и сказала бы. Не бесплодна она?
– Один бог ведает.
– Может, послать ее в монастырь, а тебе иную жену?
– Что ты, батюшка, господь с тобой! Лучше я умру, а Иринушку тебе не отдам1
– Да она мне не надобна! Мне внук от тебя нужен!
– Нет, нет! – Федор вскочил со скамьи, замахал руками, заплакал: – Иринушку мою не тронь. Мы с ней в
одни год родились, вместе по садам бегали... Помилуй!..
– Погоди ты слезы по ланитам размазывать. Я знаю; Ирина умна, ты добр, вы мне внука достойного дать можете. Вы хоть спнте-то вместе али врозь?
– Сперва вместе.
– А теперь?
– Я, батюшка, храплю очень. Ажно оконницы дрожат. Да и она...
– Что она?
– Телесами пышная, горячая. Во сне либо ногу на меня положит, либо руку. Мне горячо, больно, я до утра заснуть не могу.
– Бориско!
– Я тут, государь,– Годунов появился в дверях.
– Скажи своей, сестре: если она хоть на одну ночь ляжет спать с мужем врозь – выпорю обоих.
– Скажу, государь.
– А ты, Федяша, сейчас же иди к ней. И на колокольню по ночам чтоб ни ногой. -
– И днем, батюшка?
– Что днем?
– Днем, я чаю, позвонить не грех. Благовест господен все-таки.
– Ладно. Днем звони.
Царевич Иван в Александровской слободе – будто со кол в клетке. Не отпускает его отец от себя ни на шаг, всюду насовал наушников, доглядчиков. Давно чует царь, что сын готовится к измене, то и гляди столкнет его с тро* на. Хоть и держит царевич свой двор, во дворце своя половина у него, но спокою нет. Уж вроде бы и в ночь глухую, вроде бы и каморка кругом закрыта, но встретит он тайно друга, поговорит шепотком, а утром, глядь, все отцу известно. В печных трубах, что ли, наушники упрятаны? Уж с какого времени дружки к нему на тайную беседу просятся, а где сойтись? Люди нужные, верные, сильные, молодые. Князья Гришка Масальский, Семка Ми-лославский, боярин Мишка Енгалычев. В Москве было куда вольготнее. Там и в Кремле места много, в городе остаться в тайном месте можно, а здесь все на виду. А дружки весть за вестью шлют: «Встренуться бы, посоветоваться».
Сначала царевич подумал про охоту. В лесу можно вроде бы уединиться. Но как, где? Вчетвером ведь не поедешь, это тебе не простая охота – царская. Егеря, загонщики, бойцы – человек тридцать, не менее. Какое уж тут уединение.
Но как-то дерзкая мысль пришла. На охоту ехать – не ехать, как бог повелит, а собраться для ловитвы можно. Одеться по-охотничьи, сойтись после полуночи в конюшне, конюхи спят, царь туда не ходит. А если и заглянет, можно сказать, что на охоту собрались. И вот появились на конюшне Семка, Мишка и Гришка тайно. На царевиче зелен кафтан с черными шнурами на груди и на рукавах, шапка беличья с красным бархатным верхом, высокие сапоги, широкий пояс, за поясом нож. Друзья тоже одеты по-охотничьи. Стремянным велели лошадей заседлать, вывести на двор и тихо ждать рассвета. Конюхов вытурили во вторую половину конюшни, велели спать. Да и середь конюхов вряд ли наушников царь держит. Закрылись в Конюховой комнате тихо, поставили на стол ушатец с брагой, фонарь малый, ворота закрыли. Беседу начали осторожно. Молодые князья как бы между прочим выговаривают царевичу все, что наболело на душе, ждут, когда вскипит у Ивана Ивановича злость на отца.
– Ох-хо-хо, до чего мы дожили, – вздыхая, говорит Енгалычев. – Вот поехал я к тебе, царевич, в гости, гостинец бы какой надо взять, а где? Сами, яко смерды, едим затпруху овсяную, пьем квас, а не пиво. Вконец обнищали, того и гляди с сумой по миру пойдем. Доколе так будет, а? Ведь делать что-то надо.
– С сумой-то, может, и не пойдем, – тихо промолвил Милославский, – а вот на большую дорогу с дубьем выходят многие. По всей Руси дым столбом стоит, по доро-гам ездить страшно. Я до слободы покамест добрался, две разбойных шайки повстречал.
– И не тронули?
– Да как же они тронут, если я их узнал, да и они меня. Один – Федька Подшивальников, другой – Митька Павлов. Оба бояре.
– Дела творятся на свете, не приведи господь, – князь Масальский перекрестился.– Глад и разорение по всей земле. Бегут людишки в глухомань, в монастыри, в пустыни лесные. Боярин Михаил правду изрек – надо что-то делать. Скоро мужичишков у нас совсем не останется. Сами, что ли, соху тянуть будем?
– Ратников на Руси, почитай, не осталось. Кто сохранился, и тот в бегах. – Милославский сдвинул брови, гля пул на царевича, как бы спрашивая: «что, мол, скажешь на это, царевич?»
Иван Иваныч подернул плечом, отпил браги из ковша, сказал зло:
– Довоевался царь-батюшка, сам не знает, что дальше делать. Мечется по слободе, яко барс по клетке. На покой бы ему пора!
– Просись, царевич, в Москву. Слобода, я чаю, тебе давно осточертела.
– Думу отче мой разогнал, сейчас самая пора собрать молодых,.. У вас, я полагаю, единомышленники есть. Н^ кого опереться можно?
– Как нет, есть. Но сперва надо тебе решиться. Тогда многие пристанут. Была бы матка – рой соберется.
– Ты зря, царевич, медлишь, ты уже не молод, – Милославский вытянул шею, придвинулся к Ивану Ивановичу.– Ты войско водил не единожды. Бери власть, вставай над одряхлевшим царем, он давно ни на что не годен. Ты по нонешним временам более его смыслишь, более знаешь Бери войско под свою руку, мы тебе опорой станем. Веди рати Баторию навстречу: державу оборонить, Ливонию нл зад возвернуть. Мыслимо ли дело так дальше жить? 1Ь плахе умереть и то почетнее.
– Ох уж эта мне плаха! – зло произнес Масальский -Она правит Русью, не царь. Сколько на грудь свою приняла! Серебряный, Старицкий, Татищев. Репнин, князь Горбатый-Шуйский, Морозов, Пронский, Салтыков, князья Ростовские. Все имена великие, а сколько малых имен пало, не счесть.
– В том и беда! – царевич поднялся, зашагал по комнатушке. – Все родовитые вырезаны, около царя – серость мелкопоместная, нам чуждая. Боюсь я их. И царя боюсь. На кого опереться можно, не знаю.
– А мы! В случае чего жизней не пожалеем, царевич. Все одно нас плаха ждет, да и тебя тоже... Уж лучше умереть за правду.
– Зачем умереть! Ежели старца придушить, казну его забрать – вся сила у тебя будет, царевич. И медлить не надо. Иначе зачем было собираться? От слов к делу надо переходить. Провороним время, конец тогда. У него рука не дрогнет.
– У кого это рука не дрогнет?
Будто средь ясного неба грянул гром, будто ударило по крыше тяжелое чугунное ядро: в дверях, упираясь руками в косяки, стоял царь. Вскочили заговорщики, онемели от страха. Глядят на царя расширенными глазами, побледнели. Иван в легком кафтане, без пояса. Он высок, сутул, это идет от деда его Ивана Васильевича Третьего. Сухость в телесах от беспокойной жизни, от постоянного бдения. Ночь на дворе, а он не спит, ходит по дворцу неслышными шагами. Никто в слободе не знает, когда царь ложится в постель, в ночь-полночь зовет к себе слуг, бояр, князей. Лицо желтое, испещренное глубокими морщинами, словно печеное яблоко. Это все от злобы. Крючковатый нос заострен, губы презрительно сжаты, глаза буровят молодых дружков царевича, кидают в страх. Стиснуты зубы, голос то скрипуч, то глуховат, то звонок – это тоже вызывает ужас. Не приведи бог, занесет правую руку над левым плечом и разрубит воздух ребром ладонью сверху вниз – все знают этот жест: голову долой!
– Договаривай. У кого не дрогнет рука?
– У загонщика, государь, – ответил за Милославского царевич. У него испуг прошел, царевич овладел собой и говорил спокойно.
– У какого загонщика?
– Мы на охоту, батюшка, собрались; рассвета ждем. Л князь рассказывал про загонщнка. Митьку.. Есть у нас такой, который на рогатину трех медведей поднял. Вот у него-то и не дрогнет...
– Мелко врешь, царевич, – царь подошел к столу, поднял ковш с брагой, понюхал. – А кони для охоты где?
– За воротами, государь.
– Покажи, – Иван кивнул головой в сторону двери вышел. Царевич пошел за ним. За воротами у коновязи стояли лошади, оседланные, готовые в путь.
– Загонщики где? – царь голос смягчил, видно, поварил сыну.
– Греются либо дрыхают, стервецы. Коней одних оставили.
Царь обошел скучившихся лошадей, около него из темноты появился Борис Годунов. Иван снова посуровел, спросил сына:
– А ружья, копья, рогатины? Где они? На охоту с голыми руками?
Царевич растерялся снова. Никто не подумал, что царь найдет их в конюшне. Молчание царевича затянулось, он не мог придумать ответа. И вдруг заговорил Годунов:
– Ну что же ты молчишь, царевич? Про вчерашнюю просьбу Федора Иваныча скажи.
– Зачем? Все одно мне батюшка ни в чем не верит. Уж и на ловитву съездил, нельзя. Доглядчиков стало мало, сам меня сторожить начал.
– Это ты напрасно, царевич,– Годунов понизил голос до шепота. – Государю-то ты понадобился для важного дела, он пришел в твою опочивальню, а тебя нет. Вот и...
– Чего вы шепчетесь? Говори, Бориско, что царевич Федор просил?
– Ты знаешь, государь, Федор Иваныч медвежьи утехи любит, а зверей при дворе не оказалось. Вот он через меня и просил живьем медведя брать. Я просьбу царевичу передал. Так что ружья на ловитве лишними будут.
– Добро, если так... Только пошто в глухих углах бражничать? Ежели собрались на охоту, так едьте! И возвращайся поспешнее. Ты мне зело нужен будешь. А впредь по конюшням со свитой своей не хоронись. Ты, чай, не заговорщик!
II
Вечером царевич возвратился с охоты усталый. Сбросил намокшие одежды, переоделся, навестил жену свою Елену, принялся неспешно ужинать. Про себя подумал: «Коль отец не позовет, так и не пойду». Не успел подумать, а посыльный уж в палате: «Велено идти к государю не мешкая».
Царевич, как ужинал, не переодеваясь, спешно устремился в царскую половину. Иван встретил сына сурово:
– Тебе что велено было? – медленно расставляя слова, проговорил царь. – Много по лесам не шататься, я к делам тебя призывал, а ты?
– День, государь, короток...
– Молчи, бездельник! Держава кровью истекает, а ты. рука моя правая, яко волк по оврагам лесным шастаешь, ловитвой тешишься. Град наш Псков в осаде задыхается, а мы зайцев ловим. Воевода Иван Петров Шуйский прискакал, я первосоветников думы позвал, а ты где?!
– Я, батюшка, в думе не состою, к ратным делам ты меня не пускаешь, зачем я тебе с первосоветниками?
– Как это зачем?! Ты видишь – я немощен, дни мои сочтены. Кому, как не тебе, престол оставлю я? И кто, какие ты, ныне знать должен, что в державе нашей происходит? Допреж чем с думой говорить, я с тобой посовето ваться хотел, а ты шти хлебаешь.
– Советов моих ты и в малых делах не приемлешь, зачем попусту время тратить? Его у тебя и так не хватает. Да и какой я советчик, если у тебя ко мне веры нет.
– Потому и нет, что ты делу моему не радеешь, наперекор ему все творишь. Сколь я не противился, а ты кого в жены взял? Олену, Шереметьева дочь. А он, Шереметьев, не первый ли супротивник мой! Ты тогда меня послушался? И коль будет она, не дай бог, царицей, она державу нашу за золотые сережки продаст.
– У тебя, государь, что ни князь, то супротивник, что ни боярин, то изменник. Не на дворовой же девке мне жениться было!
– Вот как ты заговорил! Нет, не был ты моим единомышленником и не будешь! Иди, штн свои дохлебывай. Разохотилось мне с тобой говорить, раздумалось. Иди, иди.
Царевич пожал плечами, пошел к выходу.
– Подожди. Утром на боярском совете быть непременно. И оденься по чину. А то прибежишь, как и сей раз, в рубахе, штями обляпанной...
...Сидение с первосоветниками думы началось с раннего утра. В четыре часа ночи вся слобода встала на моленье, в шесть утра защитник Пскова Иван Шуйский, глава думы Мстиславский, дядя царевича Федора Никита Юрьев, князья Богдан Вельский и Александр Нагой, оба Годуновы пришли к государю в Крестовую палату. Туда же еще раньше привели царевичей: Ивана и Федора. Ранее царь любил заставлять первосоветников ждать, но ныне появился в палате вслед за всеми. В кресло, поставленное на возвышение, не взошел, а присел на лавку около изразцовой печки. Без обычной в таких случаях торжественности сказал:
– Князь Шуйский Иван сын Петров, начинай, рассказывай. Говори подробно, ибо давно мы вестей из-под Пскова не имели.
Князь и боярин воевода Шуйский поднялся, распахнул кафтан (в палате было жарко натоплено) и начал говорить спокойно, размеренно. Он знал себе цену – царь счи тал его лучшим воеводой, недаром же поручил ему зати1у Пскова.
– Осенью минулого года, вы о сем знаете, ляхи отняли у нас Великие Луки, град Торопец и пришли под Псков У Речи Посполитой было в войсках сорок восемь тыщ ратников, осадные пушки. У нас же было—тыща конных детей боярских, две с половиной тыщи псковских и нарвских стрелков, полтыши донских казаков атамана Мишки Чер-кашенина. Местные псковские воеводы имели у себя три тыщи дворян. Ежели счесть и заверстанных холопов – у нас обретется всего восемь тыщ рати. Супротив сорока восьми тыщ ляхов. Первый приступ круля Батория длился, почитай, полсуток, но мы отбили его с честью, а Свинуз-скую башню, коюю успели занять ляхи, мы взорвали вместе с неприятелем. Ныне же мы затворили стены города накрепко и сели в осаду. Многие наскоки ляхов покамест разбиваются о стены Пскова без видимой для них пользы Но не так крепки стены, как твердость псковичей, решивших умереть в городе, но не отдать его врагу. У нас вместе с воинами сражаются и жонки псковские, и дети-подростки. Никто не щадит ни сил, ни жизни, все терпеливо переносят голод. Одначе долго последнему врагу нашему мы противиться не сможем. Задушить нас может только этот неприятель – голод. Вам судить, государь и бояре, как нам быть далее.
– А круль Баторий глад терпит ли? – спросил Борис Годунов.
– Войска его одеты по-летнему, жолнеры короля гра бят окружные села, жрать им тоже нечего. При первых же заморозках рати ляхов начнут таять.
– Стало быть, зиму вы просидеть можете?
– Государь укажет – просидим. Но лучше бы поднатужиться и снять осаду совсем.
* – Мне сие указать легко. Но у Батория в союзе ко роль шведский Юхан. Ведомо нам, что он готовит войска на Новгород, а его воевода Делагарди, вы это тоже знаете взял Нарву, Ивангород, Копорье и Ям. Если падет Новгород, то и Пскову не устоять. Тогда дорога на Москву будет открытой. А за нашей спйной три татарских орды стоят. Вот о чем подумайте, бояры.
– Надо, государь, со Стефаном Баторием мир чи-нить, – сказал боярин Никита Юрьев. – Изнемогли мы ог войн постоянных, сил мало. А е Юханом одним как-нибудь, даст бог, справимся.
– Баторий всю Ливонию к себе спросит, – заметил князь Вельский.
– Да еще в придачу четыреста тысяч злотых, – добавил Годунов. – Где их взять?
– Как же быть? – спросил царь, оглядев бояр, потом остановил взгляд на царевиче Иване.
– Злотых нам, конечно, жаль,– Иван Иваныч заговорил, глядя в пол. – А владетелей ливонских можно отдать на съедение врагу. Их нам не жалко...
– Ты, царевич, не ехидничай, ты дело говори. Как мыслишь быть нам?
– Если мы пропадем, то казна царева пропадет тоже. Надо ее пустить в дело, укрепить наши рати и послать их па Оршу и Могилев. Если силой крепость возьмем, Баторий сразу хвост прижмет и длани с горла Пскова снимет, руки князя Шуйского развяжет. Вот тогда и по Юхану ударить можно.
– Значит, войне конца не будет? – спросил Александр Нагой. – Тогда истощимся напрочь.
Начался большой спор, дума разделилась на две поло-вины. Одни говорили про передышку, про замиренье, дру* гие твердили – воевать! Царь спор этот будто не слышал. Он сидел, опустив голову, и думал. Потом поднял руку, заговорил:
– Не в том смысл нашего совета состоит – воевать или не воевать. Полного мира недруги наши нам не дадут. Я мыслю так, бояре: у Батория надо вырвать мир, а все силы бросить на Юхана. Нарвское плаванье нам выпускать из рук нельзя ни в коем разе. Без моря мы пропадем, это уж истинно.
Дума, еще поспорив мало, постановила: «А помириться бы со Стефаном королем, а короля свейского не замири-вать».
Потом спор разгорелся снова, и, вроде бы, из-за маловажного. Как писать в мирной грамоте титлы короля и паря. Стефан всегда требовал полного титла: «Король великой Польши, князь Ливонский, князь и государь Литвы, ясновельможный гетман Украины, князь Семиградский, Гданьский, государь Вифляндский, курфюрст, его величество Стефан Баторий». Если сей титл принять, то многое из царского титла придется выбросить, ибо в нем также указано княжение Ливонское, Литовское и Украинское. Ну, Гданьск, Семиградье, пес с ними, но исконные названия за что же ляху отдавать? Спорили долго, особенно горячился по сему поводу царевич Иван. Он в скором времена надеялся царствовать, а тут, мыслимо ли дело, полтитла у него отхватывают. Этому старому дураку хорошо, про воевал полгосударства, поставит подпись под грамотой и умрет. А ты ходи с усеченным титлом.
Спор этот, как и все прочие, прервал царь. Он сказал:
– Хватит языки проминать, бояре. Извечного государя, как его ни напиши, во всех землях ведают. Согласен, пишите меня без титлов, токмо «государь Вифлянский» Ба-торию писать не будем. Нарва нам самим нужна.
– Как быть, государь? – спросил Вельский. – Баторий послов наших не примет, пленит всех. Кто содейство замирению делать будет?
– Недавно был у меня монашек один от римского папы Григория, – ответил царь. – И просил тот монах стать нам рядом с Римом супротив турецкого солтана, Я ему такое согласье дал. Все равно мы с татарами да турками до конца дней русских так и так воевать не перестанем. И за это, я мыслю, папа нас со Стефаном помирит.
– А не стыдно нам будет?!—воскликнул царевич Иван. – Папа – первый враг нашей веры, не он ли все эти годы толкал Батория на наши рати? А мы будем челом ему бить, его посла обхаживать. Весь мир знает, что сия римская ехидна сказала. Мол, кнут польского короля – единственное средство, дабы вколотить в россиян святую католическую веру. А мы за это будем в рот е?^у заглядывать?!
– Ты, Ваня, не кипятись, – не поворачивая головы к Ивану, заметил царь. – Не тебе – мне покамест в рот папе придется заглядывать. Я и загляну. Ибо тот сильным государем чтется, который гордыню свою пересилить может. А твоя гордыня тебя задавила.
Царевич резко поднялся со скамьи, оглядел бояр, зашагал к двери.
– Ты куда?
– Слаб я с такими великими мужами разговаривать немощен.
– Вернись сейчас же! Я тебе велю!
Но Иван Иванович не остановился, как будто этого грозного окрика не слышал.
Бояре сокрушенно качали головами.
II!
Царевич Федор на боярском совете сидел как на иголках. Он ненавидел спорящих бояр, которые затягивали время, злился на брата, который дерзил отцу и тоже зря тратил часы. А в медвежьем загоне сидел свирепый зверь, которого изловила на охоте свита царевича Ивана, сейчас бы самая пора начать медвежью забаву – любимое, второе после благовеста, занятие Федора. Еле дождавшись конца думы, он радостно возвестил о начале забавы и пригласил бояр потешиться медведем, глядя при этом на отца вопросительно. Царь кивнул головой в знак согласим
Когда бояре вышли, Годунов сказал:
– Ты бы, государь, велел царевичу делами заниматься. Переложи часть ноши на него. И тебе будет легче, и ему польза.
– Что он может? Ест, спит, по саду ходит, птичек божьих слушает, в колокола трезвонит. Теперь вот потеха. Нет, государя из него не будет. А жаль.
– А кто его государственным делам учит, – сказал партий Годунов. – Балуешь ты его, Иван Васильевич, ой, балуешь. Ему двадцать четвертый год пошел, ты в эго время Казань покорил, сколько дел великих сделал, а он все одно что дитя малое. Пусть не наследник ои, но царский сын. Ему ли по колокольням лазить? Впрягай в дела его, государь.
– Придумай что-нибудь для него, Митрей. Только умом и духом он слаб, ведь не умеет ничего.
– Чтобы быть опорой тебе, государь, не столь ум важен, сколь верность, – заметил Борис. – Делам научить можно, а верности государю не будет – нигде ее не возь мешь. У царевича Федора, не в пример старшему брату его, верность государю собачья. Это надо ценить.
– Погоди, Бориско,– Иван Васильевич прикрыл дверь в палату. – Скажи, пошто ты у конюшни соврал мне?
– Почему ж, государь. Медведя и всамделе живьем взяли.
– По нужде. А утром царевич на охоту ехать и не думал. Тебе-то какая корысть выгораживать его? Ты спишь и видишь в наследниках деверя твоего.
– Мне с обоими твоими сынами в дружбе жить надлежит. Я им обоим и радею. А кого бог наследником укя жет... Ты.еще долго у кормила державы простоишь. Всякое может быть.
– Увертлив ты, Бориско, хитер. Одобряю тебя. Дружи с Иваном, узнавай замыслы его. Не зря же он с Масальским и Милославским по конюшням хоронится.
– Попытаюсь, государь.
Царевич Иван медвежью потеху смотреть не стал. Он ушел на свою половину, велел подавать обед■в горницу, жены. Елена ходила последние дни, из своей опочивальни выходила редко, и виделись они мало.
В горнице натоплено жарко. Елена, располневшая, бе-* лотелая, лежала на рундуке, застланном овчиной. Широкое льняное полотно, покрывавшее жену, сбито к ногам, свисает на пол. Руки разметались по подушкам. Царевич подошел к Елене, осторожно коснулся рукой горки живота. Она встрепенулась, села, одергивая рубашку, прикрыла беремя.
– Встань, Оленушка. Обедать пора, – ласково сказал царевич, подавая жене руку. Она оперлась на его ладонь, поднялась, радуясь нежданному появлению мужа.
– Прости, не одетая я, не чесана, не убрана. Ко сну клонит все время, дышать тяжело.
– Топить бы надо поменьше. Взопрел я совсем,—Иван бросил на скамейку кафтан, расстегнул ворот рубашки.
– Озябну ведь. Сынка нашего берегу. Бойкой парнишка будет. Ножками в живот то и дело толкается.
Пока слуги вносили яства а Елена прибиралась за парчовым занавесом, Иван вспомнил Годунова. Почему он защитил его на конюшне? От доброты? От хитрости? Ему бы ссорить их с отцом выгоднее. Поразмыслив, царевич решил, что тут и не доброта, и не хитрость. Просто умный Борис понимает, что надежды на то, чтобы сделать наслед-
ником Федора, у него нет, царем тому не быть. А он, Иван, будущий государь, и злобить его Годуновым невыгодно.
– Что бояре порешили? – спросила Елена, когда они сели за стол.
– Ничего порешить они не могут. Спорили до хрипоты, а как он сказал, так и стало.
– Хоть бы подох скорее.
– Не надо так говорить, Оленушка. Тут и у стен уши.
– Боюсь я его. Не за себя, за дитя своего будущего боюсь. Придушит он его. Еще в зыбке придушит.
– Федька бояр медведя травить повел, там будет пир, – Ивану говорить о жестокости отца не хотелось. – Я на тот пир не пойду.
– Что так? Снова ведь огневается.
– Пусть его. Надоело мне все.
– Вызовет все одно.
– А я спрячусь. Видеть егсг не могу.
Над дворцом тихо плавилась похмельная ночь. Рассеивалась неторопко за холмами тьма, кромка леса чуть засветлела. Пир у царя продолжался далеко за полночь, наконец, все утихло. Бояре, упившись, уснули: кто на лавках, кто под столом, а старый Никита князь Юрьев – так тот уснул прямо за столом, уткнув клин бородки в ковшик с романеей. Царь от чрезмерного пития воздержался – болела печень. Он оставил бояр одних, удалился на покой. Но сон не приходил. В тишине раздражение, копившееся в нем весь день и вечер, стало возрастать, рвалось наружу. Вспомнился насмешливый голос царевича: «А стыдно нам не будет, бояре?», вспомнил глухой стук, когда Иван хлопнул дверью. Ну, на медведя не глядел, бог с ним, ему он, наверно, на охоте надоел, но на пир почему не пришел? Зван ведь был, потом зван вторично. Нарочно Годунова посылали. Не пришел, погнушался. Вспомнил царь, как испугались молодые на конюшне. Конечно же, ради заговора уединились, мерзавцы! Родной сын, кровь от крови, плоть от плоти, а сколь Иван помнит, все сын ему супе-речил, все шел наперекор. Да и первый ли это заговор? Ведь не зря покойный Малюта доносил не единожды, что сын изменял ему. Только бояре спасли, заступились. Может, потому и защитили, что сами рядом с изменой стояли, боялись, что юный царевич выдаст их при пытке. Вот и теперь снова крутятся около него Масальские, Милослав-ские и иные желатели смерти государевой. Что они говорили на конюшне? Может, убить его удумали, задушить?
Царь вскочил с постели, торопливо стал одеваться Разгоряченный хмелем ум рисовал ему страшные картины.
2 Царев город
33
Может, спит он, государь, после хмельного пира, а злодеи снова где-то по-за углам собираются, копятся, и не успеешь глазом моргнуть – ворвутся, набросятся... Надо узнать, почему не было царевича на пиру, дома ли он? Может, снова в ночи заговор творит.
Скрипнула дверь в сени, Годунов уже тут как тут. Царь на ходу застегивал пуговицы ферязи, шагал по переходам, гулко скрипели половицы. Глянув через плечо на постельничего, Иван прохрипел:
– Не ходи за мной, шуму много делаем. Спят все.
Борис поотстал немного, потом на носках двинулся за
царем. Иван поднялся по лестнице, тихо подошел к опочивальне царевича, постоял около двери, послушал. Осторожно приоткрыл дверь, в опочивальне тихо. Сделал несколько шагов к кровати, вытянул шею, напрягая зрение. В тусклом предрассветном сумраке разглядел пустую, застланную парчовым покрывалом, кровать. Сына не было. «Может, у жены ночует? – вспыхнуло в мозгу. – На сносях она у него. Бережет, поди». Опочивальня Елены была в левом крыле дворца, царь решительно двинулся туда. Поодаль, как тень, двигался Борис.
Через чуть приоткрытую дверь из опочивальни царицы пробивалась полоска света. Царь остановился, приник ухом к двери. Внутри раздавались глухие голоса – здесь не спали. Разговаривали двое. В иное время царь зайти в женскую опочивальню ночью не решился бы, но один гф-лос был грубый, вроде бы мужской. «Значит, царевич у жены, я правду подумал», – мелькнуло в голове Ивана, и он решительно толкнул дверь. Увидев его, Елена коротко взвизгнула, заметалась по комнате. В опочивальне было жарче, чем днем, и сноха одета была в одну нижнюю рубаху, легкую и короткую. Подол рубашки спереди вздернулся на округлую горку живота и совсем обнажил ноги Елены.
Повивальная бабка Марфута загородила сноху своим грузным корпусом, басовито и грубо сказала:
– Ты-то, государь, пошто сюда влез? Аль не видишь, мы рожать собираемся.








