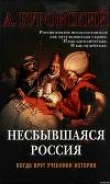Текст книги "Интервью длиною в годы: по материалам офлайн-интервью"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
Соавторы: Светлана Бондаренко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
Ольга. Нижний Новгород, Россия – 25.08.03
Обычный читатель просто читает, снимая верхний слой смысла и сюжета, – с тем же (примерно) чувством и с тем же удовольствием, которое получают от разговора с бывалым человеком и хорошим рассказчиком. Квалифицированный же читатель – наслаждается текстом (и подтекстом), выискивает скрытые смыслы, находя радость и в новом открытии для себя текста и в повторении уже известного (когда радует уже не только ЧТО сказано, но и КАК тоже). Поэтому любовь к перечитыванию верный признак квалифицированного читателя, хотя и несколько формальный, я согласен. К писателю это определение не относится. Просто писатель, которого любят квалифицированные читатели, имеет (по-моему) больше оснований гордиться собой, чем тот, которого жадно проглатывают и откладывают в сторону, навсегда.
Ваше отношение к книгам с продолжениями, т. е. к сериалам. Не кажется ли Вам, что после третьей книжки, как правило, появляется вымученность и некая зажатость? Исключения очень редки. Как Вы думаете, из-за чего это происходит?
Александр Шелудько. Кондрово, Россия – 29.06.03
Я могу опираться только на личный опыт. Каждый раз, когда задумывается и пишется новая вещь, автор стремится (сознательно или бессознательно) выложить по заданной теме ВСЕ, что есть у него в душе и в мыслях. Поэтому, работая с продолжением, он, как правило, сталкивается с нехваткой материала, – он чувствует себя (по отношению к данной теме-идее) как бы «исписавшимся», ему нечего больше сказать и ему неинтересно об этом думать. В этом, я полагаю, основная причина «засушенности» почти всех продолжений. Хотя существуют (как всегда это бывает) и исключения: трилогия Дюма, например. Или «Петр Первый» Толстого. Впрочем, такие исключения только подтверждают правило: значит, все, что знает, думает и чувствует по поводу заданной темы автор, ему не удалось вложить в «первый том».
Как Вы можете объяснить то, что люди, которые Вам неприятны, с которыми бьются Ваши герои, зачастую сами готовы вознести Вас на пьедестал, утверждая, что полдень XXII века начнется лишь тогда, когда вырежут всех «неправильных»?
Юрий Акопов. Таганрог, Россия – 20.06.02
Я давно уже перестал удивляться такого рода «противоречиям». Это происходит потому, что каждому читателю свойственно видеть (любое) литературное произведение своими собственными глазами, и взгляд этот может очень сильно отличаться от авторского. Это ведь, как правило, очень разные люди: читатель и автор. То, что автор полагает в своем произведения главным, может казаться читателю совершенно второстепенным. И наоборот. Например, я долгое время считал Сомса Форсайта фигурой пренеприятной, пока не повзрослел достаточно, чтобы увидеть его объемно и «во всей красе».
Очень часто автор(ы) отмежевываются от поступков своего героя. А где же авторская позиция?! Обидно за героев!!! И где, по-Вашему, вообще проходит эта самая граница, за которой автор(ы) вправе сказать: «Это не мы – это все он!»?
Игорь. Москва, Россия – 10.04.01
Я даже постановки вопроса не понимаю. Но ответить попробую. Практически всегда – автор отдельно, герой отдельно. Эти личности пересекаются крайне редко, – когда автор берет себя в качестве прототипа своего героя или вообще пишет свой «автопортрет». Разумеется, в каждом отдельном случае автор может сочувствовать своему герою, а может, наоборот, относиться к нему с осуждением. Но всегда герой действует в соответствии со СВОИМ характером (а не с характером автора), и в этом смысле автор, естественно, не несет ответственности за своего героя. И не может нести по определению! Как мы можем отвечать за поступки Странника – холодного профессионала, политика, интригана и убийцы, – если сами не только прогрессорами не являемся, но и никогда не смогли бы ими стать, если бы даже захотели? И что это вообще означает: «автор несет ответственность за поступки своего героя»? Как это практически должно выглядеть? Достоевский должен отдать себя в руки правосудия за преступления своего Раскольникова? Не понимаю.
У меня все сильнее создается ощущение, что хорошая русская литература рождается почти исключительно под давлением. Впрочем, это имеет отношение ко всей русской культуре. А как считаете Вы?
Kirill. Днепропетровск, Украина – 22.05.99
Вы имеете в виду политическое давление? Тогда это не верно. Если же подразумевается давление в самом широком смысле слова (недовольство окружающей действительностью, недовольство собой), то это характерно для любой культуры любой страны.
Перестройка: коммерческая литература, коммерческая музыка… По Вашему мнению, изменилась ли пропорция «торговцев псиной» в литературе и в какую сторону (по отношению ко временам СССР)?
Владимир Кузьминых. Пермь, Россия – 10.03.05
По-моему, эта пропорция не меняется ни со временем, ни с изменением общественного строя. Девяносто процентов. В полном соответствии с Законом Старджона. Только раньше торговцы псиной старались угодить в первую очередь начальству, а теперь – угождают массовому литературному вкусу.
Хотелось бы узнать, как Вы относитесь к преподаванию литературы в школе.
Александр. Томск, Россия – 02.07.00
Я уже писал не раз (в том числе, кажется, и здесь тоже), что ЕДИНСТВЕННАЯ задача, которая должна стоять перед преподавателем литературы в школе, это – приучить подростка к чтению, доказать ему, что читать ИНТЕРЕСНО, что это замечательное занятие, дающее, кроме всего прочего, МАССУ УДОВОЛЬСТВИЯ. Если эту задачу решить, все остальное (понимание прочитанного, литературный вкус, умение и желание обсуждать прочитанное) возникнет уже как бы само собою. К сожалению, все наши методики построены по образцам 18-затертого года и ничего, кроме естественного отвращения к книге, у школьника вызвать не способны. Я спас (для себя) Льва Толстого только потому, что успел прочитать «Войну и мир» ДО того, как мы его начали «проходить». А вот Тургенева спасти не удалось, и я до сих пор люблю у него только «Накануне» (успел прочитать ДО), а «Отцы и дети» так у меня и «не пошли» – а ведь в высшей степени достойная книга!
А как Вы относитесь к использованию «ненормативной лексики» в литературе?
Аскар Рахимбердиев. Москва, Россия – 09.12.98
Спокойно. Все хорошо в меру. Легко представить себе ситуацию в художественном произведении, когда ненормативная лексика не вызывает ничего, кроме брезгливого недоумения. И еще легче представить себе ситуацию, когда замена ненормативной лексики на нормативную воспринимается как убогое ханжество и необратимое разрушение достоверности текста.
Что Вы вкладываете в термин «фантастика» как литературное произведение?
Игорь Комлев. Любек, Германия – 07.07.00
Фантастическим я называю любое художественное произведение, автор которого в качестве сюжетообразующего приема использует введение элемента необычайного, невозможного, невероятного.
Я знаю, в последнее время Вы пытаетесь расширить рамки фантастики за счет пограничных жанров. Об этом свидетельствуют вручаемые Вами премии, в частности, Бронзовая улитка. Как Вы относитесь к реализму? Считаете ли Вы, что слияние этих двух жанров (реализма и фантастики) произойдет, и что следует к этому стремиться?
Алексей Мась. Киев, Украина – 26.06.98
Всю свою сознательную жизнь АБС стремились доказать – на практике – что настоящая литература возникает именно на стыке реализма и фантастики. Собственно, доказывать это было смешно – при наличии Уэллса, Кафки, Чапека, Алексея Толстого, Булгакова, Гоголя, По, Свифта, Воннегута, Апдайка и многих, многих других, которые этот тезис доказали самим фактом своего блистательного существования в литературе. Однако в конце 50-х и в начале 60-х сама мысль о существовании реалистической фантастики или фантастического реализма смотрелась дико и была абсолютно недоступна подавляющему большинству практикующих писателей, литкритиков и редакторов. Сейчас положение дел несколько улучшилось – фантастику Кабакова, Пелевина, Маканина принимают на ура, но убеждение в том, что «фантастика отдельно, реализм – отдельно» по-прежнему превалирует. Увы.
Один мой знакомый, увидев, что я читаю фантастику, сказал, что нужно жить реальностью. Интересно знать, что бы Вы ему ответили?
Сергей С. Пермь, Россия – 18.08.00
Я бы сказан ему: «Если под „реальностью“ ты понимаешь окружающий тебя быт и ничего кроме быта, то читать не нужно вовсе. Тогда тебе нужны только справочники, словари и учебники. Если же в понятие реальности включается весь мир вместе с разнообразием мировоззрений, философией, нравственностью, вместе с необходимостью для души „трудиться и день и ночь, и день и ночь“, – тогда без художественной литературы (а также без искусства вообще) никак не обойтись, а фантастика это лишь вид художественной литературы и не более (но и не менее) того».
В своих интервью Вы не раз негативно отзывались о фэнтези и чисто научной фантастике как о тупиковых и исключительно эскапистских направлениях литературы. Но ведь антураж (магический или научный) – это всего лишь антураж, и форма вовсе не определяет содержание книги. Какие, на Ваш взгляд, направления в современной фантастике наиболее перспективны и получат наибольшее развитие в будущем?
Антон Фарб. Житомир, Украина – 28.08.98
Научная фантастика трактует проблемы взаимодействия Человека и Вселенной, в самом широком смысле этих понятий. Эти проблемы интересны и важны, хотя в связи со всеобщим разочарованием в возможностях науки внимание читательской публики к ним сегодня явно пошло на убыль – в сравнении с началом XX века, например. Фэнтези – это современная авторская сказка (в отличие от народной, фольклорной). И НФ и фэнтези имеют свои блистательные достижения и вершины – «Непобедимый» Лема, «Штамм „Андромеда“» Крайтона, сказки Е. Шварца, «31 июля» Пристли, сам Толкиен, наконец. Но в массе своей обе эти разновидности фантастики представляются мне малоинтересными: НФ – утратила свою изначальную свежесть и своеобычность, а фэнтези превратилась фактически в духовный наркотик – средство уйти из реальной жизни в несуществующие и невозможные миры. Будущее, на мой взгляд, за «реалистической фантастикой», описывающей реальный мир, лишь искаженный фантастическим допущением. Эта литература сочетает в себе остроту сюжета, могучую игру воображения и жесткое сцепление с реальностью, без которого, по-моему, художественная литература (то есть рассказ о судьбе человека среди людей) не может существовать по определению.
Вы ответили, что не любите Фэнтези. Есть ли у этой нелюбви какие-то объективные причины или это просто ваши личные вкусы?
Виталий. Астрахань, Россия – 09.02.00
Фэнтези (на 95 %) это типично эскапистская литература – приглашение в несуществующие миры, где можно «забыться и заснуть», «подальше от нашей земли». Для меня же самое ценное, что есть в книге, это именно сцепление с реальностью, злободневность, если угодно, даже – конъюнктурность. «Здесь и сейчас» – вот что самое интересное в литературе, на мой взгляд. Какое мне дело до выдуманных людей, занятых решением выдуманных проблем в мире, который не существует и существовать не может? Впрочем, повторяю, существует некоторый процент фэнтези, которые эту свою отстраненность и вневременность преодолевают, и тогда – книга становится моей (почти весь Евгений Шварц, многое у Пристли и Саймака). В конце концов, фэнтези это же просто «современная» (авторская) сказка. А сказка когда хороша? Когда «сказка – ложь, да в ней намек, добру молодцу урок».
Вы неоднократно говорили, что не любите фэнтези за эскейпизм, уход от проблем «настоящего» мира и «настоящих» людей. Но ведь фэнтези тоже бывает разная. Скажем, «Многорукий бог далайна» Логинова, или «Пещера» и «Ведьмин век» Дяченок. В этих книгах «фэнтезийность» тоже только фон, позволяющий более ярко подать проблему вполне реальную. А с другой стороны, и «чистая» фантастика имеет массу примеров фактического эскейпизма
Андрей Быстрицкий. Quebec, Canada – 16.02.00
Не хотелось бы начинать терминологический спор. По моим понятиям, все названные Вами выше произведения вовсе не являются фэнтези. Фэнтези это сказка, а сказка отличается от прочих фантастических произведений прежде всего тем, что элемент необычайного в ней не требует объяснений, – ни научных, ни даже псевдонаучных. «Чудо» в сказке просто существует, как данность, и никому в голову не придет спрашивать: «А почему Кощей – бессмертный? А что это такое – „ведьма“? А почему Дюймовочка такая маленькая, и как у нее организован обмен веществ при таком-то невыгодном соотношении „объем-поверхность“?» В остальном я с Вами вполне согласен: более чем достаточно существует вполне «реалистичных» фэнтези («Мастер и Маргарита», например – чем не фэнтези?), и, к сожалению, более чем достаточно совершенно эскапистской «жесткой» фантастики – это, как правило, просто плохая фантастика.
В целом современные премии в области фантастики даются справедливо или нынешние призеры их (премий) недостойны?
Пошелюжин А. Барнаул, Россия – 03.09.03
Я не помню ни одного случая, когда премии доставались бы «недостойным». Не САМЫМ достойным – это, на мой взгляд, да, бывало.
Как Вы вообще относитесь к многочисленным литературным премиям? Забава ли это взрослых дяденек или нечто, напоминающее гамбургский счет?
Александр. Жлобин, Белоруссия – 27.03.03
Я считаю, что премий должно быть много и самых разных. Работа у писателей – тяжелая, одинокая, как правило, беспросветная. Кроме того, как известно, «…пораженье от победы ты сам не должен отличать». И как правило, не отличаешь. А тут вдруг – премия. Приз читательских симпатий. Обратная связь с читателем в самой приятной для писателя форме. Какая радость! Какой прилив положительных эмоций! Какой приток энергии и новых сил!.. Нет-нет, я за премии. Пусть их будет много, хороших и разных.
Что делать со всеобщей тотальной девальвацией русского языка? У МЕНЯ ВОЛОСЫ ДЫБОМ ВСТАЮТ от всего этого безграмотного фонтана по FM-радио, телевидению. Вокруг меня – люди с высшим образованием. Они не могут элементарного делового письма написать ПО-РУССКИ. Что уж говорить о настоящем, выразительном, красочном, содержательном, «ядреном» – «ВЕЛИКОМ и могучем». Где он в нашей жизни? Вернется ли он?
Вишин Андрей Юрьевич. Казань, Россия – 07.04.01
Великий и Могучий никуда не делся – вон он стоит на полках, готовый к немедленному употреблению. И полки эти ежегодно пополняются – не успеваешь читать. А то, что народ в массе своей малограмотен и убогоязычен, так он и всегда таким был, не надо делать из этого обстоятельства апокалиптических выводов. Язык – это такая штука… Он НИКОГДА не становится беднее со временем – только БОГАЧЕ. И он всегда в твоем распоряжении, всегда доступен и безотказен, – было бы желание. А что желания маловато, так его всегда было маловато, а во времена Александр Сергеевича так и просто ничтожно мало. Сейчас, по крайней мере, все поголовно грамотные, и на том уже спасибо.
Недавно мне стало известно, что готовится проект реформы русского правописания Орфографической комиссией при Отделении литературы и языка Академии наук, который после принятия примет силу закона. Не могли бы Вы, пользуясь Вашим несомненным авторитетом, как-то повлиять на этот ужасный процесс с целью его остановки? Ведь бюрократы от образования способны вовсе разрушить несчастные остатки того, что имелось в нашей стране!
Алексей Попович. Россия – 26.06.01
Если эта реформа состоится, она будет не то вторая, не то даже третья реформа орфографии, которую доведется мне пережить. Как видите, ничего страшного со мной (и моими одногодками) не случилось. Правда, в результате я, человек, скорее, грамотный, окончательно запутался, как надо писать «панцирь» и «цирюльник», а также всякие «повидимому-попрежнему», но в остальном – все обошлось вполне благополучно. Привыкли же наши отцы-матери (ваши деды-прадеды) обходиться без ятя в слове «бес» и без ера на конце слова «министр». Хотя, по слухам, Блок тогда ужасно возмущался: как можно писать «лес» без ятя? Это уже не лес получается на бумаге, а черт те что. (Разумеется, он выражал эту свою мысль гораздо изящнее и сильнее.) Так что не будем паниковать. Я подозреваю, что и надвигающаяся реформа ничего существенного в культуре нашей не изменит. Пройдет десяток лет, и чудовищное буквосочетание «брошура» (за которое в мое время можно было немедленно схлопотать пару по русскому) станет таким же привычным и обычным, как слово «нового» (вместо изысканного «новаго» позапрошлого века). Главное, чтобы в новых правилах было как можно меньше исключений, и они были бы по возможности просты – и тогда все школяры следующего поколения восславят реформаторов в своих молитвах.
Советы молодым авторам
Какой жанр в литературе, по Вашему мнению, наиболее перспективен сегодня для начинающего писателя? Фантастика ли?
Сергей Палий. Самара, Россия – 25.12.99
А какую цель преследует этот «начинающий»? Если «срубить капусту по-быстрому», то лучше всего «дамский роман» или детектив с эротическими сценами. Если же он хочет «выразить себя» самым эффективным образом, то тут все как и прежде, как было всегда, как всегда будет: ищи в себе искру божью и не дай ей погаснуть, а уж какой у тебя при этом образуется жанр – дело десятое.
Писателем рождаются или становятся, и в чем же заключается талант?
Владимир. Владивосток, Россия – 18.08.00
Писателем вообще-то скорее становятся. Нос «божьей искрой» все-таки надобно родиться. Как есть на свете люди (сколько угодно людей), которые не способны стать приличными спортсменами, точно также существуют потенциальные «неписатели», которым «бог не дал» – из таких не получается ничего – в лучшем случае, или безнадежные графоманы – в худшем.
Как по-вашему: начинающий писатель должен быть заранее уверен в своих силах и иметь приличное самомнение или же наоборот – быть как бы поскромнее?
Максим. Москва, Россия – 24.06.00
Писатель должен быть терпелив, трудолюбив и самоотвержен. Самое главное: он должен быть талантлив. Все прочее – вторично и несущественно.
Как отличить писателя от графомана? Как понять, что ты писатель, а не графоман? Писать как можно больше в надежде на качественный рывок?
Семен Платонов. Донецк, Украина – 20.09.03
Грань между графоманом и (плохим) писателем очень зыбка и неопределенна. Важнейшие признаки графомана: ему очень нравится все то, что он делает, и он получает огромное удовольствие от самого процесса писания. Такое случается, конечно, и с настоящими писателями, но у них это – редкость, исключительное состояние, а у графомана – постоянный признак. Что же касается оценки текста, то это дело еще более неоднозначное и неопределенное. Строго говоря, главным судьей качества литературы выступает история: если текст находит своего (достаточно многочисленного) читателя и через 100 лет, значит это литература. Если нет, – ничего не значит. Просто это «не гениально», но, вполне может быть, хорошо или даже отлично – для своего времени (но не для будущего). Так что практически «ты сам свой высший суд» – ты (автор), твои друзья и любой читатель, суждения которого о литературе ты уважаешь. Очень расплывчатые критерии, согласен, но других-то нет!
Есть желание заняться творчеством, но страшно, что бы Вы посоветовали?
Алексей. Россия – 21.12.03
Преодолеть страх и попробовать. «Лучший способ преодолеть искушение – это поддаться ему».
Я хочу писать. Совсем не обязательно фантастику. У меня, по отзывам знакомых, хороший язык. В голове вертятся несколько сюжетных задумок. Но вот когда я сажусь перед монитором – я не могу «выжать» из себя ни строчки. Как же начать?
Денис Михайлов. Москва, Россия – 31.05.05
Это – самое трудное. Тут главное, – преодолеть первые полторы страницы. Потом пойдет заметно легче. А вообще есть даже специальный термин: «ужас перед чистым листом бумаги». Многие делают так: пишут все, что в голову взбредет, любую чушь, не контролируя себя. А потом, когда дело пойдет на лад, первые страницы отправляют в корзину.
Не поздно ли пытаться стать «молодым автором» в моем возрасте (мне сейчас 31 год)?
Денис Михайлов. Москва, Россия – 31.05.05
Это – как стать отцом: если есть здоровье и желание, – не поздно.
Может быть, стоит попробовать найти соавтора?
Денис Михайлов. Москва, Россия – 31.05.05
Попробуйте. Затея, не хуже любой другой. Но ужас перед чистым листом при этом никуда не исчезнет. Просто испытывать его вы будете вдвоем.
Может быть, у меня одна из форм графомании?
Денис Михайлов. Москва, Россия – 31.05.05
Не исключено. Но пока не попробуете, нипочем не узнаете.
Что, по-вашему, важнее в произведении: «интересный» язык произведения или оригинальная проблематика?
Игорь. Красноярск, Россия – 08.03.03
Это все равно что спрашивать: что в золотом червонце важнее – аверс или реверс? А в воде – кислород или водород? Произведение есть ЕДИНСТВО формы и содержания. Сплав. Химическое соединение. Если повредишь коленку, не нога будет хромать – человек будет хромать. Если хромает форма, – произведение хромает. То же и с содержанием. На какую ногу лучше хромать – на левую или на правую?
Существует ли у Вас технология генерации ИДЕИ, из которой впоследствии можно создать интересное произведение? И если таковая технология есть, может, приоткроете парочку секретов?
Александр. Электросталь, Россия – 24.09.03
Нет у меня такой технологии, и никогда не было. Думать, думать, думать, обговаривать придуманное, снова думать, перебирать сюжеты, снова, снова и снова… И в конце концов, обязательно что-нибудь выскочит из небытия. Во всяком случае, так было раньше, на протяжении 50 лет.
Стоит, по-Вашему, мучиться над названием произведения?
Игорь Галицкий. Красноярск, Россия – 17.09.05
«Мучиться» надо над тем, что мучает. Не удовлетворяет вас название – мучьтесь над названием. Удовлетворяет – ну и ладненько.
Не кажется ли Вам, что иногда автору произведения следует пожертвовать толикой излишнего динамизма, грубо говоря, сделать произведение чуть менее захватывающим, чтобы дать читателю «остановиться и осмотреться», «поймать мысль»?
Дмитрий. Москва, Россия – 15.08.00
Это вопрос вкуса. Главное, что остается после прочтения. Если остается заряд мыслей – отлично, если только эмоциональный заряд – тоже недурно. Плохо, если ничего не остается. Автор должен ОШАРАШИТЬ читателя. А какими средствами он этого достиг – его дело.
Как по-Вашему, насколько оправдан, и, кстати, насколько избит прием, когда повествование ведется попеременно то от третьего, то от первого лица?
Антон. Питер, Россия – 11.02.01
Этот прием вполне оправдан и, разумеется, не нов. Но говорить о его «избитости» мне кажется несколько странным. Можно ли считать избитым употребление местоимения «он»? Или существительного «потолок»? Или глагола «сказать»?
Не могли бы Вы, как один из лучших писателей нашего времени, дать советы всем начинающим писателям в плане тренировки хорошего стиля?
Максим Поляков. Москва, Россия – 05.03.01
Откровенно говоря, есть только два приема совершенствования стиля (if any). Первое: читать много книг хороших стилистов (стиль коих вам нравится). Второе: много писать, варьируя разные манеры и каждый раз стараясь написать по-новому. Ничего третьего я придумать не в силах. В «полезные статьи и книги» я не верю сам и Вам не советую.
Посоветуйте, как научиться писать таким образом, чтобы потом не было противно самому читать свои же произведения.
Артем. Россия – 13.03.01
Есть только один способ – «метод проб и ошибок». Писать много, писать часто и все тексты доводить до конца. Не нравится собственная манера – подражайте тому, кто Вам нравится. Не бойтесь подражать: если толк из Вас вообще выйдет, то со временем налет подражательности исчезнет и останетесь Вы, в чистом виде.
Каково Ваше отношение к плагиату, не к явному, грубому, а мягкому, с легкой, например, схожестью сюжетных линий, с типажом героев и т. д. И почему существует такое известное, уже заранее негативное мнение о писателях, якобы повторяющих что-то ранее уже написанное.
Сергей Пугачев. Muelheim a. d. Ruhr, Deutschland —11.07.00
Вы так формулируете вопрос, что говорить уже следует, наверное, не о плагиате, а о «подражании», «следовании канонам», «творческом использовании стилистических приемов» и т. д. Тут масса градаций, причем в большинстве случаев ничего дурного не происходит. Особенно если речь идет о писателе молодом и о первых его опусах. В конце концов, великий Гоголь подражал каким-то бледным немецким романтикам, Хемингуэй – ныне забытой Гертруде Стайн, а первые рассказы Уэллса – калька с Жюля Верна. У настоящего писателя это обязательно проходит со временем и никогда более не возвращается. Поэтому я определил бы собственно плагиат, как буквальное переписывание чужого текста. Все прочее – вполне простительно, а зачастую даже – полезно.
Где-то я читал о каком-то особом литературном приеме, который использовал Хемингуэй. И Вы, кажется, в одном интервью говорили, что на примере одной из его книг (По ком звонит колокол?) учились этому приему. Прием айсберга?..
Антон. Питер, Россия – 28.03.01
«Теория айсберга» – это довольно простая вещь. В одной из своих статей Хемингуэй сформулировал эту теорию примерно так. Никогда не надо описывать всё, что ты знаешь по поводу происходящего в романе. Сам ты, разумеется, должен знать ВСЁ, но читатель из этого должен видеть лишь небольшую часть, самую только верхушку айсберга («девять десятых айсберга скрыты под водой»), и по этой верхушке почувствовать и понять все, что осталось от него, читателя, скрыто. Это один из основных литературных принципов Хема: недоговоренность, недосказанность, уход в подтекст. Никогда не надо подробно объяснять и разжевывать читателю всё, что касается переживаний и чувств героев: недосказанность производит гораздо большее впечатление, нежели самые подробные описания и разъяснения. В качестве иллюстрации рекомендую Вам прочитать (или перечитать) рассказы «Белые слоны» и «Трехдневная непогода».
Какие три полезных и какие три вредных совета Вы могли бы дать начинающему писателю?
Евгений. Кемпендяй, Россия – 11.02.01
Не мудрствуя лукаво, просто процитирую собственные «Комментарии к пройденному»:
НАДО БЫТЬ ОПТИМИСТОМ. Как бы ПЛОХО ни написали вы свою повесть, у нее обязательно найдутся читатели – многие тысячи читателей, которые сочтут эту повесть без малого шедевром.
В то же время НАДО БЫТЬ СКЕПТИКОМ. Как бы ХОРОШО вы ни написали свою повесть, обязательно найдутся читатели, многие тысячи читателей, которые будут искренне полагать, что у вас получилось сущее барахло.
И, наконец, НАДО БЫТЬ ПРОСТО РЕАЛИСТОМ. Как бы ХОРОШО, как бы ПЛОХО ни написали вы вашу повесть, всегда обнаружатся миллионы людей, которые останутся к ней совершенно равнодушны, им будет попросту безразлично – написали вы ее или даже не начинали вовсе.
Три вредные совета получаются обыкновенной инверсией полезных.
В одной из Ваших статей я прочитал следующее: «Да мне просто нравится возиться с молодыми ребятами. Многие из них талантливы, и хотя я прекрасно понимаю, что научить писать никого нельзя, но помочь чем-то хочется, хотя бы избавить от повторения самых традиционных ошибок». Не могли бы Вы дать, хоть и неполный, перечень этих традиционных ошибок?
Максим Вашкевич. Россия – 29.06.03
Боюсь, Вы будете разочарованы. Это все – довольно банальные вещи. Например, не надо начинать литературную работу с романов. Начинайте с рассказов. Не стремитесь наворачивать фантастику на фантастику. В произведении желательно всего одно фантастическое допущение – все остальное должно быть абсолютно реалистично. Пишите только о том, что хорошо знаете, или о том, чего не знает никто… И так далее.
Как продвинуть свою рукопись к издателю – к читателю? Не могли бы Вы коротко изложить порядок действий писателя, имеющего рукопись на руках.
Александр. Гродно, Беларусь – 08.02.00
Прежде всего – размножьте рукопись. На руках надо всегда иметь минимум один (исходный) экземпляр. Лучше – два, на всякий случай. Если в Вашем городе есть журнал или издательство, выпускающие фантастику, пойдите туда и отнесите один экземпляр рукописи (обязательно ПЕРВЫЙ, если Вы размножаете текст на машинке). Отдайте рукопись ответственному секретарю или просто секретарю редакции вместе со своими данными (адрес, ФИО, телефон). Секретарь скажет Вам, сколько времени надо ждать ответа. Дальше все зависит от Вашей удачи (в первую очередь) и от Вашего таланта (во вторую).
Аналогично можно действовать, посылая свои рукописи в журналы и издательства в других городах (обязательно заказной бандеролью и с уведомлением о вручении).
Самый эффективный путь – действовать через знакомых писателей или издателей, да только где их взять начинающему?
Кому, как не Вам, знать, что для стимула любого писателя необходимо простое решение – поддержать его и, быть может, напечатать. В этом случае появится стимул к работе. А получается напротив – многие таланты у нас попросту закапываются в землю, без права на прорастание. Получается, что некоторые правы, говоря, что Россия – кладбище талантов. Так будет ли когда-нибудь видна окраина этого сумрачного кладбища или?..
Павел Гросс. Ленинград, Россия – 22.05.00
Вы знаете, нет, это не так. Я варюсь в литературном котле вот уже 45 лет, и что-то не припомню ни одного случая, чтобы действительно талантливый человек не пробился бы в печать. НИ ОДНОГО. Даже в страшненькие 70-е, когда шансы бездарного конъюнктурщика были в 10–20 раз выше, чем шансы человека со вкусом и талантом. Талантливому было невероятно трудно, он мучался, проклинал судьбу, проклинал чиновников от литературы (как сейчас проклинают толстосумов-коммерсантов), но продолжал писать и – рано или поздно – выбивался «в люди». Просто кроме таланта писатель должен обладать еще и нечеловеческим упорством и терпением, а если этими качествами он не обладает, то не писатель он, а слабак, и нечего ему было браться за перо. Писать – трудно, пробиваться в печать – еще труднее, но кто тебе сказал, что будет легко? «В поте лица своего будешь есть хлеб свой» – это не только про пахарей сказано было.
Насколько велик посыл «издаваться любой ценой»?
Лев. Москва, Россия – 31.05.05
Ну, насколько я понимаю, у разных авторов это было по-разному. У некоторых (многих и многих) этот посыл вообще превалировал. Как правило, правда, это были люди бесталанные. Талантливые же зачастую исповедовали известный принцип: «продаваться надо легко и дорого».
О прочитанных книгах – хороших и разных
При всем уважении к Вам, неужели Вы действительно считаете, что «…добрая дюжина произведений АБС просуществует в читательском обороте еще лет десять, никак не больше. Остальные – вымрут естественной смертью в самом начале 21-го века. В 20-х годах об АБС будут знать и помнить только истинные знатоки и ценители фантастики»?!