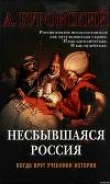Текст книги "Интервью длиною в годы: по материалам офлайн-интервью"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
Соавторы: Светлана Бондаренко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
Вадим. Россия – 17.06.03
Выдумка Алика. (А точнее – моего сынишки, когда ему было лег шесть.)
Не все ясно с талантом Костомарова. Судя по тексту, он заключается в верификации утвердительных предложений – любых, даже если они являются фигурами речи, вроде «он же там на ушах стоит». Но если талант Костомарова действует именно так, то он, по идее, должен жить отшельником, да таким, что Ядозубу до него далеко, – или ходить вечно поддатым, а в книге он общителен и почти не пьет.
Антон Светличный. Ростов-на-Дону, Россия – 23.09.03
Подразумевается, что губительное воздействие вранья на коронары имеет место лишь при «нацеленности на объект». Если же вранье летит, так сказать, по касательной, то воздействие минимально – как привычный шум за стенкой у соседей, делающих ремонт.
Кто же такие Олгоша/Хорхоша в БМС и откуда это?
Евгений. Тольятти, Россия – 19.11.04
Имеется в виду «олгой-хорхой» – легендарное чудище монгольских степей, описанное в одноименном рассказе И. Ефремова: гигантский песчаный червяк, убивающий на расстоянии – то ли плюющийся ядом, толи поражающий электрическим разрядом.
Аятолла – имеется в виду конкретная историческая личность или чин/сан/должность?
Евгений. Тольятти, Россия – 19.11.04
Подразумевается, скорее всего, все-таки «должность». Хотя кто их поймет – тех, кто дает людям прозвища.
Отец Стэна, Аркадий, был бессмертным от рождения, или эта его особенность благоприобретенная?
Александр Прохоров. Дубна, Россия – 30.09.05
Он сделал себя бессмертным – пройдя соответствующий, весьма болезненный, курс превращения.
Правильно ли я понял, что таланты всех героев повести были выявлены Стэном Аркадьевичем Агрэ, а потом герои развили (или надеялись развить) свои таланты сами без помощи врачей из «тайных лабораторий тов. Сталина»?
Nik. Москва, Россия – 22.04.03
Совершенно правильно. Агрэ только «показывал калитку в стене», а проходили они туда (или не проходили) уже сами (хотя и руководствуясь некоторыми указаниями сэнсея).
Или это жертвы (дети жертв) воображаемых (ли?) врачебных экспериментов, описанных в самом начале книги?
Nik. Москва, Россия – 22.04.03
«Жертвы экспериментов» (если их так можно назвать) – Агрэ, его отец и Алексей Добрый. Все прочие – порождения новейших времен.
Хан – он тоже из подопечных Агре?
Вадим. Россия – 17.06.03
Да, он – из них. Кроме того, он хлопочет за своего сына Алика.
Хан был полностью посвящен в замысел Агре?
Вадим. Россия – 17.06.03
Он, собственно, этот замысел реализовал.
Зачем Вадим придумывает (и записывает) историю про изуродованного, умирающего человека?
Вадим. Россия – 17.06.03
Пописывает наш Вадим, пописывает помаленьку. Балуется литературкой… Выдумщик он, и небесталанный.
Разговор с кем вспоминает Роберт в главе «Совершенно нет времени» (звонок в ад)?
Вадим. Россия – 17.06.03
Кто-то из старых друзей и соратников. Агрэ ведь не один. Несколько их таких в стране (или в мире?).
Насколько часто, по замыслу автора, детям требуется опекун? Только тогда, когда родители не могут заниматься воспитанием?
Почему же тогда возникла мысль об опекуне для Алика, которого явно есть кому воспитывать?
Антон Светличный. Ростов-на-Дону, Россия – 23.09.03
Опекун это (по замыслу) «старший ученик», который вводит опекуемого в курс драбантских дел и обстоятельств. Опекун не занимается воспитанием. Опекун помогает новичку стать своим в «узком кругу» и следит, чтобы он (новичок) не растрачивал бы свой расцветающий талант на пустяки.
Как получилось, что Эль-де-През не узнал «брата Колю» – Гришу-Ядозуба?
Михаил. Ашдод, Израиль – 06.01.05
А Эль-де-През просто не знал Ядозуба – никогда его не встречал раньше. Или Вы предполагаете, что все «ученики» сэнсея были знакомы друг с другом? Нет, конечно. Это же многие десятки людей. Большинство из них никогда и нигде «не пересекались».
Почему история с маркой Тельмана Ивановича занимает почти целую главу, если это не имеет определяющего значения в развитии сюжета?
В. Весловский. СПб, Россия – 14.10.03
Изначально роман задумывался так: из жизни каждого главных героев предполагалось взять целый день – чтобы специфика работы каждого драбанта стала читателю ясна в подробностях. Но реализовать этот замысел удалось только для Полиграф-Полиграфыча да лорда Винчестера. Ну еще в какой-то мере – для Гриши-Ядозуба. Так и возникла замеченная Вами (и не только Вами) «асимметрия» текста.
Чем же все-таки закончилась история с маркой, которой Вы нас так заинтриговали в начале «Бессильных мира сего»?
Евгений Перепелица. Киев, Украина – 21.10.03
А она ничем не закончилась. Как правильно догадался Работодатель (опытный знаток человеческих душонок), никакой кражи не было. Был скандальный старик, который произвел неудачный с академиком обмен, потребовал «все назад» и, не получив, естественно, желаемого, попытался хоть кровь попортить своему сопернику. Кстати, история эта – взята (если отвлечься от деталей) из реальной филателистической жизни (каковая жизнь зачастую кипит страстями воистину гомерическими).
Непонятен конец романа. «Совершенно нет времени» потому, что Злобная Девчонка вот-вот будет запущена в мир и надо срочно противопоставить ей Алика? Или это личное, времени нет у самого сэнсея, подходит к концу его жизнь (или талант)?
Александр Бурда. Минск, Беларусь – 24.09.03
Скорее второе, чем первое. Но и первое имеется в виду: все время что-то мешает, все время возникают неожиданные и неприятные помехи, все время все идет не так, как хочется…
Позвольте глупый вопрос по БМС: откуда взялся замечательнейший стишок «…и утка крякает, чия-то дочь»? Вашего пера или нет? Признайтесь честно!
Дмитрий. Пермь, Россия – 10.03.04
О! Замечательный вопрос! С радостью – и совершенно честно – на него отвечу. Конечно же, не нашего пера этот великий стих – где уж нам уж… Автор его – мой старинный и добрый друг Юрий Николаевич Чистяков, великий мастер сочинения таких вот опусов в манере капитана Лебядкина. Ему же принадлежит и гениальное «Вот по дороге едет ЗИМ, и им я буду задавим». Он же откликнулся на запуск АМС «Марс-1» лихим землепроходческим: «Я на Марс лечу-лечу…ем столб заколочу!»
В «Бессильных мира сего» среди прочих характеристик Агрэ встречается такая (цитирую неточно, по памяти): «Он давно уже достиг того возраста, когда беллетристику не читают вообще, и читает только литературу „фактическую“ – справочники, энциклопедии…» Вы считаете, что любой достаточно поживший и повидавший человек со временем придет к такому состоянию? Или же это некое выдающееся (ой ли?) качество, свойственное единицам?
Дмитрий. Россия – 26.09.04
Это – наблюдение. Наверное, можно под это наблюдение подвести и некую психолого-теоретическую базу, но я, пожалуй, это делать не возьмусь. Достаточно, что большинство (если не все сто процентов) моих знакомых прошли через эти стадии.
В БМС сказано следующее: «Сто двадцать семь математиков-физиков у нас получилось… И лишь только трое врачей, все как один – кардиологи… Сто двенадцать инженеров-управленцев-технарей-изобретателей… гуманитарии, искусствоведы там, журналисты, один писатель» и т. д. Сразу вспомнился ГО: «Писателей выдающихся – нет… Художников – нет. Композиторов – нет… Больше тысячи числятся литераторами. И все бездари. Инженеры… есть прекрасные. Ученые – очень неплохие… изобретатели, администраторы, ремесленники…» Что же получается – там Наставники, тут Сэнсей – создают Град Обреченный? Или это случайная аналогия?
Михаил. Ашдод, Израиль – 26.10.04
Наверное, НЕ случайная. Наверное, это у авторов вырвалось на волю неосознанное подозрение, что гуманитарные вершины «неприступнее» научно-естественных.
Вадим – человек, которому подчинено будущее, мог пригрозить шантажистам изменить их будущее так, что они погибнут через день, если не оставят его в покое, ведь его величество случай находится в его распоряжении (шантажисты ведь не знали, что это не так – они были как раз уверены в этом и эта угроза подействовала бы) и не сделал этого… Почему?
Александр. Иваново, Россия – 22.04.03
Мне кажется психологически совершенно недостоверным, чтобы человек – запуганный, загнанный в угол, растерянный – всерьез попытался бы угрожать шантажистам своим «оружием», в которое он сам не верит. Да и не тот Вадим человек, чтобы быть способным ответить агрессией на агрессию. Нет, я совсем себе этого не представляю.
Как Вы относитесь к тому, что Сэнсей сообщает детям о их способностях? Не кажется ли Вам, что здесь возникает нравственная проблема – ведь человек, точно узнавший, на что он способен, становится несчастным, – ведь его способности и его желания могут сильно расходиться, к примеру, человек, мечтающий стать актером, узнает, что у него способности быть бухгалтером и т. д.
Stas. Москва, Россия – 03.09.03
Может быть, Вы и правы. Но откуда следует, что сэнсей об их способностях детям сообщает? Вообще-то (по замыслу) он, как правило, об этих способностях не сообщает никому; а просто прописывает курс «воспитания», в результате коего названные способности проявляются помаленьку сами – как фотография в кювете. Впрочем, С. Витицкий в такие детали погружаться себе не позволял – он же отнюдь не сэнсей, ни в каком смысле этого слова.
Не надеетесь ли Вы, что такие люди действительно существуют? И если да, то не жаль ли Вам их?
Михаил Юхновский. Тюмень, Россия – 27.04.03
Я уверен (вместе с сэнсеем), что каждый так называемый «простой человек» – это ходячая могила таланта. Надо только этот талант обнаружить. А уж какой он, талант, окажется, – этого не знает никто, а предполагать можно все что угодно. Может быть, и порождающий жалость, – в том числе.
Вы считаете, что мы все бессильны?
Елена. Москва, Россия – 15.10.03
Это зависит от того, какие задачи мы перед собой ставим и какие цели преследуем. Изменить ход истории – да, бессильны. Обеспечить достаток себе и семье – можем вполне. Было бы желание и упорство.
Создается ощущение безысходности происходящего. Даже «одаренные Богом» во главе со Стэном бессильны. Неужели Вы больше не верите в Человека и Людей?
Виталий. Владивосток, Россия – 24.07.03
Я вовсе не считаю, что роман С. Витицкого так уж пессимистичен. Просто автор ясно понимает: «Божьи мельницы мелят медленно», «Хочешь перемен через сто лет – начинай сегодня», «При твоей жизни ничего в мире существенного не изменится»… И тем не менее – «Времени нет. Совершенно нет времени!». Пока у человека не хватает времени для дела – он живет полной жизнью. А что еще человеку нужно?
Это даже не о смерти разговор, а о нечто гораздо более страшном – о вечном рабстве перед страхом и о бессилии противостоять. И лишь маленькую надежду Вы подали, а точнее Ваш герой своей последней фразой, что надо торопиться работать. Пока живем – надеемся?
Виктор Виноградов. Москва, Россия – 25.08.03
Безусловно. Многие читатели считают этот роман пессимистическим. А я – нет. Человек работает. Человек совершает ошибки и одерживает победы. Человеку не хватает времени. Жизнь его полна. Где здесь почва для пессимизма? Не понимаю.
Если сэнсей давно знал об истинных способностях Вадима, то почему он ничего не сказал о них самому Вадиму? (А если не знал, а догадывался, то откуда у Э. Б. все эти примеры изменений? Сам придумал?) Стоило ли сразу идти на экстренные меры, не попробовав более мягкие? Когда он планировал свою комбинацию, то рассчитывал ли на шантаж и пытки по отношению к Вадиму? А «вполне приличный и даже деликатный человек» Аятолла – знает ли о методах работы своей правой руки Э. Б.? И не пахнет ли здесь лицемерием вроде «отдельных перегибов на местах» (всю грязную работу мы отдаем подчиненным, а потом выходим сами – все в белом, как в анекдоте)?
Антон Светличный. Ростов-на-Дону, Россия – 23.09.03
Ужасно мне не хочется заниматься толкованием текста! Ну, ладно. Подразумевается, что сэнсей счел необходимым «пришпорить» Вадима – способного (в принципе) не только предсказывать, но и изменять будущее, но не желающего развивать в себе эту способность. За неимением ничего лучшего сэнсей идет на жестокий шаг: просит своего ученика Аятоллу оказать необходимое воздействие на лядащего Вадима, чтобы возбудить последнего к активности. Что Аятолла и делает – через своих людей, дав им указание действовать сколь угодно жестко, но, разумеется, без увечий и вреда для здоровья. Используется один из лучших побудительных стимулов воздействия: страх. Жестокий эксперимент заканчивается, впрочем, успехом. Что и тр. док. Степень нравственности данного поступка Учителя оставляется на рассмотрение осведомленных. В том числе и Вас, дорогой читатель.
Неприемлемо для меня отношение сэнсея к Вадиму как к инструменту изменения мира. И ради благой цели – пытки, шантаж, психологическое давление… Почему же снова желание «сделать как лучше» превозмогает рассудочное понимание «получится как всегда»? Неужели (до и независимо от Ядозуба) сэнсею непонятно, что невозможно чудом «повернуть трубу» миллионов воль?
Александр Бурда. Минск, Беларусь – 24.09.03
Ваши неприязненные сомнения совершенно оправданы. Сэнсей и сам не уверен, что поступил правильно. Но ему так тошно наблюдать самодостаточность и самодовольство своих (любимых) учеников. И так хочется заставить их совершенствоваться – пусть даже и самыми жестокими методами, но только бы они перестали, наконец, топтаться на одном месте. А вот то, что «чудом нельзя повернуть трубу», – заранее никому не известно, и именно поэтому соблазнительно попытаться. Ведь раньше этого никто еще, согласитесь, не пробовал! Даже античные боги.
Почему, если ты знаешь, что идешь по правильному пути (обретению знаний, воспитания себя) и идешь предельно быстро, – то почему ты не вправе чувствовать себя довольным собой?
Вашкевич Максим. Минск, Белоруссия – 20.11.03
Быть недовольным собой – естественное состояние любого порядочного человека. Собой довольны только невежи и невежды. Так мне кажется.
Неужели все так плохо? В Вашей книге «Бессильные мира сего» стареющие люди («стареющие эксперименты»), веруя в свою значимость, экспериментируют друг над другом, косвенно задевая обыкновенную реальность. Боги на земле? Или боги в отдельно взятом срезе реальности? Что Вы хотели сказать? Это результат иллюзий экспериментаторов «совка»? Раньше Ваши книги давали надежду…
Олег Кимаев. Москва, Россия – 27.11.04
БМС тоже дают надежду, только это надежда более «высокого порядка». Хорошо, что есть интересная работа. Хорошо, что есть еще силы и способности эту работу делать. Хорошо, что есть друзья и ученики. И здоровье не совсем потеряно… А что не все ладно, что жизнь иногда трудна и горька и все идет не так, как хочется, – так кто вам сказал, что жить вообще должно быть легко и сладко? Откуда это, собственно, следует? «В поте лица своего будешь есть хлеб свой». Вот и все вам обещания по поводу сладкой и светлой жизни.
Какое место в своем творчестве Вы отводите «Бессильным мира сего», как Вы их оцениваете? И вообще, что в Вашем творчестве Вы ставите выше всего остального?
Дима. Москва, Россия – 14.10.03
БМС в общем удачный роман. В первую десятку произведений АБС я бы его поставил. А превыше всего, как я уже много раз здесь писал, – «Улитка». Ее так и не удалось нам превзойти, – ни вместе, ни порознь.
О ТЕХНИКЕ ТВОРЧЕСТВА АБС
Как Вам удается добиваться того, что, читая Ваши произведения, не кажется, что писали 2 человека? Ведь, наверное, у Вас с Аркадием разные стили и представления о пишущемся произведении. Как приходили к консенсусу?
Sol. Новосибирск, Россия – 13.06.98
Это был длительный путь проб и ошибок. Мы перепробовали, я полагаю, все возможные способы работы вдвоем и остановились на самом эффективном. Один сидит за машинкой, другой – рядом. Один предлагает фразу, другой ее обдумывает и вносит изменения. Первый соглашается или не соглашается. Если соглашается, – фраза заносится на бумагу. Если нет, – процесс внесения поправок продолжается. И так – фразу за фразой, абзац за абзацем, страница за страницей. Сточки зрения свежего человека этот метод кажется неуклюжим и излишне трудоемким. Однако, это есть не что иное, как УСТНАЯ правка черновика. В каждом окончательном тексте АБС содержится на самом деле три-четыре-пять черновиков, которые никогда не были написаны, но зато были ПРОИЗНЕСЕНЫ.
Разумеется, такой способ работы возможен только в том случае, если соавторы, будучи людьми разными и даже очень разными, тем не менее имеют общие представления о том, что в литературе хорошо, а что – плохо. Такое общее представление у АБС было изначально, и с течением времени общего в их позиции становилось все больше, хотя определенные различия и сохранялись. Эти различия, впрочем, не мешали работе, а скорее помогали, особенно когда возникали творческие тупики. Так в процессе эволюции выживают не самые генетически совершенные виды, а те, у которых генотип способен быстро и резко меняться при необходимости.
Некоторое количество произведений АБС было написано в сравнительно короткие сроки. Вопрос: сколько внимания вы уделяли редакции, подгонке, приведению произведения к законченному авторскому варианту, то есть редакция, не связанная с цензурой и редакцией извне? Понимаю, что, в литературе особенно, раз на раз не приходится, – здесь я, скорее, имею в виду метод и общее отношение, если таковые вообще существовали.
Кирилл Г. Нью-Йорк, США – 02.01.00
Обычно мы писали первый черновик со скоростью 5–7 страниц в день. Работали ежедневно, без выходных, по 24–30 (в молодые годы) или по 7—10 (в конце 80-х) дней подряд, с 10 до 14 и с 17 до 19 часов. Первый черновик, как правило, превращался со второго захода в чистовик – со скоростью 10–15 страниц в день. Это – в случае, когда работа шла без задержек и творческих кризисов. Разумеется, можно припомнить сколько угодно исключений: «Попытка к бегству» (начинали, писали два десятка страниц, потом бросали, мучались, начинали сначала); «Улитка на склоне» (добрую неделю никак не могли начать, потом писали некоторое время благополучно, заканчивали, а спустя полгода переписывали половину заново). «Гадкие лебеди», «Малыш»… «Трудно быть богом» переписывали дважды, «Страну багровых туч» – трижды. Но в большинстве случаев черновик был только один, и 8-листную повесть удавалось полностью закончить за год, а иногда за 7–8 месяцев. Поскольку метод работы у нас был специфический (всегда вдвоем, всегда нос к носу, один за машинкой, другой рядом… предлагается фраза, обсуждается, редактируется, доводится до ума, заносится на бумагу, предлагается вторая фраза… и так – абзац за абзацем, страница за страницей, глава за главой), – постольку основная правка у нас шла УСТНО, так что первый черновик (да чистовик тоже, хотя и в меньшей степени) это на самом деле текст, в котором практически каждое слово «вычеркнуто» и вновь «записано» два-три-четыре раза. Любопытно, что такой метод работы приводил, в частности, к тому, что многие наши тексты я лично помнил почти наизусть – по крайней мере в первые два-три-четыре года после написания.
Меня очень интересует режим дня писателей. Конечно, талант не создать с помощью режима, но отсутствие режима снижает работоспособность, что может загубить любой талант. Как Вы отдыхали? Спали ли Вы с 14 до 17 или читали?
Алексей. San Francisco, USA – 25.01.00
Как правило – часовая прогулка (либо после обеда днем, либо вечером перед сном). После обеда – сон. Вечером – книги, телек, кино (если работаем в ДТ). Впрочем, очень часто вечера уходили на деловые разговоры – обсуждались будущие тексты.
Рано ли ложились спать?
Алексей. San Francisco, USA – 25.01.00
Во время работы режим был очень жесткий: в 12 мы были уже в постелях, но, конечно, как правило, еще часок читали.
И еще вопрос: был ли у Вас какой-либо ритуал по завершению книги?
Александр Рождественский. Ковдор, Россия – 08.07.00
АН обычно взвешивал на ладони папку с оконченным романом и, глядя на меня со значением, говорил что-нибудь вроде: «Вот так! Это вам не хрен собачий. Это – нечто!» После чего мы либо шли в «Пекин», если дело происходило в Москве, либо устраивали пир богов «на месте работы», если окончание приходилось на Ленинград или какой-нибудь дом творчества.
Сколько можно править литературное произведение? Например, если редактируешь в 27-й раз, вещь с каждым разом становится лучше, но все равно не устраивает. Поставить предел и закончить или биться до победного?
Борис Рангоут. Москва, Россия – 06.09.02
На мой взгляд, идея о том, что каждое данное произведение можно исправлять бесконечно долго и от каждого исправления оно становится лучше, – идея неверная и даже, может быть, вредная. Повесть надо исправлять так: берешь черновик и вносишь крупные, существенные изменения; потом еще раз проходишься по исправленному уже варианту и делаешь изменения мелкие; потом оставляешь рукопись в покое (даешь ей «отлежаться») и – через месяц-другой – перечитываешь ее опять и вносишь те поправки, которые за это время накопились (если накопились). Все. Если потребность в КРУПНЫХ поправках не появилась, можно нести в издательство: все равно там заставят править снова и с совсем другой точки зрения.
Много ли времени/усилий Вы уделяете отделке языка ваших произведений?
Андрей Семенов. Тула, Россия – 31.05.04
Много. Половину всего времени работы над текстом.
Можно ли сказать, что со временем Вы набили руку, и эта отделка стала даваться легче?
Андрей Семенов. Тула, Россия – 31.05.04
Ни в малейшей степени. Наоборот: чем дальше, тем труднее.
Вообще – насколько, по-Вашему, важно качество художественного текста? По сравнению с его содержанием?
Андрей Семенов. Тула, Россия – 31.05.04
Чрезвычайно важно. Без этого качества – ничего не получится такого, о чем стоило бы говорить. Безвкусная каша – голодное брюхо кое-как набить.
Понятно, что есть ограничение снизу, определенная планка, ниже которой опускаться нельзя. А сверху? До каких пор нужно продолжать править?
Андрей Семенов. Тула, Россия – 31.05.04
Пока не ощутишь свое полное бессилие. Это, кстати, не такое уж большое время. Довольно быстро ощущаешь, что больше ни на что не годен, – точка, все. Тогда надо текст отложить и продержать его в сторонке месяцок-другой. Второго захода, как правило, бывает достаточно.
И уж, наверное, самый сакраментальный вопрос – творчество и алкоголь. Я слышал, что немало писателей (про Вас ничего не слышал) частенько прикладываются для «возбуждения воображения». Как вы к этому относитесь?
Алексей. San Francisco, USA – 25.01.00
На протяжении многих лет (года этак до 85-го) у нас на время работы объявлялся сухой закон. Мы выпивали только в день встречи и в последний день (после окончания «смены»). К концу, правда, 80-х позволяли себе расслабляться чаще. Я уверен, что алкоголь не только не помогает работе, он ей мешает – просто потому уже, что подвыпивший человек перестает быть самокритичным, а это – смерть для писателя.
Часто ли вы попадали в тупики написанного? Много ли приходилось переписывать? И вообще, начиная новую книгу, всегда ли вы знали, чем она закончится?
Неустроев Виталий. Ижевск, Россия – 01.10.98
Как правило, мы точно знали, чем все кончится. Однако, бывали случаи, когда замысел менялся по ходу работы кардинально, как было, например, с «Попыткой к бегству», «Улиткой на склоне», «Гадкими лебедями» и пр. Обычно дело ограничивалось одним черновиком. Но приходилось нам делать иногда и два, а равно и дописывать целые главы в конце, как это было с «Трудно быть богом» и с теми же «Гадкими лебедями».
На темы и сюжеты каких из написанных совместно с Аркадием Натановичем книг повлияли необычные события (сновидения, невероятные встречи, необъяснимые стечения обстоятельств, находки в архивах и т. д.)?
Дмитрий Поляшенко. Москва, Россия – 13.06.98
Откровенно говоря, ничего такого я припомнить не могу. Сюжеты и темы выскакивали из нас совершенно беспорядочным образом, в самые неожиданные моменты и, как правило, к окружающей нас реальности отношения не имели. Точно так же, как и к окружающей нас ирреальности. Увы.
Случалось ли, что избегая столкновения с цензурой и пытаясь обойти ее, у АБС рождались новые сюжетные ходы, образы, которые в итоге делали произведение даже лучше?
Евгений Николаев. Йошкар-Ола, Россия – 15.01.99
Существенных улучшений не получалось никогда (ухудшений – сколько угодно!). Но бывали случаи, когда под давлением цензуры мы производили изменения, которые в дальнейшем нам уже не хотелось возвращать к состоянию «до того». Например, в «Обитаемом острове»: ротмистр Чачу лучше, чем лейтенант Чачу; «воспитуемые» лучше, чем «заключенные» и т. д.
Мне всегда было интересно узнать, как вам приходят в голову сюжеты для новых романов? Вы сидите и долго думаете или это само собой приходит? И насколько сильно во время написания книги меняется первоначальная ее задумка?
Стас Белка. Харьков, Украина – 27.02.99
Это бывает по-разному. Очень редко сюжет приходит в голову сразу, целиком, «в виде, готовом к употреблению». Обычно все начинается с ситуации, с какой-нибудь маленькой сценки, иногда с отдельной фразы. Подавляющее большинство этих «зародышей» умирает сразу после рождения и пропадает зря. Но иногда начинается процесс обрастания зародыша плотью, и тогда с течением времени возникают уже и контуры сюжета. Случаи, когда замысел меняется в процессе работы, не слишком редки, но, как правило, все-таки, меняются только отдельные элементы сюжетного скелета, но не сам скелет.
Мне всегда казалось непостижимым, как могли два человека – Вы и Ваш брат – творить вместе. Мысли свои выражать всегда нелегко, но переплести свои мысли с мыслями другого человека, чтобы они казались единым целым – КАК Вам это удалось??? Ваши книги столь гармоничны, что кажется, будто их написал один человек. Скажите, в чем секрет вашего с братом единства?
Катерина. Красноярск, Россия – 12.06.00
Мы всю жизнь взаимно «делали», «лепили» друг друга. Постоянный обмен знаниями, эмоциями, идеями, друзьями, наконец. А освоенный нами (методом проб и ошибок) способ работы вдвоем – когда обговаривается каждая фраза, каждая строчка, каждый абзац, – мог давать результат ТОЛЬКО в том случае, если достигнуто принципиальное согласие соавторов. А это означало, что нет больше в предлагаемой фразе ни АНа, ни БНа по отдельности, а есть только один автор – АБС. Не знаю, удовлетворил ли Вас такой ответ, но зато знаю твердо, что другого ответа у меня все равно нет.
Были у Вас и у Вашего брата разногласия в каких-то вопросах, проблемах. Или Вы всегда приходили к единственному согласию. Писали Вы о том, о чем другой не хотел писать? Существовали у Вас разные мнения?
Mike. Ramz. Россия – 27.04.00
Частных разногласий было более чем достаточно. Процентов на 50 (а может быть и на все 75) работа наша представляла собою перманентный (иногда – яростный!) спор. Ведь обсуждению подлежала практически каждая фраза сочиняемого текста. К согласию (по частным вопросам) приходили всегда, без исключения. В тех редких случаях, когда разногласия «мирным путем» устранить не удавалось, бросался жребий, и проигравший безропотно (иногда, впрочем, и с проклятьями тоже) склонял голову под Рукой Судьбы. Было несколько случаев, когда один из авторов выступал категорическим противником очередного предлагаемого сюжета. В этих случаях работа откладывалась, иногда надолго, на годы. Было даже три случая, когда АНу так и не удалось убедить БНа, что настала пора работать над сюжетом, – и АН писал этот сюжет сам. Так появились известные повести С. Ярославцева.
Когда вы писали свои книги, вы много думали о литературной стороне дела или все это прикладывалось, когда был готов сюжет?
Владимир. Мурманск, Россия – 23.06.00
Ни о чем другом, кроме «литературной стороны дела», мы и не думали. Об этой стороне нужно думать непрерывно. Как только перестанешь, сразу пойдет лажа и залипуха – никакой сюжет не поможет.
Интересно, а вы общий сюжет продумываете с самого начала или пишете как бы наугад, т. е. придумали отдельную часть произведения, полностью ее проработали, а затем, отталкиваясь от нее, идете дальше.
Владимир. Владивосток, Россия – 18.08.00
Как правило придумать сюжет весь «насквозь» невозможно, но очень важно с самого начала знать конец и затем уж «провешивать» всю сюжетную историю от и до. Если концовка заранее неизвестна, возникает, как правило, лишний, необязательный текст, который впоследствии жалко бывает выбросить, а он утяжеляет вещь, оскучняет ее, снижает темп развития сюжета.
Как именно, если не секрет, вы пишете свои произведения? Как мне кажется, существует два пути. Первый, это когда за какими-нибудь делами, БАЦ!!! и возникает идея, т. е. костяк сюжета, остается продумать детали, а второй – это тяжелый и кропотливый труд, когда сидишь бессонными ночами…
Владимир. Владивосток, Россия – 18.08.00
Бывает и так и этак. Но основная исходная идея обычно все-таки появляется через посредство БАЦ. Снимается с потолка, высасывается из пальца, возникает сама собою без всяких специальных усилий, а точнее – помимо этих усилий, как бы независимо от них. Эвристический процесс (от слова «Эврика!»).
Как пишутся (писались) Ваши произведения? По порядку: от первой и до последней строчки? Или, может быть, Вы можете начать писать с середины или даже конца и лишь потом взяться за начало?
Александр Синящок. Киев, Украина – 14.05.01
Всегда и только «по порядку» – от начала к концу. Тут главное: точно знать, чем кончится история. Тогда эпизоды насаживаются один за другим на готовую линию фабулы, как кусочки шашлыка на шампур.
Не могли бы Вы рассказать, насколько основательно и насколько подробно продумывался Вами «фундамент» создаваемых Миров? Например, представляли ли Вы заранее, Как астроном, скажем, геометрию «Града»? Солнце в зените на севере наводит на мысль о чем-то параболическом.
Николай Саква. Королев, Россия – 02.12.01
Очень приблизительно. Лишь в такой степени, чтобы ответить на некоторые практические вопросы, возникающие в тексте: что происходит с солнцем при продвижении на Север? что такое Падающие звезды и т. д.
У авторов никогда не возникало ощущения, что сюжет начинает жить самостоятельной жизнью, ведет вас самих за собой?
Стас. USA – 24.06.00
Нет, конечно. Но бывали (и нередко) случаи, когда из одной сюжетной ситуации возникала вдруг, как бы сама собой, другая, раньше совсем не планировавшаяся. Это не означает, разумеется, что «сюжет начинает жить самостоятельной жизнью» – просто по ходу работы появляются возможности, которые изначально нельзя было предусмотреть. Так возникает совершенно новый и неожиданный пейзаж, когда вы доходите до конца (незнакомой) улицы и сворачиваете за угол.