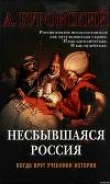Текст книги "Интервью длиною в годы: по материалам офлайн-интервью"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
Соавторы: Светлана Бондаренко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)
В тексте романа вы не найдете (я уверен) ни слова о том, что Изины разглагольствования сколько-нибудь существенно повлияли на мировоззрение Воронина. Он выслушал, принял к сведению и «остался при своих» – без новой идеологии и в поисках новой идеологии. А стрельба здесь вообще ни при чем. Никакая (разумная) идеология (как и отсутствие таковой) не запрещает стрелять в порядке самозащиты.
«– Иська! Кацман! Иди, тебя матка зовет!.. Андрей, весь напрягшись, сунулся лицом к самому стеклу, всматриваясь в темноту…»
Я рассматриваю этот отрывок как явный намек авторов на будущую встречу главных героев в этом мире.
А. Нешмонин. Toronto, Canada – 04.02.99
По-моему, из этой сцены (если непредвзято и помимо авторских замыслов) следует только одно: наш герой совершенно обалдел, обнаружив Изю Кацмана в своем собственном дворе да еще в виде сопливого мальчишки.
Зачем тогда еще, скажите на милость, нужна была эта сцена? Ну зачем?
А. Нешмонин. Toronto, Canada – 04.02.99
Решительно затрудняюсь ответить на этот вопрос. Нам показалось, что это будет недурно – вот, пожалуй, единственное нам оправдание. Во всяком случае, никакого глубокого смысла в этой сцене нет. Что касается Ваших прочих соображений, то все они свидетельствуют лишь о том, что Ваша гипотеза МОЖЕТ БЫТЬ верна, но не о том, что она верна на самом деле. Я же утверждаю только, что ничего подобного авторы не задумывали и, следовательно, ДОКАЗАТЕЛЬСТВ этой гипотезы найти в тексте невозможно. «Необъяснимая симпатия» Изи к Андрею легко объясняется тем, что Изя КО ВСЕМ относится с симпатией (кроме разве то Румера, что было бы, пожалуй, уже слишком). Дружбы же между ними нет, – у Изи нет друзей по определению, только многочисленные добрые знакомые. Встретиться в Ленинграде Андрей с Изей, разумеется, могли. Но что может быть общего между сопливым мальчишкой и зрелым мужем, особенно, если учесть, что Воронину же предстоит Второй круг – что ему Изя, что ему теперь даже сам Город, до того ли ему?
Почему в ГО (в конце) Вы все-таки решили кликнуть Изю, а не Кэнси, например, и не Вана, и не Дональда? Что-то не то с национальной принадлежностью?
Starley – 06.03.03
Куда «кликнуть»? Имеется в виду сцена во дворе? Но ведь это же ясно: Воронин только что расстался с Изей, вернулся в свое время и вдруг слышит… Естественно, это должно произвести на него (да и на читателя) сильное впечатление. Я уж не говорю о том, что появление в ленинградском дворе 1950-го года Вана, Кэнси и в особенности Дональда было бы более, чем фантастично. Так что хоть от Вашего вопроса и пованивает, в конечном итоге Вы правы. Только дело не в национальности, а скорее, в гражданстве.
Зачем в финальной сцене романа появляется юный Изя Кацман? Что под этим подразумевалось – только то, что «мир тесен», или нечто большее? Дело в том, что появлением Кацмана Вы как бы даете повод к продолжению романа.
Новиков Валерий. Санкт-Петербург, Россия – 24.07.03
Никакого «глубокого смысла» в последней сцене ГО нет. И никакое продолжение никогда нами не планировалось. Просто показалось интересным столкнуть напоследок Андрея нынешнего с Изей прошлым – дать пространству романа объем, как сказал бы литературовед.
Второй круг – это что?.. Житие в обычном мире со всем пониманием и уже без совести, или житие в нашем же мире Совестью Отягощенным?
Поздняков Сергей. Белгород, Россия – 27.12.01
Откровенно говоря, я не знаю, что такое Второй круг. Может быть, это именно то, что Вы только что описали. А может быть, нечто совсем другое. Тут главное другое: жизнь продолжается. Человек переменился радикально, он уже совсем другой, – а мир все тот же, и жить надобно дальше: искать, приспосабливаться, приспосабливать.
Я как-то сразу поверила старичку, с которым разговаривал Андрей на скамейке, который сказал, что все они умерли и находятся в аду. Так до конца книги и осталась у меня эта ассоциация. Действительно, ни одного положительного персонажа в книге нет. Все достойны того, чтобы попасть в ад.
Нина. Москва, Россия – 20.04.02
Вы знаете, абсолютно то же самое можно сказать практически обо всех людях, которые нас с Вами окружают в данный момент и в этом мире.
Религиозный человек мог бы сказать, что ГО – это описание той части ада, в которую попадают интеллигенты.
Сергей Р. Журов. Родники Ивановской обл., Россия – 27.12.01
Интеллигенту везде плохо. В любой точке известной нам Вселенной. Так уж он устроен. Точнее – неустроен.
У Вас никогда не возникало желания написать продолжение «Града Обреченного»? Мне казалось, что книга логически подразумевает продолжение. В конце ведь наставник говорит, что пройден только первый круг.
Денис. СПб, Россия – 25.01.00
Ни в коем случае! У сочинения такого типа может быть только такой вот, «открытый» конец. Всякое продолжение могло бы только ослабить впечатление.
Не было ли у Вас мысли написать продолжение? С условным названием «Град спасенный». Или это продолжение каждый должен написать для себя сам?
Ruslan Bondarev. Киев, Украина – 18.07.01
Авторы искренне полагали: все, что хотелось им в данном романе сказать, они сказали. Да вообще мы не любили романов с продолжением. За редчайшим исключением все они разочаровывают, а не наоборот.
Наш городок – любопытный полигон для Эксперимента.
Нина Селицкая. Новосибирск, Россия – 20.01.02
Не только Ваш городок – вся наша Россия. Да и Земля наша – тоже.
«Жук в муравейнике»
Что должно было произойти после воссоединения Льва Абалкина и его «детонатора»?
Александр Сорока. Киев, Украина – 19.09.98
Ничего не должно было произойти. Лева Абалкин – такой же человек, как и мы с Вами (ну, со скидкой, конечно, на его «кроманьонское» происхождение). В том-то трагедия и состоит, что Сикорский, запуганный и сам всех запугавший, убил ни в чем не повинного, да еще и несчастного вдобавок, человека. Хотя с другой-то стороны, а что ему еще оставалось делать? Он же – в отличие от авторов – не знал правильного ответа на Ваш вопрос.
Повесть эта намеренно написана так, чтобы вопрос о потенциальной опасности Левы Абалкина остался ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫМ. В тексте (самодостаточном!) намеренно не оставлено НИ ОДНОГО НАМЕКА на малейший перевес в пользу какой-нибудь одной из двух версий, и поэтому-то вопрос «позволительно ли убить человека на всякий случай?» режет читателя точно пополам. Бросив же читателям спасительную «официальную точку зрения», Вы уводите нас от вопроса «а если Лева все-таки был роботом Странников, как тогда?».
А. Нешмонин. Toronto, Canada – 06.02.99
Упаси Бог! Официальную версию я, помнится, бросил только тогда, когда мне показалось, что гипотезу робота Странников некоторые приняли как ЕДИНСТВЕННУЮ. Разумеется, читатель вправе рассматривать ЛЮБУЮ версию, если она не противоречит тексту. Что из того, что авторы «знают правду»? Герои же ее не знают, а принимать-то решения приходится именно им – и читателям вместе с ними.
Думается, многие могут со мной согласиться (?), высказав точку зрения, что «опальная» версия («Лева Абалкин – робот Странников») – это много более интересная тема для размышлений, чем «официальная» версия («Экселенц – старый параноик»).
Александр Нешмонин. Toronto, Canada – 13.02.99
Авторы придерживались иной точки зрения. Им было совсем не интересно писать очередной боевик о разоблачении и уничтожении супердиверсанта сверхцивилизации. Совсем другая идея представлялась им и более плодотворной, и менее тривиальной: «Всякое общество, создавшее внутри себя тайную полицию, неизбежно будет убивать (время от времени) ни в чем не повинных своих граждан, – как бы ни было совершенно это общество, и как бы высоконравственны и глубоко порядочны ни были сотрудники этой тайной полиции». Естественно, в рамках такой постановки вопроса Абалкин должен был быть обыкновенным глубоко несчастным человеком с изуродованной судьбой. Впрочем, возможна (и равноправна) и другая трактовка «Жука»: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о катастрофической нехватке информации». Авторы совершенно честно и сознательно создают ситуацию, когда читатель знает о положении дел ровно столько, сколько известно героям. А потому читатель имеет возможность делать выбор и принимать решения вместе с Сикорски и Каммерером. Такие вот условия игры.
Скажите, пожалуйста, почему Вы так категорично отвечаете на вопросы по поводу тех или иных персонажей? Ваши ответы звучат примерно так: «Экселенц параноик, Лева погиб ни за что» и т. д., и т. п.
Йож. Питер, Россия – 26.06.01
Это происходит по той простой причине, что я ЗНАЮ, как оно было «на самом деле». Я ЗНАЮ, что Лева не был автоматом Странников. Я ЗНАЮ, что Экселенц ошибался в своих предположениях изначально. И так далее. Как же мне не быть категоричным?
Только насмерть перепуганная домохозяйка, впервые держащая в трясущихся руках пистолет, может темной ночью выпалить в незнакомца целую обойму. А Экселенц был хорошо тренированным профессионалом, отлично знающим правила применения оружия, умеющим это делать дозировано, в точном соответствии с требованиями обстановки (вспомним Таманцева из Богомоловского «В августе сорок четвертого»). Ситуация в музее, на мой взгляд, не требовала вести огонь на уничтожение.
Александр Нешмонин. Toronto, Canada – 13.02.99
По мнению авторов, Экселенц сделал ровно столько выстрелов, чтобы со стопроцентной вероятностью можно было исключить контакт робота Странников с его (робота) детонатором. Не больше и не меньше.
Сикорски – это очень несчастный человек, т. к. ему приходится делать ВЫБОР. Убить одного, чтобы обезопасить миллионы от очень вероятной опасности, но совершив при этом необратимое действие или оставить жить одного, надеясь на лучшее, подвергнув опасности всех… Первое для него неприемлемо, как для человека, второе, как для профессионала, отвечающего за безопасность… Мне кажется, что Сикорски достоин сожаления, а не осуждения… или я не прав?
Павел. Омск, Россия – 11.04.99
Вы абсолютно правы. Авторы целиком и полностью стояли именно на Ваших позициях.
У Экселенца БЫЛ ВЫБОР в области «средств пресечения», и наш достойный жалости добряк-старикан избрал самый, пожалуй, жестокий вариант. Давайте подождем, что скажет по этому поводу Борис Натанович
Александр Нешмонин. Торонто, Канада – 12.04.99
Дорогие друзья!
Ужасно не хочется толковать и разжевывать то, что уже давным-давно пережито, прочувствовано и прописано ровно в той степени, в какой (по мнению автора) это и следовало прописать!
Разрешите ограничиться, так сказать, вводной.
Имеем старого человека, большую часть своей жизни занимавшегося разведкой и контрразведкой; давно уже привыкшего (при необходимости) убивать; давным-давно убедившего себя, что есть ценности более высокие, нежели жизнь отдельного человека, тем более, человека «дурного»; взвалившего (совершенно добровольно) на себя чудовищный груз ответственности за ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, – ответственности, которой он никому и ни при каких условиях не может передоверить; хитрого, ловкого (при необходимости) интригана, и т. д.
Как такой человек должен действовать, если он УБЕЖДЕН НА 99,99 %, что перед ним автомат всемогущих и непостижимых Странников, причем автомат этот движется в неизвестном направлении, преследуя неизвестную цель и угрожая реализовать некий, сколь угодно грандиозный и опасный проект? А в тылу – еще десяток непредсказуемых и столь же зловещих автоматов-куколок, о которых ничего не известно, и НЕ БУДЕТ известно, если не удастся разобраться по возможности до конца с этим квази-Абалкиным. Причем ДО САМОГО конца разбираться нельзя, катастрофически опасно: пока он еще только протягивает руку к «детонатору» – еще можно, но когда он уже взял его двумя пальцами и «понес» куда-то – уже нельзя, надо убивать… именно убивать, потому что нет на свете парализаторов, которые были бы испытаны на автоматах Странников… Поведение Экселенца в рамках той личности, которую он собою представляет, и в рамках той теории, которую он себе построил, – поведение это кажется мне единственно возможным. А прав он или не прав… Нам ли судить об этом, сидючи в теплой комнате, в относительной безопасности (и в состоянии почти полной безответственности) перед более или менее роскошным монитором?
Все-таки не удержался и произнес речь. Sorry!
А как бы, на Ваш взгляд, поступил в такой ситуации Горбовский?
Dan & Serj. Волгоград, Россия – 16.12.99
Хороший вопрос. Но ответить на него трудно, ибо авторы (по натуре своей) все-таки скорее Сикорски, чем Горбовские. Тут, наверное, надо исходить из того, что Горбовский – добрый человек, а добрый человек всегда доверчив и никогда не склонен к паранойе. Горбовский исходил бы из презумпции невиновности и стремился бы прежде всего поговорить и договориться. И, возможно, ему это удалось бы – в данном конкретном случае. А может быть, и нет. Ведь Абалкин сам отнюдь не сахар. Впрочем, до смертоубийства в любом случае не дошло бы, и на том спасибо.
Оправдываете ли Вы поступок Сикорски? Как бы Вы поступили на его месте?
Владимир. Саратов, Россия – 24.03.00
Я НЕ оправдываю поступок Сикорски, хотя очень хорошо его (Сикорски) понимаю и вполне ему сочувствую. Однако на его месте я, наверное, все-таки пренебрег бы ценной информацией и попытался бы просто «арестовать» Абалкина. Понимаю, что это непросто, но попытаться все-таки надо было. Каммерер же попытался. Но – в одиночку. А надо было навалиться всем КОМКОНом.
Не станете же Вы утверждать, что такие люди, как Сикорски, не нужны. Кто же будет оберегать общество от напастей и брать на себя ответственность?
Роман Пехов. Екатеринбург, Россия – 12.04.00
Никогда не утверждал подобных глупостей. И спецслужбы нужны, и такие люди, как Сикорски (к которому авторы всегда относились с большим уважением и симпатией) – тоже. Речь ведь совсем о другом: пока такие спецслужбы будут существовать, будут обязательно гибнуть ни в чем не повинные люди, – даже если во главе спецслужб будут стоять такие бескорыстные, порядочные и субъективно порядочные чиновники, как Сикорски.
Почему было не попробовать где-нибудь в дальнем космосе дать «детонатор» кому-либо из «подкидышей»?
Колинченко Александр. Иркутск, Россия – 01.06.00
Для Странников Космос – дом родной. Для робота Странников, надо думать, – тоже. Вряд ли космические расстояния будут для такого робота серьезной преградой. Так что я бы такой эксперимент производить не стал.
Почему Сикорски так и не превратил музей в сейф большого размера? Моток колючей проволоки, плечистый парень и пистолет (кстати, зачем так рисковать – даже после нескольких выстрелов Абалкин еще был жив) – какая-то не слишком серьезная мера предосторожности.
Дмитрий Усольцев. Новосибирск, Россия – 24.06.00
По-моему, в романе довольно ясно сказано: Сикорски не собирался ограждать Музей от Абалкина; наоборот, Сикорски ХОТЕЛ, чтобы Абалкин попал в Музей – ему надо было посмотреть, как он там будет себя вести и, в частности, как именно будет он реагировать на детонаторы.
В чем заключается проблема Сикорски? Не мог же он один превратить художника-зоолога в прогрессора. Насколько я понял, в этом грязненьком деле поучаствовали все – от врачей-педиатров до мирового совета. Если обобщать, гибель Абалкина – вина всего человечества.
Дмитрий Усольцев. Новосибирск, Россия – 24.06.00
Вы бесспорно правы. Но более всех виноват тот, кто изначально все задумал, продумал и реализовал. Подавляющее же большинство людей, замешанных в этой истории, действовали «втемную».
Что, собственно, являлось побудительным мотивом для Р. Сикорски?
Алексей Ложко. Днепропетровск, Украина – 03.07.00
У Сикорски один-единственный побудительный мотив – исполнение своего долга. Он добровольно взвалил на себя эту ношу – обеспечение безопасности Земли, – и он готов эту ношу нести, не позволяя себе ни минуты отдыха или расслабления.
Как вообще Сикорски смог убить Льва? Ведь он стреляет в него не из импульсного разрядника, а из «герцога» (кстати, почему?). Мак в свое время получил от ротмистра семь разрывных в сердце, печень, позвоночник плюс огромная потеря крови, плюс неизбежный сепсис – и ничего, встал и пошел. Лев же не Маку чета – настоящий прогрессор, не наблюдатель из ГСП, а послушно умирает от нескольких пуль. Как же так?
Дмитрий. Санкт-Петербург, Россия – 14.11.00
Это все уже обсуждалось здесь множество раз. Самый простой ответ: надо знать, КУДА стрелять из «герцога». Экселенц – знал.
Почему вообще понадобилось непременно УБИВАТЬ (лишать жизни) Абалкина, неужели не существовало других способов остановить его – парализовать, обездвижить, усыпить и т. д.?
Svarog. Россия – 12.01.04
Но это же очевидно: кто может сказать, как именно надлежит «парализовать, обездвижить, усыпить» автомат Странников? Сикорски не мог рисковать, и времени для экспериментов у него не было.
Чем объясняется чудовищный эгоизм Льва Абалкина-ребенка?
Илья Винарский. Беллвью, США – 09.01.99
Да, Лева был ребенок со странностями. Но, во-первых, он, все-таки, как-никак кроманьонец. А во-вторых, из нашего личного опыта следует, что все без исключения мальчики (да и девочки тоже) – существа со странностями.
Лев Абалкин действительно бил Майю Глумову в детстве?
Павел. Москва, Россия – 24.12.04
Ну, он не бил ее, конечно, в брутальном смысле этого слова. Он с ней дрался. Как дерутся между собой в детстве даже самые крепкие друзья. Правда, поскольку он был мальчик, он обычно побеждал, и само собой получалось, что он ее «поколачивает». Что с него взять, с кроманьонца!
Откуда Абалкин узнал номер спецканала Сикорски, известный только Тристану?
Павел. Омск, Россия – 27.05.99
Это главная загадка всей истории! В повести ответа нет. Опыт показывает (нашлись такие читатели), что можно догадаться. Тут главное – не совершать ошибки Сикорски, не предполагать сразу, что Абалкин вырвал всю информацию у Тристана силой.
Что же на самом деле произошло с лечащим врачом Льва Абалкина на Саракше Тристаном?
Тема Кабиров. Зеленоград, Россия – 25.12.99
Он был ранен и захвачен контрразведкой, которая обработала его «сывороткой правды», под воздействием которой человек довольно быстро умирает, но перед смертью говорит о самом для себя важном. Поскольку Тристан, умирая, говорил по-русски, у следователей возникла идея, что он говорит на каком-то из материковых языков, и они позвали штабного шифровальщика (родом с Материка), чтобы тот послушал. Так Абалкин услышал предсмертный бред Тристана. Что-нибудь вроде: «Всем-всем-всем… Ни в коем случае не допускайте, чтобы Абалкин попал на Землю… обо всех попытках такого рода сообщайте по каналу такому-то…» И т. д. Тут-то и завертелось колесо смерти.
После всего этого Абалкин, тем не менее, СНОВА идет в музей. И не просто идет (например, к Майе), а берет коробку с детонаторами. Ничего ни у кого не спрашивает – берет. После разговора с Сикорски, после того, как Каммерер слезно умоляет его не делать «резких движений». Где логика?
Андрей Быстрицкий. Quebec, Canada —25.01.00
Здесь есть логика. Но не Ваша. И не логика Сикорски. Это, если не ошибаюсь, десятый из «Одиннадцати вопросов»: что же именно произошло в Музее? Абалкин идет в Музей, потому что там ждет его любимая женщина (единственная, кстати, кто его не предал и не продал в этой жизни). Абалкин видит на столе пенал с детонаторами – пенал не успели положить на место и вообще Майка с ним работает. Абалкин видит детонаторы – странные предметы, которые возбуждают у него слабое чувство любопытства (какое они вызвали бы практически у любого постороннего человека). Абалкин (между делом, болтая с Майей о том, о сем) рассматривает детонаторы и обнаруживает там знакомый значок. Удивленный, он задирает рукав и подносит детонатор к сгибу локтя, чтобы убедится в сходстве значков – не в похожести, заметьте, а в полном сходстве!.. В этот момент Экселенц стреляет. Он «увидел, как это происходит у подкидышей» и более рисковать не намерен.
Хотелось бы спросить, каким образом возникла нота явного садизма в отношениях Абалкина и Майи, которые немало повидавший Каммерер справедливо называет «странными»? Было ли это игрой фантазии, компенсацией безоблачного жития в «Мире Полдня» или же сигналом неблагополучия внутреннего мира героя? Ведь картина получается неприглядная…
Ия. Россия – 28.03.01
Там же ясно сказано о любовных играх имперского офицера, не прошедшего рекондиционирования. (Или что-то в этом роде.) Вообще любовь, если смотреть на нее со стороны взглядом стороннего наблюдателя-исследователя, бывает груба и, как бы это помягче сказать, мало аппетитна. Ведь на самом деле о «странностях» любви имеют право судить только партнеры.
Почему Максим не выносит тайн на Саракше, но спокойно относится к ним на Земле (БВИ не пускает – и ладно)? Повзрослел?
Дмитрий Усольцев. Новосибирск, Россия – 24.06.00
Безусловно. Прошло (кажется) двадцать лет. И каких лет! В ЖВМ Максим совершенно другой человек, и профессиональный прогрессор в придачу.
Вы считаете (и считали) позицию Бромберга в отношении ограничения развития науки правильной или ошибочной?
Василий. Киев, Украина – 27.06.00
Я думаю, что Бромберг по-своему прав. А Сикорски прав – по-своему. Такая вот дихотомия, извините за выражение.
Имя самого известного в мире голована пишется просто – Щекн. Я сам, да и многие мои друзья произносили его, как написано – с «е». Чтец же (вернее, чтица) произносит его как Щёкн. А как произносили его авторы?
Владимир. Москва, Россия – 15.12.05
Авторы произносили ЩЕКН – от «щенка».
Вы говорите, что в «Жуке в муравейнике» нет информации в пользу ни одной из версий по поводу Льва Абалкина. А как же эпизод с голованом, отказавшимся общаться с ним, и интерпретированный Сикорски в том смысле, что Щекн учуял в Абалкине нечеловека?
Тина. СПб, Россия – 31.03.99
Не надо доверяться интерпретациям Сикорски. Экселенц болезненно зациклен на одной-единственной гипотезе. Щекн просто увидел, что у Абалкина крупные неприятности, и не захотел с ним связываться, ибо интересы стаи ставил неизмеримо выше личных симпатий-антипатий.
Почему голованы заявили, что не предоставят убежища Льву Абалкину?
Misha Holms. San Diego, USA – 25.03.00
Это как раз объясняется довольно просто. Голованы почуяли, что Абалкин каким-то образом впал в немилость у людей, и поспешили от него отмежеваться. Самым подлым образом, если угодно. Впрочем, нравственность голованов – загадка для нас, так что и понятия «подлости», «верности», «дружбы», надо полагать, сильно отличаются от наших.
Не было ли прототипа у Щекн-Иртча? Мне кажется, что если бы и был прототип, то это скорее Ваш кот, а не собака: характер у Щекна кошачий.
Дмитрий. Санкт-Петербург, Россия – 14.11.00
Прототипа у Щекна не было, но Вы совершенно правы: характер у него, скорее, кошачий.
После визита к голованам, Сикорски говорит: «Голованы почуяли, что он (Абалкин) не человек, и демонстрируют свою лояльность». На мой взгляд, Щекн был очень обижен на Абалкина, значит, нечеловечьего ничего не почуял (хотя он и ракопаука на Надежде не учуял). Кто ошибся – я или Сикорски? И если не я, то почему Максим не поправил начальника?
Игорь Рогов. Ростов-на-Дону, Россия – 14.06.05
Сикорски безусловно был (по-своему) прав. Правда, Щекн почуял вовсе не «нечеловечность» Абалкина, а, скорее, то обстоятельство, что Абалкин поссорился с человечеством. И почуяв это (и будучи настоящим голованом), моментально принял сторону человечества. Голованы всегда принимают сторону сильного – это норма их морали.
Почему никто из ушедших жителей «Надежды» не вернулся назад, а вместо них начали прибывать ракопауки?
Николай Саква. Королев, Россия – 02.12.01
Почему жители Надежды предпочли новый мир старому, я не знаю. Я не уверен даже (как и Сикорски), что Странники спасали население, а не планету (от населения). А вот почему «начали прибывать ракопауки», – это довольно очевидно. И ракопауки, и гигантские хищные бабочки, и «фальшивые» аборигены, и куклы-паяцы, и магазины-шкатулки – это все машины Странников, служащие для заманивания и отлова оставшихся еще на планете людей.
Описывая болезнь жителей Надежды, Вы имели в виду некий медико-биологический феномен, обнаруженный у нас на Земле, или это метафора, отражающая логарифмическую зависимость прироста уровня психологического развития среднего человека на Земле от времени, когда большинство населения Земли, имея тело 60–80 летних стариков, имеют уровень развития подростков или чуть старше?
Подкидыш. Ногинск, Россия – 20.09.05
Нет, «бешенство генных структур» – это не метафора. Это болезнь, которую мы придумали сами, и спустя пяток лет очень удивились, прочитав, что такая же болезнь (с той же симптоматикой) существует, оказывается, на Земле, в наше время, – хотя встречается, к счастью, достаточно редко.
Как говорят хонтийцы, «одной ногой в канаве» – это придумано авторами или взято из какого-то экзотического фольклора?
Игорь. Киев, Украина – 10.03.04
Придумано авторами.
Какой эпиграф к «Жуку в муравейнике» вы считаете лучше – в издании 1982 года или 1996? Заранее благодарен.
Алексей Константинов. СПб, Россия – 16.02.00
Я не совсем понимаю вопрос. Если Вы имеете в виду издание ЖВМ в сборнике «Белый камень Эрдени» (1982, Лениздат), то там эпиграфа нет вовсе: его мы были вынуждены выбросить под давлением идиота-редактора, которому кто-то по секрету сообщил, что «Стояли звери… и т. д.» – это слегка переделанная маршевая песня гитлерюгенда (!). Единственно же правильным эпиграфом является стишок, который придумал мой шестилетний сын:
Стояли звери
Около двери,
В них стреляли,
Они умирали.
– «…Не бывает же такой профессии – журналист?…» – это Ваша такая маленькая месть всем журналистам? А за что, интересно? Или Вы искренне не видели места вечно мельтешащим и лгущим представителям второй древнейшей профессии в Светлом будущем?
Ариф Гэзалов. Москва, Россия – 15.03.00
Мы, действительно, помнится, хотели этим сказать, что в описываемом обществе такой профессии – «журналист» – не существует.
Почему Абалкин, профессиональный шпион, так тупо полез «штурмовать» музей? Ведь он не мог не понимать, что его там ждут? Или у него «крыша хронически протекала», судя по описанию детства?
Сергей Манаков. СПб, Россия – 21.12.03
Абалкин и думать не думал «штурмовать Музей». Он просто пришел в Музей на свидание к своей любимой женщине. Ему и в голову не приходило, что его там ждут. Кто? Зачем? Чего это вдруг?
«Хромая судьба»
Роман «Хромая судьба», в отличие от других, весьма тщательно выписанных, производит некоторое впечатление сделанного наспех, при всех его несомненных достоинствах. Я имею в виду внешнюю повесть. Начало от «Пять ложек эликсира» так и осталось без конца. В чем тут дело?
Дмитрий. Новосибирск, Россия – 05.07.98
Роман «Хромая судьба» весь состоит из начатых и незаконченных историй. Таков был замысел авторов, пытавшихся писать о жизни в формах самой жизни, а жизнь, как известно, именно из таких незаконченных историй в значительной степени и состоит. (Даже истории, казалось бы, прекращающиеся со смертью героя, на самом деле, как правило, не прекращаются, а имеют продолжение – с началом, но без явной и определенной концовки.)
Что касается «Пяти ложек», то сценарий этот был написан спустя несколько лет после романа для студии «Беларусьфильм», но снят оказался много позднее и совсем на другой студии. Сценарий, по определению, есть литературная форма, которая должна иметь конец или, как минимум, развязку. Что мы и реализовали. Без особого, впрочем, успеха.
Почему, кроме «Гадких лебедей», есть еще и «Хромая судьба», дополненная «…лебедями»? (В «Гадких лебедях» ни слова о Ф. Сорокине…)
Seda. Переславль, Россия – 24.10.98
Мы взяли «Гадкие лебеди» в качестве содержимого Синей папки, потому что не знали, чем еще эту папку заполнить, а заполнить ее было необходимо – это мы чувствовали. Сначала мы хотели вставить туда первую и вторую главу «Града обреченного», но потом нам стало жалко рвать роман на куски, и мы решились насчет «Лебедей». Этот роман, как нам казалось, полностью подходит по ситуации – его вполне мог бы написать именно Ф. Сорокин, и он (роман) превосходно пересекается с тем, что происходит в «Хромой судьбе».
Не кажется ли Вам, что ГО и ГЛ гораздо ближе друг к другу, нежели каждый из них по отдельности – к ХС. Напрашивается определение мира ГО как «прошлого», а мира ГЛ – как сопоставления «настоящего» и «будущего». А вот внешняя часть – ХС, выбивается из этого ряда, и возникает ощущение какой-то «приклеенности».
Антон Светличный. Ростов-на-Дону, Россия – 16.12.99
На мой взгляд, ГЛ подходят для роли Синей Папки идеально: ЭТО типичный «тайный» роман; он написан писателем, очень похожим на Феликса Сорокина (прообразом коего был у нас избран АНС); он содержит в себе те идеи, что всегда интересовали и мучили Феликса Сорокина; наконец, он написан с явными аллюзиями на тот мир, который в реальности Ф. Сорокина окружал. Даже если бы мы придумали роман-вкладыш специально, вряд ли он подошел бы к ХС лучше, чем ГЛ.
«Гадкие лебеди» – вещь принципиально конечная, написанная ради своего конца. Он (конец), наверняка, был придуман (хотя бы концептуально) ДО начала работы над рукописью. По моему мнению, «Град обреченный» ничуть не менее достоин быть парой «Хромой судьбе».
Александр Бачило. Москва, Россия – 02.01.00
Ошибаетесь самым решительным образом. В первоначальном варианте ГЛ кончалась словами Голема: «Бедный прекрасный утенок!» Этот конец, действительно, был придуман заранее, а нынешней последней главы изначально не существовало вовсе. Мы придумали ее по просьбе редакции, в жалкой, попытке придать хоть немножко оптимизма этой мрачной повести. Но в результате сделали ее, кажется, еще мрачнее.
В «Хромой судьбе» одна из линий повествования идет от лица писателя. В какой мере его образ (мыслей, поведения) похож на ваш? Существует ли Ваша «синяя тетрадь», которая только для Вас?
Михаил. Киев, Украина – 29.04.00
Прототипом Феликса Сорокина был избран АН. Получился довольно похож – во всем, включая образ мыслей. «Синей же тетрадью» мы поначалу считали «Град обреченный», а потом заменили его на «Гадкие лебеди» – повесть с судьбой, очень подходящей для «Синей тетради».
Перечитывая намедни «Хромую судьбу» – один из самых любимых романов АБС, обратил я внимание вот на что. Разговор в клубе о поэте Косте Кудинове:
«А что я? – агрессивно произнес Жора. – Хотел ему морду набить, так ведь он был тогда здоровенный, штангист, разрядник, понимаешь, а у меня обе ноги прострелены…»
И эпизод тем же вечером в бирюлевской больнице с тем же Кудиновым:
«Я был гораздо сильнее его и понял, что удержать его могу, а в случае чего могу и вовсе скрутить, так что приступ первой паники у меня миновал и остался лишь брезгливый страх…»