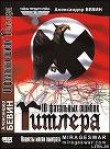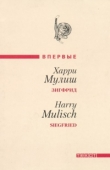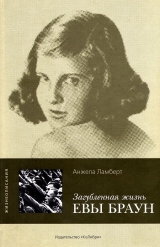
Текст книги "Загубленная жизнь Евы Браун"
Автор книги: Анжела Ламберт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц)
Кульминацией всего года для детей была рождественская ярмарка, проходившая в каждом немецком городе в течение четырех недель поста перед Рождеством. В центре главной площади стояла смолистая сосна, увешанная тонкими серебряными лентами дождика, переливающимися от малейшего дуновения ветерка. Прилавки украшались сосновыми ветками, еловыми шишками, остролистом с красными ягодками и омелой. Между ними извивались гирлянды разноцветных фонариков, горевших благодаря свистящим газовым баллонам. Острый запах жареного лука и шипящих на огне колбасок, пряный аромат толстых имбирных коврижек Lebkuchen,сладких глазированных яблок, горячего пунша, глинтвейна и кофе. Висящие в ряд пряники в форме звезд или елочек, политые цветной сахарной глазурью. Звонкое пение рождественских гимнов (настоящие певцы, а не гремящие из динамиков аудиозаписи). Оркестр, дующий что есть мочи в блестящие медные трубы. Святой Николай в плаще и отороченном мехом колпаке, приносящий подарки только хорошимдетям – они-то знали, что не всегда вели себя хорошо, но знал ли он? Все пять чувств обострялись до предела, и многие детишки начинали рыдать, не выдерживая нервного перевозбуждения. Моей маме особенно запомнилось выступление уродцев в одной из палаток на рождественской ярмарке в Гамбурге. Представление проходило сразу по окончании Первой мировой войны, и похоже, что некоторые из выставленных напоказ калек («человек без ног» или даже «человек без лица») получили свои странные увечья в бою и, демонстрируя их любопытной толпе, пытались пополнить ничтожные армейские пенсии. Они служили очередным доказательством патологического интереса немцев ко всему исковерканному, гротескному, бесчеловечному. Связь с программой эвтаназии, введенной Гитлером двумя десятилетиями позже, едва уловима, но эта смесь влечения и отвращения ко всякого рода увечьям помогает понять, почему «приличные» немецкие обыватели так легко согласились с необходимостью эвтаназии для людей, «непригодных к жизни». Это был первый шаг на пути, ведущем в конечном итоге к созданию нацистских лагерей смерти.
Эпидемия гриппа, охватившая Европу в 1919 году, унесла не меньше жизней, чем Черная смерть шесть столетий назад, разбивая семьи и внося свой вклад в общее ощущение необъяснимой катастрофы. И пришла инфляция. К 1918 году немецкая марка уже упала до четверти своей довоенной стоимости, обращая в пыль сбережения граждан. Многие погрязли в нищете, многие покончили с собой. Стремительно развивающийся черный рынок, где процветали только мошенники и спекулянты, подрывал прежние моральные устои. Состоятельные честные люди, привыкшие к эффективному управлению и неподкупности официальных лиц, теряли веру в правительство. Возник так называемый «мораторий на нравственность» в личном кодексе каждого, поскольку необходимость и здравый смысл подсказывали: в целях выживания позволено использовать любые средства, пусть даже самые предосудительные. Тем временем инфляция продолжалась, и к 1923 году установилась бартерная экономика, на которой крупно наживались фарцовщики. Одним из наиболее радикальных последствий этого экономического хаоса стало обостренное восприятие евреев как коварных финансовых манипуляторов и паразитов. Пострадавшие от гиперинфляции готовы были приветствовать антисемитизм.
Племянница Фанни Гертрауд помнит свое изумление, когда, приехав в гости к Браунам (впрочем, это, видимо, было много лет спустя), она обнаружила, что Фритц не принимает участия в семейных обедах и ужинах за общим столом, а ест отдельно от всех в своем кабинете, служащем одновременно и спальней. Приходя домой, он удалялся в эту комнату и сидел там безвылазно: играл с кошкой, настраивал радиоприемник или составлял план занятий, проверял домашние работы или читал, Гертрауд полагает, что «они [то есть Фритц и Фанни] не понимали друг друга. И, насколько я помню, всегда спали в разных комнатах. Они не были близки в браке. Но в те дни семейная жизнь была окружена бесчисленными табу, и подобные вещи не обсуждались. Их держали в тайне». Напряжение то и дело выплескивалось в безобразные скандалы, которые дети в тесной квартире на Изабеллаштрассене могли пропустить мимо ушей. Как часто бывает, Фанни выбрала мужчину, чей характер во многих отношениях походил на характер ее отца. Жесткий и деспотичный, эгоистичный и лишенный чувства юмора, он ожидал от жены полного подчинения во всем (то же самое можно сказать о многих немецких мужьях того времени). Впоследствии их дочь Ева точь-в-точь повторила выбор матери.
Второго февраля 1919 года (за четыре дня до седьмого дня рождения Евы) поразительное, практически немыслимое событие потрясло семью Браун. Фритц и Фанни формально разошлись. Он, суровый протестант и глава семьи, и она, благочестивая католичка, отказались от своих ревностно соблюдаемых принципов, чтобы пойти разными дорогами. Неизвестно, что именно послужило причиной расставания, хотя очевидно, что темпераменты супругов не совпадали. Последующие поступки Фритца (говорят, когда ему уже было под восемьдесят, у него была любовница в Берлине) позволяют предположить, что, несмотря на свои напыщенные манеры и строгие моральные принципы, навязываемые дочерям, он был не самым верным из мужей. Если действительновсплыл какой-нибудь его роман или, быть может, французская мамзель,оставленная во Фландрии, Фанни вряд ли могла с этим смириться. Она была далеко не пуританка – любила хорошую еду, красивую одежду, веселые компании. Но гордость не позволила бы ей стерпеть супружескую измену. Фритц постепенно отдалился от остальных членов семьи; но сделал он это по собственной воле или его заставили? Если даже он сам так хотел, задается вопросом Гертрауд, было ли это достаточным основанием для того, чтобы его жена забрала трех дочек и ушла?
Пока что Фритц продолжал жить в мюнхенской квартире, а Фанни увезла дочерей (на тот момент десяти, семи и четырех лет) к своим родителям в Байльнгрис, чтобы попробовать как-то устроиться. Правда, мать Фанни, набожная Йозефа, крайне не одобряла раздельного проживания супругов. Вечером она слушала, как девочки читают молитву перед сном, а днем пыталась образумить дочь, приводя, вероятно, в пример эпизоды из собственной семейной жизни.
Между тем было принято решение отдать Еву в местную дневную католическую школу – несомненно, ту же самую, что посещали ее мать и тетки. Она осталась с бабушкой и дедом, а Фанни с Ильзе и Гретль вернулась в Мюнхен и снова поселилась дома. Новая школа Евы была «народной школой» – вроде нашей начальной. Если верить г-ну Максу Кюнцелю, архивариусу Байльнгриса, Ева проучилась там несколько месяцев, не больше. Школьные документы того периода сохранились в городском архиве, но в них нет упоминания о Еве Браун. Как ни странно, ее имя не фигурирует и в списке учащихся. Однако бывший мэр Байльнгриса, ныне покойный Макс Вальтирер, а также покойный хозяин пивоваренного завода Франц Шаттенхофер и Мария Краусс из Байльнгриса (в 2004 году, в возрасте девяноста двух лет, она была еще жива) помнят, как учились в школе с Евой в 1920–1921 годах. Мария Краусс свидетельствует: «Ева была дружелюбной девочкой, мы с сестрой любили играть с ней. Она была городская,со стрижкой под пажа и в белых носочках, но быстро подружилась с нами, деревенскими». «Эти дружеские связи не прерывались до самой смерти фрау Гитлер», – подтверждает Вольфганг Бранд, врач из Байльнгриса, чья семья на протяжении нескольких десятилетий общалась с семьями Браун и Кронбургер.
Судя по фотографиям того времени, школа сильно смахивала на традиционный сиротский приют, хотя, по всей видимости, в нее принимали и детей из благополучных семей. На официальной школьной фотографии примерно от 1920 года, сохранившейся в фотоархиве городской библиотеки Мюнхена, изображена группа учеников под присмотром монахини. Среди них есть и Ева. На другом снимке из личных альбомов Евы с подписью «В монастырской школе. Байльнгрис» выстроились в ряд несчастные сиротки. Сорока годами раньше похожие фотографии запечатлели взъерошенных уличных детей на грани голодной смерти, которых приводили к доктору Барнардо в Лондоне в 1880-х годах. На этих побитых, отчаявшихся маленьких девочках лежит та же печать невыразимого страдания. Еве было плохо в школе, и она явно не знала безмятежного счастья в доме родителей матери. Летние каникулы – одно дело, а принудительная разлука с родителями, друзьями и семейным бытом в семь лет – совсем другое.
«После Первой мировой войны в Мюнхене, где жила семья Браун, настали неспокойные времена, – объясняет Макс Кюнцель. – Может быть, поэтому они отослали Еву к бабке с дедом и записали в «народную школу». Его предположение подтверждает Вольфганг Бранд, который помнит, что Фанни приходилось сдавать внаем комнаты, чтобы семья не увязла в долгах. Куда девался Фритц, неизвестно: учитывая недостаток средств, он вполне мог спать на полу в своем кабинете.
Ева и моя мать росли в схожих респектабельных буржуазных семьях, хотя и в противоположных концах Германии – Ева на юге, в Баварии, а мама на самом севере, в Гамбурге. Забавное совпадение: в 1924 году, когда маме было двенадцать, ее родители тоже расстались, но, в отличие от супругов Браун, так никогда и не сошлись вновь. Рано пережитый распад семейного союза, прежде казавшегося девочкам нерушимым, в значительной степени объясняет, почему и Ева, и моя мать считали брак высшим благом. Становится ясно, почему Ева больше всего на свете жаждала стать законной супругой и воспринимала нежелание Гитлера жениться на ней как личное поражение. И почему моя мать оставалась замужем за отцом, типичным немногословным и замкнутым англичанином, которого в восемь лет отправили в публичную школу-интернат. За первые пятнадцать лет брака она получила от него желанное ощущение стабильности, но он не способен был удовлетворить ее острую потребность в развлечениях, похвалах и бурных эмоциях.
В Германии двадцатых годов разводы случались крайне редко, несмотря на расцвет декадентства в ночных клубах Берлина между двумя войнами. Но упадничество распространялось на очень ограниченные круги. Незыблемость брака, широко проповедуемая церковью и государством, считалась настолько естественной, а его преждевременный разрыв – таким позором, что моя мать всю жизнь стыдилась развода родителей. Мне было за пятьдесят, и я уже почти тридцать лет как развелась, когда она рассказала мне об этом. И для нее это было ужасное, унизительное признание. Впервые я поняла, почему она так жестоко делала различия между своими родителями, боготворя отважную, чувствительную мать и зачастую пренебрегая отцом. Она так никогда и не простила ему, что он покинул ее, когда она была наиболее впечатлительна и беззащитна. Если параллель верна, то Ева тоже так и не простила своего отца.
О том, как сказались такие потрясения на трех девочках, можно только гадать. Но тот факт, что это вообще произошло, да еще в то время, когда развод и раздельное проживание супругов категорически осуждались в обществе, говорит о том, что что-то очень и очень не заладилось между мужем и женой. На протяжении восьмидесяти лет инцидент был глубоко погребен, пока Гертрауд, изучая историю семьи, не наткнулась на документы в мюнхенском архиве – к несказанному своему изумлению. Она ни разу в жизни не слышала ни о чем подобном. Что на самом деле кроется за этой запутанной цепочкой событий, остается загадкой, но в 1922 году супруги Браун снова стали жить вместе в апартаментах на Изабеллаштрассе. Они официально воссоединились (возможно, даже заново заключили гражданский брак) 16 ноября 1922 года. После этого Фритц и Фанни Браун оставались мужем и женой в течение сорока лет и, видимо, жили в относительном согласии.
Зимой в Мюнхене, когда температура опускалась ниже нуля, семья Браун каталась на коньках на городских катках, выписывая круги в ярком свете фонарей. Ева была отличной фигуристкой – на фотографиях она уверенно скользит на одной ноге, высоко подняв другую. Фанни Браун в отрочестве была чемпионкой по лыжам, и семья иногда ездила кататься в Баварские Альпы. По выходным, когда девочки достаточно подросли, они все вместе ходили на оперетты или в кино. Отсюда страсть Евы к китчу в искусстве – романтической музыке, сентиментальным и приключенческим фильмам. У них дома стояло пианино, и Ева брала уроки музыки. Наверное, они ей нравились, иначе не продлились бы долго. У Фанни был красивый певческий голос. Сестрички Браун, как и девочки Шрёдер (моя мама и ее сестры), принадлежали чуть ли не к последнему поколению людей, собиравшихся вокруг инструмента, чтобы попеть для собственного удовольствия. Сегодня нас по пятам преследует электронный звук. Нам даже представить себе трудно, насколько часто и много люди пели в прежние времена, сами того не замечая. Работая и гуляя, в компании друзей и детей, женщины пели так же естественно, как говорили. Заводной граммофон оказывал значительное культурное влияние, и благодаря огромному количеству пластинок (78 оборотов в минуту) и музыкальных изданий все знали наизусть тексты популярных шлягеров и даже арий, особенно опереточных.
Еву и мою мать Диту учили читать молитвы, уважать и слушаться своих родителей, учителей, да и любого взрослого человека. В двадцатых годах правила в семье устанавливали взрослые, исходя при этом из соображений собственного комфорта. Если родители не могли позволить себе прислугу, то девочки должны были помогать на кухне и в прочих повседневных хозяйственных делах. Мальчиков это, разумеется, не касалось – с детьми разных полов обращались очень по-разному. Сыновей воспитывали мужественными, смелыми, немногословными, прилежными учениками и галантными кавалерами. «Мужественным» считалось не проявлять эмоций, и если материнские объятия время от времени допускались, то отца молодые люди никогда не целовали. Они ограничивались рукопожатием или, если состояли на военной службе, отдавали честь. Девочки же должны были быть ласковыми, глуповатыми и легковозбудимыми, бояться мышей, пауков, насекомых. Тщеславие поощрялось: многие родители придерживались мнения, что женщине полезнее быть красивой, чем умной.
Целомудрие между полами соблюдалось строжайшим образом. Гигиена почиталась превыше всего, но, хотя вся семья пользовалась одной ванной комнатой, дети никогда не видели родителей без одежды, а мальчики и девочки не мылись вместе. Культ здорового духа в сильном и невинном теле достиг апогея. Мальчикам и девочкам внушалась необходимость активных занятий физкультурой дома и в школе, желательно на открытом воздухе, еще лучше в холоде. Люди спали с открытыми окнами даже в морозные ночи. Моя мать еще помнит, как каждое утро должна была выскакивать из постели, широко разводить руки и наполнять легкие свежим воздухом. «Tief atmen!– командовал ее отец. – Дыши глубоко!» « Tief atmen, zwölf mal… eins, zwei, drei… langsam, Schatzchen… vier, funf, seeks…» [4]4
«Дыши глубоко, двенадцать раз… раз, два, три… не торопись, солнышко… четыре, пять, шесть…» (нем.).
[Закрыть] .Тридцать лет спустя она заставляла меня делать то же самое – так глубоко укоренилась привычка.
В 1925 году, когда Еве было тринадцать и семья воссоединилась, Брауны переехали в более просторную квартиру неподалеку от прежней, в районе Швабинг-Вест. Она располагалась на четвертом этаже многоквартирного дома в нескольких кварталах от торгового центра Мюнхена. В двадцатые годы адрес «Гогенцоллернштрассе, 93/III» считался весьма престижным, пусть и с некоторым оттенком богемности. На рубеже веков, особенно в период ар-деко, Швабинг славился поколением беспечной авангардной молодежи – художников, поэтов, джазовых музыкантов, безудержно предающихся свободному искусству, стихоплетству, танцам и любви. Район, прежде застроенный изысканными зданиями в стиле модерн, сровняли с землей бомбы союзников, и теперь его по большей части заполонили скучные современные постройки. Однако квартира семьи Браун уцелела. Нанесенные бомбами повреждения военного времени были устранены, и апартаменты снова составляют часть ухоженного, симпатичного дома. Их окна выходят на Гогенцоллернплатц, приятный скверик с деревьями и детскими качелями. На первом этаже теперь находится аптека Spitzweg-Apotheke(во времена Евы там была пекарня).
В 1924 году, после четырех лет обучения в «народной школе», двенадцатилетнюю Еву Браун отправили в женский католический лицей в Мюнхене на улице Тенгштрассе, совсем недалеко от дома. Это казалось необычно в то время – только одна девочка из двадцати пяти посещала среднюю школу, где преподавались науки, а не ведение домашнего хозяйства. И только девять процентов из них ходили в лицей, открывающий дорогу к высшему образованию. Решение родителей отражало как либеральное воспитание матери (все девочки готовились к освоению профессии), так и склонность преподавателя Фритца ценить выгоды хорошего образования. Новая школа подходила Еве. Здесь, в отличие от мрачной монастырской школы в Байльнгрисе, она находилась в центре внимания. В лицее царила веселая атмосфера свободомыслия, учителя придерживались широких взглядов и были высокого мнения о Еве. Живая, общительная, любопытная и сообразительная, она определенно обладала качествами лидера и была способной, успевающей ученицей.
Но она не умела или не желала сосредоточиться. «Любое безобразие в классной комнате было ее рук делом, – вспоминала ее учительница фрейлейн фон Гейденабер. – Ева была ужасная шалунья, но вместе с тем умница. Она легко улавливала самую суть предмета и проявляла признаки независимого мышления». Ева Браун могла бы прекрасно справляться со всеми заданиями и получать хорошие оценки, если бы несколько серьезнее относилась к учебе. Но увы. Ей казалось, что популярность гораздо важнее.
Вскоре она начала искать внимания не только девочек, но и мальчиков. К пятнадцати годам Ева была полненькой, с толстыми ногами, но уже понимала, что главное – заманчивые обещания. Она вовсю флиртовала, копируя жесты любимых киноактрис, их остроумные реплики, их искусительную смесь бравады и лукавства. В сочетании с живостью и жизнерадостностью Евы юноши находили все это чрезвычайно привлекательным. На снимках в ранних фотоальбомах она строит глазки чисто выбритым, стройным, смеющимся молодым людям, но эти проявления подростковой дерзости совершенно невинны. Она проверяла свое воздействие на мальчиков, только и всего. Несколько моментальных снимков запечатлели Еву на мотоцикле старшего брата ее лучшей подруги Герты Остермайр вместе с другой одноклассницей. Все трое наклонились вперед, как гонщики, и хихикают в объектив. На одной фотографии Ева кокетливо сложила руки на коленях и соблазнительно улыбается через обнаженное плечико. Она была, если воспользоваться ласковым немецким словечком для девочки-подростка, типичная Backfisch [5]5
Печеная рыба (нем.).В переносном значении – юная барышня, милая, веселая, легкомысленная и сентиментальная, в увлечениях и пристрастиях ничем не отличающаяся от миллионов своих сверстниц.
[Закрыть] .
К середине двадцатых годов Фритца Брауна уже начали беспокоить брачные перспективы старших дочек. Его главной заботой было сохранить их девственность (первейшая обязанность отца по отношению к будущим зятьям). Невозможно переоценить значение, придаваемое немецкими родителями того времени целомудрию дочерей. Его требовали религиозные и общественные нормы, в особенности от католичек. Незамужняя девушка, лишившаяся невинности, была живым упреком отцу и позором для всей семьи. Уберечь Ильзе не составляло труда: она развивалась медленно и робела в присутствии молодых людей. А вот с Евой родителям приходилось несладко. Ее отроческие годы протекали в противостоянии отцу, в борьбе за право быть собой. Ему, кажется, никогда не приходило в голову, что она была не просто ветреной школьницей, ищущей одних развлечений. За маской эгоцентризма, за актрисой, жаждущей внимания и аплодисментов, скрывался кто-то менее тривиальный и более интересный. По настоянию матери Ева ходила в церковь, посещала мессы и уроки катехизиса. Неудивительно, что она прошла через период доведенного до крайности религиозного рвения. По словам ее дяди Алоиса: «Ее ревностное благочестие не раз ставило ее отца в неловкое положение. Иногда во время совместной прогулки они встречали одного из ее учителей богословия, и Ева приветствовала его словами «Хвала Господу», а Фритц, пусть и не особо шокированный, неодобрительно качал головой». Впоследствии ее религиозный пыл поутих, а походы в церковь сделались редки и нерегулярны, но она никогда не забывала о том, что жизнь ставит перед человеком моральные дилеммы, о том, насколько важен выбор своего пути.
Как утверждает Генриетта Гофман, Фритц Браун строил далеко идущие планы в отношении дочерей и был исполнен решимости заставить их усердно трудиться и достигать успехов в школе. Скорее чтобы стать достойными образованного мужа, чем для заложения основ собственной карьеры. Ева могла бы быть первой ученицей в классе, как ее добросовестная сестра Ильзе, но отказывалась прилагать усилия. К огорчению отца, ее оценки в лицее не улучшались. Учителя продолжали хвалить ее способности и сетовать на ее лень. География и история, грамматика и математика, будущее Германии, ее политика, вожди, лозунги, инфляция – все это не интересовало Еву. Несмотря на небрежное отношение к учебе, она окончила школу с несколькими похвальными грамотами, свидетельствующими о наличии у нее интеллектуальных задатков. Кузина Гертрауд сообщила, что ни одна из сестер Браун не получила аттестата о среднем образовании, что странно, принимая во внимание уважение их родителей к академическим достижениям. Это означало, что все они покинули школу без перспективы университетского образования и должны были сразу идти работать.
В 1928 году Ева полагала, что пришла пора зарабатывать на жизнь, поскольку ей уже шестнадцать споловиной и учеба в школе завершена. Однако родители решили, что сперва следует укротить ее нрав, улучшить манеры и привить такт, если она хочет когда-нибудь найти приличную работу, не говоря уже о приличном муже. Годик-другой в пансионе благородных девиц при каком-нибудь монастыре пошел бы ей на пользу. Подобные заведения обучали своих воспитанниц правилам этикета, в том числе и приличным манерам за столом. (Впоследствии Ева определяла социальный статус своих гостей по тому, насколько ловко они могли удалить хребет форели, чтобы остались два кусочка рыбы без костей.) Но главное, Фанни надеялась, что пансион придаст Еве культурного лоска и углубит ее религиозные чувства. Еве предстояло покинуть дом, сменить круг общения, расстаться со своими друзьями, шумными веселыми вечеринками, где ее знали и любили, чтобы провести два года взаперти с монашками. Она негодовала, плакала, закрывалась в своей комнате, но родители оставались непреклонны.
Возможно, за ее сценами таилось чувство отверженности. В течение тех лет, что семейство жило без отца, ее единственную отослали из Мюнхена в Байльнгрис. Тогда ей было всего семь или восемь, но девочки в этом возрасте вполне способны размышлять и делать выводы.
К 1928 году Ильзе было почти двадцать лет. Эту пай-девочку никогда не бранили. Тринадцатилетняя ласковая Гретль оставалась всеобщей любимицей. Недовольство Фритца Брауна в основном выплескивалось на Еву, и ей доставалось за все семейные неурядицы, бушующие за фасадом внешнего благополучия. Не из-за того ли она искала восхищения окружающих, что чувствовала себя нежеланной дома? Ева всегда противилась воле отца сильнее остальных сестер, но зачастую он критиковал ее несправедливо. Она была хорошей девочкой католического воспитания, старалась, пусть и без должной усидчивости, хорошо учиться в школе. В глазах Евы это выглядело так: она не делает ничего плохого, разве что сплетничает и хихикает с подружками да заигрывает с неуклюжими мальчишками. А они снова собираются отправить ее в ссылку!
Выбранный родителями монастырь Английских Сестер находился в маленьком городке Зимбах в 120 километрах к северо-востоку от Мюнхена, прямо на границе с Австрией. Неясно, где Фритц Браун взял деньги на оплату дорогого пансиона, но, может быть, ему помог «господин доктор ветеринарии» Кронбургер. Только одна фотография той поры осталась в альбоме Евы. Группа флегматичных девочек с несчастным видом, без улыбки смотрит в объектив. Туго заплетенные косички, уродливая униформа. Жертвы твердой решимости сестер подавить любое проявление сексуальности и жизнерадостности. Еда в монастыре была жирной, нездоровой – Ева поправилась на пять килограммов, из-за чего ее хорошенькое личико округлилось, тело и ноги потолстели. Одна из монахинь вспоминала много лет спустя, что у Евы не было близких друзей в пансионе – что немыслимо, когда речь идет о таком общительном человеке. Недовольной, одинокой, скучающей, ей нечем было развлечься, даже если представлялся случай выбраться из монастыря.
Зимбах – маленький провинциальный город, значимый лишь потому, что расположен на реке Инн, на самой границе. Напротив него в Австрии лежит городок Браунау-ам-Инн, где родился Гитлер. Монастырь стоял на немецкой стороне. Мост, начинавшийся всего в полумиле от места «заточения» Евы, пересекал границу и реку и выходил на австрийскую сторону, прямо на главную улицу Браунау. Зимбах может похвастаться несколькими зданиями баварского барокко – но Ева среди них выросла. И пышным убранством католических церквей – но на жаждущую веселья девушку они могли только наводить уныние.
Оба города были консервативны и чопорны, они отражали систему ценностей Алоиса Гитлера, представительного таможенного чиновника, пользовавшегося престижем своей должности, чтобы помыкать подчиненными, семьей и, что особенно важно, сыном – двадцать пять лет назад.
В монастыре сейчас располагается дом престарелых, где по сей день хозяйничают Английские Сестры. Теперь они пекутся о беспокойных душах больных стариков, направляя их к благочестивой кончине. Изнутри элегантные здания начала девятнадцатого века были полностью переоборудованы в соответствии с современными стандартами, но в них сохранилась гнетущая атмосфера закрытого авторитарного заведения. Низкие, узкие двери по сторонам низких, узких коридоров ведут в низкие, тесные комнаты. Взад-вперед скользят монахини в белых апостольниках и черных одеяниях. Никто не помнит Еву – ее наставницам сейчас уже перевалило бы за сто. К тому же монастырские записи, в том числе и школьные, утеряны или уничтожены. Нынешняя мать настоятельница подтвердила, что Ева была воспитанницей пансиона, добавив: «К нам до сих пор многие приходят с расспросами». Но больше ничего не поведала. Фрейлейн Браун явно остается щекотливой темой для Сестер.
Уныние, которое я ощутила во время своего визита в августе 2004 года, вполне возможно, сохранилось еще с тех времен, когда здесь училась Ева. Ненавидя монастырь и улыбающихся непреклонных монахинь, она мучилась и изводилась под гнетом строгого режима, угрожала убить или покалечить кого-нибудь, если ее вынудят находиться здесь и дальше, клялась сбежать в Вену. Наперекор воле родителей она категорически отказалась оставаться еще на год. И добилась-таки своего. Всего через девять месяцев Ева покинула монастырь. Не в 1930 году, как хотели ее родители, а в июле 1929-го, на год раньше. Второй раз она не смогла получить аттестат, уходя со «справкой о среднем образовании». Не потому, что была глупа, вовсе нет. Просто, как и прежде, она относилась к учебе несерьезно. Последний отчет из монастыря звучал уничижительно: «Ваша дочь умна и честолюбива… но не заинтересована в успеваемости и считает наши правила неоправданно строгими». За неодобрительными словами мелькает образ непоседливой девочки-подростка, бунтующей против «строгих правил», с нетерпением ждущей вступления во взрослую жизнь. Но заметьте, в лицее ее считали «способной к независимому мышлению» и «честолюбивой». Сестра Мария-Магдалена ответила одному журналисту: «Ева была честолюбива и умна, обладала красивым голосом. Она блестяще играла в любительских спектаклях. И регулярно посещала церковные службы». (Можно подумать, у нее был выбор!) Впрочем, кое-что важное в монастыре действительно сделали. Там проводился ежегодный гинекологический осмотр всех учениц, из результатов которого следует, что в семнадцать с половиной лет Ева совершенно точно была девственницей.
Двухчасовой поезд в Мюнхен отправился с вокзала города Зимбах. Это одно из немногих мест, которое в наши дни выглядит точно так же, как и когда по нему проходила Ева. Его размеры поражают: для такого крошечного городка вокзал просто огромен. Слева от рельсов находятся запасные пути, которыми сейчас редко пользуются. Вдоль них на двести метров тянется ряд гаражей из красного кирпича. Их зарешеченные окна обращены туда, где некогда подъезжающие товарные составы разгружались для таможенного досмотра. С правой стороны возвышается здание вокзала, построенное в семидесятых годах девятнадцатого века. За внушительными полукруглыми дверями расположено около дюжины пыльных полузаброшенных помещений с высокими потолками. Размеры и былую красоту этих комнат подчеркивают облезлые двери и ржавые оконные рамы, напоминающие о временах, когда все путешествовали поездом. На железнодорожных путях даже сохранились деревянные шпалы. Стоящий на платформе видит точно то же, что видела Ева, ожидая поезда в Мюнхен: одноэтажные постройки слева, убегающие вдаль рельсы. С чемоданчиком под боком, оставив позади школу, монастырь и монахинь, Ева Браун наконец-то была свободна.