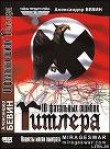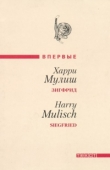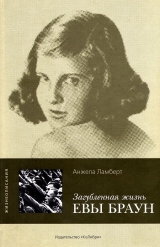
Текст книги "Загубленная жизнь Евы Браун"
Автор книги: Анжела Ламберт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц)
Глава 3
Ева, Гёте, Шуберт и Бэмби
Сознание каждого немецкого ребенка заполнено музыкой и песнями, легендами и сказками, карнавалом из мишуры и эпоса, чудовищами и феями, волками и пасхальными кроликами. Леденящий кровь ужас и приторная слащавость сливались воедино. Впервые малыши сталкиваются с этим в детской, слушая навязчивые мелодии и стихи, лейтмотивом которых часто является насилие. Темный лес, окутанный туманом, населенный волками, гномами, ведьмами и нечистой силой, только и ждущими, как похитить ребенка, ведет в потаенные глубины немецкой души и потому заслуживает особого внимания. Многие песни и истории слагались задолго до объединения, когда Германия еще была раздроблена на десятки независимых княжеств. Связующим звеном между ними и признаком национального характера было величие немецкой музыки и поэзии, а также садистская жестокость историй, которые няньки рассказывали детям, еще не научившимся читать.
Детские песни – колыбельные, присказки, прибаутки – самая устойчивая из устных традиций. Повторяющиеся вновь и вновь в возрасте, когда все пять чувств обострены до предела и каждое ощущение в новинку, они запечатлеваются в подсознании навсегда. И в следующем поколении воскресают такими же, какими были впервые услышаны в те дни, когда ребенок не умел еще ни говорить, ни петь. Самыми ранними воспоминаниями Фанни Браун и ее дочерей были старые-старые песни Шуберта и Брамса на стихи Гёте, Гейне и Шиллера. Одна из наиболее знаменитых колыбельных Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein…приписывается Моцарту, но на самом деле, возможно, уходит корнями в куда более раннюю эпоху. Происхождение ее, как и всех устных преданий, точно неизвестно, но каждая немецкая мать напевала эту колыбельную, качая люльку с младенцем, заглушая его страх одиночества: «Спи, моя радость, усни…» И глазки малыша потихоньку закрывались. Вне всяких сомнений, Йозефа Кронбургер убаюкивала так своих дочерей, а они – своих, а значит, и Еву. Моя мать своим волнующим контральто пела мне ту же колыбельную, что ее мать пела ей. Даже сейчас, когда из колонок моего компьютера доносится ее писклявая электронная версия, я ощущаю ту самую послушную сонливость. Еще одна столь же нежная мелодия – «Колыбельная песня» Брамса. И это только две из сотен, многие из которых ныне забыты.
Ребенок становился старше и активнее, а вместе с ним и песенки:
Хоп, хоп, хоп —
На лошадку и в галоп!
Через палки, через камни —
Не сломал бы шею всадник!
Каждый немецкий малыш скакал под эту песенку на жестких коленях отца, загипнотизированный очертаниями его рта и крупными зубами. Ритм сначала был мерным, затем все ускорялся до стремительного галопа, пока, вне себя от ужаса или восторга, маленькая Ева или крошечная Гретль не начинала визжать или хохотать. Fuchs, du hast die Gans gestohlen —вот еще деревенская песенка.
Ты, лиса, гуся стянула,
А ну верни, плутовка,
Не то фермер выйдет в поле
Со своей винтовкой!
Крестьянин с ружьем в руках оживал. Детские песенки приходили из породившего их мира. Ритм галопа отсылает к тому времени, когда все путешествовали верхом. В 1912 году это еще было недавнее прошлое. Дед Евы оказывал ветеринарные услуги соседним фермам, где у всех, кроме самых бедных, имелись лошади, а хозяйки разводили кур и гусей. Меньше поколения отделяло Еву от сельской жизни. Сегодня эти песни мало соотносятся с реальностью, но Фанни пела своим детям о жизни, знакомой ей с детства.
Переплетение слов и мелодий вызывает больше ассоциаций, если укоренилось в подсознании. Время от времени я ловлю себя на том, что пою про себя, под нос или – если в стельку напьюсь – во все горло, стихотворение Гейне «Лорелея» о коварной волшебнице Рейна. Эти песни несут эмоциональный заряд, не связанный с их безыскусным текстом. В минуты грусти моя мама декламировала «Маргариту за прялкой» или напевала «Дикую розу» Гете. Она начинается так: «Мальчик розу увидал…» [1]1
Перевод Д. Усова. (Здесь и далее кроме оговоренных случаев, прим. перев.)
[Закрыть]Мальчик восхищается розой и грозится сорвать ее. Роза предупреждает: если сорвешь меня, я тебя уколю. Мальчик не послушался, сорвал цветок и укололся. Незамысловатая песенка в минорном ключе не так проста, как можно предположить по ее словам и бодрым интонациям. Взрослому человеку понятно, что она – об утрате невинности, в буквальном смысле о дефлорации.Когда молодая Дита Хелпс (она сменила фамилию в 1936 году, в возрасте двадцати четырех лет выйдя замуж за моего отца, Джона Хелпса) мучилась ностальгией, одна в неприветливой Англии, где из-за ее немецкого акцента в ней видели врага, она утешала себя, напевая «Лесного царя» – положенное на музыку Шуберта стихотворение Гёте о больном мальчике на руках у отца, который скачет на коне быстрее ветра, но не может обогнать Смерть. Стихи навевали печаль, но неразрывно связывали ее с матерью и сестрами, оставшимися в Гамбурге. Их бомбили, обстреливали и обрекали на голодную смерть войска страны, подданной которой теперь официально являлась Дита. Последний раз она виделась с матерью в Гамбурге в 1939 году, но погостить смогла всего три дня из-за неизбежно надвигающейся войны. (Осознавала ли она это? А мой отец? Как же наивны должны были быть они оба.) Моя мать была далеко не глупа, но, как и Ева, на удивление плохо разбиралась в политике. Когда разразилась война, она едва ли понимала, на чьей она стороне, и хотела только одного – чтобы ее близкие не пострадали.
Мама не была интеллектуалкой, но всю жизнь ее поддерживали выученные в детстве стихи. Она помнила их наизусть и могла от начала до конца продекламировать звучные строки «Фульского короля» Гёте или «Ныряльщика» Шиллера.
Если бы немецкие дети как следует понимали слова, то могли бы задаться вопросом: отчего их колыбельные так часто повествуют о боли и жестокости, о беспощадности рока? Почему прелестная рейнская дева и дочери лесного царя заманивают людей в холодную пучину или загробный мир? Как и в сказках, где жестокое насилие скрыто за пестрыми словесами, в реальности внешние проявления тоже вводили в заблуждение. Сентиментальность и брутальность – две крайности одного порыва: жажды власти и контроля над ближним, приобретенных либо путем обманчиво-сладкоголосых уговоров, либо патологически садистскими силовыми методами. Эти невинные стихотворения воплощают основополагающие черты немецкого характера, с раннего возраста прививая способность спокойно принимать страдание и смерть как естественные составляющие человеческого бытия наравне с птичками и маленькими принцами.
Супруги Браун, как и все немецкие родители, несомненно, читали своим дочерям сказки братьев Гримм, хотя это чуть ли не самые страшные истории на свете, уводящие в мир темных лесов, сырых пещер и холодных каменных замков, где переплетены боль и ужас, сила и слабость, власть и беспомощность. Для Евы эти декорации вовсе не были готической фантазией. Половина ее жизни прошла в лесах и холодных замках, а окончилась она в сырой пещере. Сказка «Гензель и Гретель» рассказывает о двух детях, которых мачеха выгнала, потому что не могла прокормить: классическая тема отверженности, голода и нищеты. Подобные сказки уходят корнями как в древнюю европейскую культуру, так и в историю Германии. Они сочинялись в безжалостном мире, где охота на ведьм была обычным делом и сожжение на костре – публичным зрелищем. В мире, где выживал только сильнейший.
Сборник из двухсот сказок («Сказки братьев Гримм») стал одной из известнейших и важнейших книг на немецком языке. Видимо, она затрагивала какие-то потаенные струны. Собранные и опубликованные в начале девятнадцатого века, эти истории отражали жизненный опыт многих поколений крестьян, на долю которых постоянно выпадали тяготы и страдания. Если предположить, что национальный характер определяется путем анализа тем и архетипов фольклора и сказок, то братья Якоб и Вильгельм Гримм предрекали немецким детям мрачные перспективы. Волчьи стаи мародерствовали в европейских деревнях до самого начала двадцатого века. Само слово «волк» вызывало страх, который нисколько не был преувеличен или глуп. Дикий волк наводил ужас как в фольклоре, так и во многих лесах Европы. Выбранный Гитлером псевдоним «Вольф» (волк) можно трактовать в самом что ни на есть фрейдистском духе. Называя себя «господин Вольф», он, возможно, проникал в глубины подсознания гораздо глубже, чем намеревался. Пожелай он воплотить в имени свое видение Германии, «господин Адлер» (орел) был бы более уместен, но Гитлер собирался помыкать своими последователями, а вовсе не позволять им свободно парить.
В этих сказках на ночь маленькие мальчики и девочки подвергаются суровым испытаниям, а когда (и если) возвращаются, то родители чуть ли не разочарованы тем, что они выжили. Подробности их злоключений смакуются с садистским удовольствием. Маленькая Красная Шапочка в своем ярком чепчике – приманка для всякого встречного хищника – по поручению матери отправляется через темный лес, чтобы принести бабушке обед. Притаившийся за соснами волк думает: «Какое нежное юное создание! Какая чудная пухленькая закуска!» Не самая удачная реплика, чтобы нежные пухленькие детишки погрузились в глубокий безмятежный сон. В сказке «Гензель и Гретель» изображена злобная старуха-людоедка; в «Вальпургиевой ночи» описывается ночь, когда ведьмы летят на метлах сквозь тьму как предвестницы прихода Дьявола (эпизод, воссозданный в «Фаусте» Гёте). Эти атавистические кошмары оставляли след в сознании немецких детей и будоражили их воображение всю жизнь. И возможно, готовили их к жестоким поступкам.
Первым отложившимся в памяти подарком моего немецкого дедушки был сборник «Сказки Андерсена» на немецком языке. Книжка с отваливающейся обложкой и пожелтевшими зачитанными страницами до сих пор стоит у меня на полке. Оглядываясь назад, я понимаю, что дед решил подарить мне более милосердные датские истории Ганса Христиана Андерсена вместо их мрачного немецкого эквивалента (хотя это, скорее всего, произошло по чистой случайности). Нельзя, конечно, назвать сказки Андерсена веселыми или оптимистичными – «Русалочка» исполнена чистейшего садизма, – но они затрагивают излюбленные детьми темы: романтические приключения и магические задания, превращения и разоблачение, борьбу невинности со злом. В то время как сказки братьев Гримм изображают настоящие кошмары и жестокость по отношению к беззащитным детям. На форзаце книги дедушка написал карандашом: «Любимой внученьке, Рождество 1949». Краткость и выразительность надписи до сих пор трогают меня до слез. По-моему, родители никогда не называли меня «любимой». Я знаю, что дедушка очень любил меня, мы признали друг в друге родственные души с первой же встречи в Гамбурге в 1947 году, за несколько дней до моего седьмого дня рождения. Ора [2]2
Дедушка (нем.).
[Закрыть]не был похож ни на кого из семьи. Чуждый условностям, остроумный, любитель книг, он всего в жизни добился сам, был очень начитан и обладал ярко выраженной индивидуальностью. Я мечтала вырасти такой, как Ора,и он тоже на это надеялся.
Другие книги, которые родители Евы читали вслух, пока девочки не умели читать сами, имели такой же не то дразнящий, не то запугивающий характер. Чудовищный Struwwelpeter(«Лохматый Петер») с подзаголовком «Веселые истории и забавные картинки» в своем роде уникален. Это сборник смешных (для немцев, по кравшей мере) стихотворений, принадлежащих перу писателя Генриха Гофмана. Никакой связи с фотографом Гитлера – он работал во Франкфурте «врачом в приюте для душевнобольных», кем-то вроде современного психотерапевта. Свою книжку он написал в декабре 1844 года в качестве рождественского подарка маленькому сынишке, будучи уверен, что «сочиненная экспромтом смешная история успокоит маленького антагониста (здесь имеется в виду ребенок, а не душевнобольной), осушит его слезы и позволит врачевателю выполнить свой долг. <…> Книгу переплели, положили под елку, и она оказала на мальчика точно такое действие, как я и ожидал».
Struwwelpeterв нескладных виршах описывает несколько жутких наказаний, ждущих детишек за их обычные детские провинности. Девочка, играющая со спичками, сгорает дотла, мальчику огромные ножницы отрезают палец, чтобы не сосал, а мальчик, который не любит суп, умирает от голода. Нет необходимости проводить параллели с будущим. Книга удовлетворяет естественный интерес ребенка ко всему гротескному, необычному, страшному и безумному, а заодно стимулирует его собственные фантазии о садизме и разрушении. Как бы там ни было, в каждой немецкой семье ее зачитывали до дыр. Сестры Браун, как и моя мать, и их, должны были прийти к выводу, что растут в чуждом милосердию мире.
И Ева и Гитлер любили книжку в стихах с картинками «Макс и Мориц» про двух маленьких безобразников, написанную южногерманским художником, карикатуристом и поэтом по имени Вильгельм Буш. На первый взгляд его истории кажутся этакими благочинными крючками, на которые можно вешать нравоучения, но это лишь уловка, чтобы сделать их приемлемыми для родителей. На самом деле перед нами похвалы двум противным мальчишкам, способным играючи наносить увечья. Девочки Браун приходили в восторг от стихов Вильгельма Буша, не говоря уже о картинках, где толстая крестьянка в фартуке и деревянных башмаках в бессильной ярости созерцает своих драгоценных кур, ощипанных и подвешенных за клювы на бельевой веревке, или где старик в ночном колпаке обнаруживает, что его пышные пуховые перины набиты навозными жуками. Ева, надо полагать, хохотала. Мы с мамой тоже. Замешательство высокомерных взрослых действительносмешно.
Став постарше, Ева и ее сестры прочли «Хайди» Иоганны Спири, приторную историю о девочке-сиротке, живущей с дедушкой в горной швейцарской деревушке, очень похожей на те, что девочки Браун видели в Баварских Альпах. И еще «Бэмби» Феликса Зальтена, австрийского писателя еврейских кровей. Это книга об олененке, который с самого рождения познает безжалостность природы и человека. Как раз такого рода сентиментальные истории нравились Еве. «Бэмби» – гимн закону джунглей и выживанию сильного, но в нем можно усмотреть и политическую аллегорию притеснения евреев в Европе. По крайней мере, так считали нацисты. Поэтому в 1936 году книга была запрещена.
В отрочестве Ева пристрастилась к рассказам популярного немецкого автора Карла Мая о приключениях на Диком Западе. (Мальчишкой Гитлер тоже обожал эти истории.) Как ни странно, она также была поклонницей Оскара Уайльда. С ее растущей склонностью к мелодраме и флирту, она, вероятно, воображала себя Саломеей, очаровывающей злодея Ирода. Декадентские декорации «Саломеи» и лежащая в ее основе тема обретения власти через наслаждение, роскошь и жестокость словно предвещали судьбу самой Евы. Как бывает со всеми впечатлительными детьми, в потаенном уголке души она хранила яркие выразительные слова услышанных песен и прочитанных книг. Всю дальнейшую жизнь они питали ее воображение и во многом определяли восприятие окружающих людей – в первую очередь господина Вольфа.
Глава 4
Скучные уроки и веселые игры
Когда Первая мировая война окончилась, все клялись, что это была последняя война на свете. Больше войны не будет. Никогда. Для Франциски с детьми, в отличие от многих других немецких семей, она прошла сравнительно безболезненно. Фритц снова находился дома, без телесных повреждений, правда, с глубокими психологическими травмами, которые вскоре нарушили гармонию в семье Браун. Он был призван в баварскую армию как офицер запаса, а вернулся лейтенантом. Его жена и дочки провели военные годы в безопасности, не испытывая чрезмерных лишений. А вот на долю Фритца выпали страх, холод и разбитые мечты. Он был измучен зрелищем бессмысленной кровопролитной бойни. Его скверное состояние духа отражало настроение всей Германии, потерпевшей крушение своих военных амбиций, унижение империи. Но ему повезло уйти с фландрийского фронта более или менее целым. В 1919 году он пришел домой, надеясь провести остаток жизни в мире и семейном уюте. И, в каком-то смысле, мир он обрел. Дорогостоящий, шаткий мир, навязанный карательным Версальским договором обиженному, недовольному народу.
Война унесла два с половиной миллиона жизней и оставила за собой четыре миллиона раненых, потрясла и деморализовала Германию. Старые устои рухнули, и в ноябре 1918 года кайзер Вильгельм II, последний из династии Гогенцоллернов, отрекся от престола. Германия была объявлена республикой, но упадок продолжался. Война породила целое поколение старых дев, которые, оставив надежду стать женами и матерями, подались на работу. Многие безработные мужчины крайне враждебно относились к таким женщинам, считая, что те занимают их рабочие места. Их мир изменился, новые порядки задевали их мужскую гордость. В такой гнетущей обстановке общество трещало по швам, не говоря уже о семьях.
Выбиваясь из сил, чтобы обеспечить жену и детей, Фритц Браун становился все более непредсказуемым и замкнутым. Фанни, вероятно, была слишком занята девочками и не имела времени вытаскивать его из депрессии или дать ему возможность поделиться пережитым. А он возмущался нежеланием жены сосредоточить на нем все свое внимание и уважать перенесенные им испытания. Лицо его, как видно по семейным фотоальбомам, приобрело новое, еще более суровое выражение – прищуренные глаза, искривленная линия рта. К сорока годам (в 1919 г.) он потерял почти все волосы и стал упрямым, своенравным деспотом, уверенным, что три его дочери донельзя избалованы снисходительной матерью. Мечта о прочном браке, почтительных детках и домашнем уюте не сбылась. Семья, очевидно, прекрасно справлялась без него и даже не слишком радовалась его возвращению. Фритц не осознавал, что он, как и многие, кто принимал участие в боях, изменился сам. В ноябре 1918-го Ильзе было девять, а Гретль едва научилась ходить, но, даже будучи совсем крохами, девочки уже сопротивлялись его власти. Ева изменилась больше всех. Она привыкла, что люди не остаются равнодушными к ее хорошенькому личику и обаянию, и старалась угодить отцу, но ничто не могло развеять его беспросветное уныние. Поборник суровой дисциплины, он пытался укротить ее непринужденную самоуверенность. Переполненная шумная квартира на Изабеллаштрассе в присутствии главы семьи становилась тихим и угрюмым местом.
В последующие годы Фритц вернулся на прежнюю должность преподавателя ремесел и технических дисциплин. Что особенно важно, он стал убежденным патриотом Баварии и постоянно грезил имперским прошлым. Встревоженный действиями нелегального Верхнеземельного вольного корпуса (Freikorps Oberland)– «теневой армии», стремящейся подорвать основы Версальского договора, – он вступил в Баварский союз за короля и отечество, отдалился от семьи и проводил большую часть свободного времени, запершись в своей комнате с газетой, трубкой, пивом и кошкой. Там он пребывал в мрачном безмолвии, в то время как по другую сторону двери жизнерадостно хлопотали его жена и дочери.
В 1919 году молодой дядя Евы Алоис Винбауэр поступил в Мюнхенский университет. Добросердечная, но ограниченная в средствах Фанни Браун предложила ему снимать у них комнату, а заодно и ужинать вместе с семьей. Почти шестьдесят лет спустя Алоис с восторгом вспоминал ее жареную картошку с хрустящей корочкой. Он описывал Еву, которой тогда было около семи лет, как необыкновенно хорошенькую девочку, послушную, веселую и ласковую. Уже в то время она производила впечатление умного и одаренного ребенка, на лету схватывала все новое. С учебой, по мнению дяди Алоиса, у нее не было никаких проблем. Она успешно справлялась с любыми трудностями, однако быстро теряла терпение, если задание ей не нравилось. Хотя Ильзе была сообразительнее и прилежнее, личное обаяние давало Еве несправедливое преимущество. Она уже начала жить чувствами и эмоциями, пренебрегая рациональным миром знаний и логики. С высоты прожитых лет Алоис отмечает, что «эта склонность предопределила ее трагическую судьбу».
Специалисты по детской психологии, как правило, считают среднего ребенка в семье счастливым. Противостояние Евы родителям позволяет предположить, что она чувствовала себя более уверенно, чем ее замкнутая старшая сестра Ильзе (кузина впоследствии вспоминала ее решительной, отстраненной интеллектуалкой) или привязчивая маленькая Гретль. Ева всегда была хвастунишкой, актрисой, лидером и зачинщицей шалостей. В школе она, похоже, быстро усвоила секрет популярности – быть милой, забавной и капризной – и дома тоже верховодила сестрами. Несмотря на ссоры, родители ее, очевидно, обожали. И Алоис, и Гертрауд, родственники со стороны Кронбургеров, чувствовали, что Ева была любимицей матери. Обе питали страсть к моде и красивой одежде, и Фанни мечтала, что в один прекрасный день Ева откроет собственное ателье в Берлине. Отец рано заметил незаурядные способности Евы ко всем видам спорта и часто брал ее с собой кататься на лыжах, оставляя Ильзе и Гретль дома.
И тем не менее Герта Остермайр, одноклассница, дружившая с Евой до конца ее жизни, считала, что той приходилось порой тяжко дома. Но, несмотря на неровные, трудные отношения с отцом, ее детство выглядит вполне счастливым. Создается впечатление крепкой, активной семьи, где Фритц руководил, а Фанни вела хозяйство и шила, одновременно выполняя роль дипломата, образца для подражания и третейского судьи. Девочки хохотали, дулись, дурачились, меняли пристрастия, примеряли наряды, а Ева еще и изводила окружающих вспышками раздражительности. Никто в семье Браун не был скучен. Нет никаких оснований полагать, что кто-то из трех девочек когда-либо страдал от насилия или недостатка внимания. Что, разумеется, еще не значит, что Ева была счастлива.
Всего в ста милях от них, в Вене, Фрейд подвергал психоанализу женщин, подавляемых мужчинами в семье. Но Фритц Браун считал Фрейда учеником дьявола и презрительно отмахнулся бы от утверждения, что модели поведения и контроль, навязываемые маленьким детям, сказываются на всей их дальнейшей жизни. С точки зрения психоанализа вполне возможно, что обращение Фритца Брауна со своей волевой средней дочерью предопределило ее зацикленность на авторитарных мужчинах, чьего одобрения она во что бы то ни стало пыталась добиться. Ребенок испытывает к родителям и любовь и ненависть, что-то одно – никогда.
Фритц Браун – Vati [3]3
Уменьшительное от Vater—отец (нем.).
[Закрыть]или, когда он был в ссоре с дочерьми, Papa– оставался патриархом девятнадцатого века, требующим безоговорочного повиновения. И похоже, у него в душе постоянно клокотал гнев, что свойственно многим сторонникам жесткой дисциплины. Бунтарский дух Евы, не умеющей быть столь послушной, как ему бы того хотелось, невероятно раздражал его. Дерзкая и непокорная, в превосходной физической форме, она была одновременно и средоточием его надежд, и объектом осуждения. В семейном кругу, состоящем почти из одних женщин, Ева невольно взяла на себя роль желанного сына. Ее мать порой говаривала: «Фритц хотел, чтобы наш второй ребенок родился мальчишкой. Вот и пожалуйте, он его получил!» Разногласий было много, но никаких свидетельств того, что Фритц Браун когда-либо поднимал руку на своих девочек. Ильзе Браун впоследствии вспоминала:
Мы все росли в атмосфере католического благочестия и должны были слушаться беспрекословно. Спорить мы могли сколько угодно, но все всегда заканчивалось словами отца: «Пока вы сидите за моим столом, будете делать, как я велю. Потом можете поступать, как вамвздумается».
Девочки Браун не ведали скуки. В те дни, когда еще не было телевидения, члены семьи были ближе друг другу и больше зависели друг от друга в плане развлечений. Темными зимними вечерами они собирались за столом и играли в игры. Не в карты, по крайней мере пока что (впоследствии Ева научилась отлично играть в бридж), а в настольные игры вроде лудо, известного в Германии под очаровательным названием Mensch, ärgere dich nicht!что переводится примерно как «Не горячись, приятель!». Это игра для четырех участников, каждый из которых должен, бросая кости, обвести вокруг поля фишку определенного цвета и раньше других успеть попасть «домой». (При этом надо избегать, чтобы тебя не отослали обратно на исходную позицию.) Как все хорошие игры, она поощряет игроков устраивать пакости соперникам, и атмосфера вокруг поля накаляется. Моя мама в детстве играла в лудо со своими сестрами, и я тоже – по возможности каждый вечер. Современные дети в одиночестве сидят за компьютерными играми, даже не подозревая, что они теряют. Mensch, ärgere dich nicht! – это замечательный способ снять накопившееся напряжение между членами семьи. Без сомнения, Ева дергалась, топала ногами, надувала губки – и выигрывала, при необходимости жульничая, пока не попадалась.
Будучи предоставлены сами себе, девочки вырезали силуэты нарисованных на плотном картоне бумажных кукол, чьи бесполые тела были целомудренно прикрыты маечками и панталончиками. Маленькие прямоугольники, выступающие по краям одежды, загибались у них за спиной, так что куклы могли носить и придворные костюмы восемнадцатого века (иногда вырезаемые из книг), и модные платья. Еще им можно было загнуть вперед стопы ног, чтобы поставить, только вот они то и дело падали своими тщеславными личиками вниз. Девочки очень любили такие игрушки, они оставались популярны вплоть до семидесятых годов. Еще незатейливее были «облатки» – напечатанные на глянцевой бумаге феи, ангелы, щенки, котята, цветы, – которые дети вырезали и наклеивали в альбомы или на письма. Кроме того, были книжки-раскраски и раздвижные деревянные коробки с цветными карандашами производства Staedtlerи Faber-Castell.Разноцветные карандаши, разложенные по оттенкам, – дюжина, две дюжины, до семидесяти двух штук. Ева со своими сестрами и Дита со своими встряхивали калейдоскопы и любовались постоянно сменяющимися затейливыми узорами. Для детей помладше выпускались наборы деревянных кубиков с фрагментами из сказок на каждой грани. Если правильно сложить кубики, получалась сцена, например, из «Красной Шапочки». А если аккуратно перевернуть всю картину, то на другой стороне чудесным образом оказывались Гензель и Гретель. Но при переворачивании какой-нибудь кубик обязательно выпадал, и все остальные рассыпались в руках.
Когда дети становились постарше, наступала очередь невероятно сложных картинок-головоломок. Из пятисот кусочков можно было собрать морские пейзажи (сплошь волны да небо), географические карты, чтобы запоминать потихоньку границы, главные города и реки Европы, или сцены знаменитых исторических событий. Самой любимой игрушкой девочек Браун был большой кукольный дом, который Фритц сделал своими руками. Он месяцами держал в секрете свою работу, вытачивая полы, стены и мебель. Фритц был искусным плотником, но его кропотливый труд над столь мелкими деталями красноречивей слов говорил об отцовской любви. Фанни заполнила крошечные комнатки самодельными коврами и занавесками, подушками и покрывалами, кукольными кастрюльками, сковородками и посудой. Никогда не рано начинать учиться ценить красоту и порядок в доме.
В детстве девочки носили платья и фартуки с оборками, широкие мягкие обручи на аккуратно причесанных головках, длинные белые гольфы или чулки и начищенные до блеска туфельки на застежках. (У меня есть мамина карточка, где она одета почти точно так же, как Ева на семейной фотографии Браунов.) Одежда была скорее красивой, чем практичной, о брюках для девочек никто и не помышлял. До пятнадцати лет девочки выглядели как куклы в натуральную величину, что подчеркивало их роль папиной отрады и маминых помощниц. Фанни стремилась наделить дочерей познаниями в истории моды и привить им интерес к нарядам. Для молодой женщины важнее всего были внешний вид, изящество и хорошие манеры. Ева с ранних лет обожала наряжаться в экзотические костюмы. В семейном альбоме есть фотографии шестилетней Евы с затейливым капустным листом в волосах вместо заколки, десятилетней Евы в костюме феи, пятнадцатилетней Евы, вымазавшей лицо сажей, чтобы выглядеть как Эл Джолсон. Не говоря уже о Еве с котенком, Еве с белочкой, Еве верхом на большой пестрой корове, Еве на лыжах и на коньках – всегда смеющейся и позирующей для камеры.
В первые десятилетия двадцатого века единственной вещью в жизни детей, более или менее напоминающей кино, были стереоскопические слайды. Они представляли собой ряд почти идентичных картинок, напечатанных на целлулоидной пленке и обрамленных в картонные прямоугольники. Слайды вставлялись в просмотровое устройство, гораздо более неуклюжее, чем проекторы вчерашнего дня, и вдвое шире. Если поднести это устройство, известное как стереоскоп, к глазам и правильно настроить, то картинка, как по волшебству, оживает в трехмерном пространстве. Возможно, эти стереоскопические образы положили начало пристрастию Евы к фотографии, которому она оставалась верна всю жизнь. Те же трехмерные проекторы использовались для показа эротики: игривой, дразнящей и, по современным стандартам, совершенно невинной. Вряд ли девочки Браун видели настоящие кинофильмы (показываемые Эдисоном с 1891 г. и братьями Люмьер с 1895 г.), разве что на ярмарках, где народ мог за умеренную плату посмотреть душераздирающие черно-белые мелодрамы с написанными от руки белыми субтитрами. Как бы примитивны такие картины ни казались сегодня, это было невероятно захватывающе: настоящие люди, двигающиеся и жестикулирующие на плоском экране.
Рождество в памяти каждого окружено особым ореолом. Моя мать оставила не более полудюжины страниц собственных воспоминаний, но среди них был параграф о рождественских праздниках ее детства. Вот он, в точно таком виде, как она написала его, когда ей было уже далеко за пятьдесят. Прожив тридцать лет в Англии с мужем-англичанином, она так полностью и не овладела английской речью, как устной, так и письменной, и продолжала обращаться с запятыми с немецкой расточительностью.
Самыми яркими событиями моего детства были наши дни рождения и празднование Рождества. Мамочка всегда покупала чудесные подарки, и утром в мой день рождения ставила разные чудесные цветы туда, где я сидела. Для Рождества у нас был специальный серебряный колокольчик, наш Weihnachtsglocke,и в сочельник, Heiligabend,мы обязательно получали подарки. Пока мама готовила Weihnachtszimmer(рождественскую комнату), отец и мои сестры нетерпеливо ждали, когда же прозвонит колокольчик, и в ожидании мы пели песни, чудесные рождественские гимны, и вдруг – хрустальный звон колокольчика, и мы со всех ног бросались в гостиную, где нас ждала Таппепbaum(рождественская елка), красиво украшенная десятками настоящих свечей. Weihnachtstisch(рождественский стол) ломился от подарков, и все мы радовались, проникались духом Рождества.
(Слова «Рождество»/«рождественский» в этом небольшом тексте встречаются семь раз. Самого слова было достаточно, чтобы вызвать у матери теплые сентиментальные воспоминания о любящей семье.)