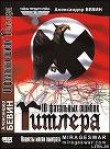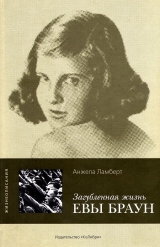
Текст книги "Загубленная жизнь Евы Браун"
Автор книги: Анжела Ламберт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)
Смутные подозрения женщин на «Горе» разжигались такими редкими эпизодами, как протест фон Ширахов, но затем быстро угасали. Ева, не имевшая твердых оснований для своих страхов – если страхи вообще были, – не собиралась отталкивать мужчину, которого любила всю жизнь, из-за каких-то неясных тревог. Она часто жаловалась: «Все-то от меня скрывают. Я понятия не имею, что происходит». Она старалась не придавать значения кошмарам, мучившим ее по ночам, – предзнаменованиям смерти Гитлера, а не картинам массовых убийств. Я спросила ее кузину Гертрауд Вейскер, правда ли, что Ева ни сном ни духом не ведала о преследовании евреев, и она ответила: «Ну, мы не знали о концлагерях. Нет. Но мы знали, что что-тоне так, поскольку многие наши друзья, евреи, переезжали в Америку. Да и Der Stürmer,экстремистская национал-социалистическая газета, продавалась на каждом углу». Все знали что-то,но очень немногие знали, что именно.Это не значит, что Ева знала правду или больше правды, чем другие, но, возможно, она предпочлане знать. Такую «страусиную политику» католическая церковь, чьи этику и верования – вместо принципов BDM – Ева впитывала с раннего детства, почитала за грех и осуждала.
Гертрауд Вейскер считает, что Еву подло оклеветали, и убеждена в ее врожденной доброте. Вспоминая о последних месяцах жизни Евы, она рассуждает:
Ева жила в мире фантазий. Когда действительность была недостаточно хороша, Ева отмахивалась от нее. О политике она не знала ровным счетом ничего…
Но она была верна себе и следовала однажды избранным путем. Ей, по большому счету, удалось преодолеть силы, отрезавшие ее от внешнего мира. К концу войны она очутилась лицом к лицу с реальностью и приготовилась умереть с достоинством.
Но что представляла собой реальность? Гертрауд настойчиво утверждает, что Ева не была антисемиткой, как и вся ее семья, за исключением Фритца, и никогда не вступала в нацистскую партию.
Тут, как я в итоге выяснила, она права. Как ни трудно в это поверить, Ева неявлялась членом – а тем более пламенной последовательницей – возглавляемой Гитлером партии. Я подозревала нечто подобное (это бы просто не вязалось с ее характером и желанием Гитлера держать ее подальше от любого рода политических дел), но в феврале 2005 года я нашла доказательство в Hermann Historica,авторитетном аукционном доме Мюнхена, специализирующемся на военных реликвиях. Я провела все утро за арендованным столом в окружении древних мечей, заржавевших шлемов, штыков и униформ (по большей части периода Веймарской республики), а также широкого ассортимента предметов времен Третьего рейха, ожидающих своей очереди на продажу, листая каталоги Hermann Historicac 1980 по 2004 год. После многочасовых поисков и нескольких чашек крепкого кофе, нацеженного из автомата в углу вестибюля для восстановления ослабевающей сосредоточенности, я наткнулась на свое доказательство. Лот № 4549 на аукционе, состоявшемся 10–11 ноября 1989 года, был надписан: Mit der Verleihung des Parteiabzeichens an Eva Braun, folgte Adolf Hitler seine Gepflogenheit, Persönlichkeiten die seine besondere Wertschätzen besassen, auch dann in dieser Form auszuzeichnen, wenn dies nicht Parteimitglieder waren.Переводится это примерно так: «Награждая партийным значком Еву Браун, Адольф Гитлер следовал своему обыкновению выделять таким образом лиц, заслуживших его особое расположение, даже если оные лица не являлись членами партии».
Предмет, на первый взгляд непримечательный: круглый золотой медальон в 18 карат с ее инициалами ЕВ и надписью, выгравированной на обратной стороне – когда и кем, определить невозможно. На нем нет даты, но надпись явно означает, что фюрер не возражал, что его любовница не состоит в партии, и подразумевает, что вступать ее никто не принуждал. Живя в мрачной цитадели нацизма, Ева не была нацисткой.Медальон ушел с молотка за 3200 немецких марок – немалые деньги в 1989 году – и растворился в чьей-то частной коллекции.
Никого нельзя обвинять в том, что он не боролся за дело, к которому не был причастен или о котором ничего не знал. За неимением доказательств мы никогда точно не выясним степень осведомленности Евы, Траудль Юнге и прочих женщин Бергхофа. Если Ева ничего не знала о Черных Событиях, то нельзя отнести ее к числу ни виновных, ни даже сообщников. Хотя можно осудить ее за то, что она не замечала все более откровенных гонений и никак не реагировала на них. Допустим, она знала что-то – пусть мало, пусть смутно, – что она могла сделать в знак протеста? Единственным вариантом для нее было оставить Гитлера, но с 1931 года ее жизнь сошлась на нем клином, и уйти не представлялось возможным. Легко говорить, как бы ей следовалопоступить. Однако у нее – как и у Сони Сатклифф (в Британии), жены Йоркширского Потрошителя, как и у Примроуз Шипмен, жены доктора Гарольда Шипмена, намеренно погубившего десятки пожилых пациентов, – не было выбора.
Близость Евы с фюрером не имеет практически никакого отношения к тому, знала она правду или нет, хотя людям трудно принять это, поэтому ее и бичуют немилосердно последующие поколения. Им не дано понять динамику публичных и частных отношений между мужчиной и женщиной в Третьем рейхе. Гитлер строго запрещал кому бы то ни было говорить с Евой – и с любой другой женщиной на «Горе» – о пытках, голодной смерти и геноциде, обрушившихся на евреев, цыган, гомосексуалистов, свидетелей Иеговы, большевиков, славян, церковных диссидентов, католических священников, поляков. Подробности о кошмарных лагерях принудительного труда и их жертвах хранились в секрете от жен нацистов. Гитлер бросил бы в тюрьму или даже казнил того, кто попытался бы открыть Еве глаза на чудовищную правду. Сам факт, что Ева была его любовницей, подразумевал, что она, прежде всех, должна оставаться в неведении. Как могла бы она утешать его, дарить душевное тепло и беззаветную преданность, зная, что он сделал?
Глава 23
Что Ева могла сделать?
Еще раз: возможно ли, что Ева в буквальном смысле ничегоне знала о Черных Событиях? Она регулярно наведывалась в Мюнхен почти до самого конца войны. В тридцатые годы от ее внимания никак не могли укрыться антисемитские лозунги, заколоченные магазины, чемоданы на мостовой, а также оголодавшие еврейские дети и старики, публично унижаемые эсэсовцами. Евреи носили желтую звезду Давида на одежде, получали более скудные рационы, чем немцы, не имели права ездить в трамвае и допускались в магазины только в строго определенные часы. Театры, кино и концертные залы были для них закрыты – весьма характерное ущемление. Все это она могла видеть собственными глазами, если бы хотела. Начиная с 1939 года, после «Ночи разбитых витрин», гонения приняли еще более жуткую форму «конфискаций»: у евреев отнимали дома. Больше четырех тысяч мюнхенских евреев – добрых, культурных людей, как правило, интеллигенции или процветающих предпринимателей (при общей численности городского населения в 824 тысячи человек), были изгнаны в еврейские анклавы, так называемые Judenhäuser(«еврейские дома»). Об этом она тоже вполне могла слышать. Иные зловещие предзнаменования были не так заметны. В начале 1941 года евреев перевезли в переполненное гетто в Мильбертсхофене, в четырех милях от города. Потом начались депортации: сначала в близлежащий Дахау, затем в восточные лагеря. Только слепой мог не заметить бедствий, которые обсуждались повсеместно и служили предметом проповедей в католических церквах.
Черные События неумолимо надвигались. Грохотали тяжелые сапоги, вздымая клубы пыли по дорогам. Затянутые в перчатки руки твердо сжимали оружие, целясь без промаха в ожидании команды «Огонь!». И она прозвучала: Feuer!Решалась судьба Европы на ближайшее тысячелетие. Решалась судьба евреев.
Герман Геринг заявил: «Грядет великая война рас. Она решит, распоряжаются ли здесь немцы и арийцы, или же евреи правят миром». Посетив гетто в Лодзи (Польша), Геббельс писал: «Это не поддается описанию. Они уже не человеческие существа, они животные. Следовательно, мы выполняем не гуманитарную, а хирургическую задачу». 16 июля 1941 года штурмбаннфюрер СС Хеппнер писал из Познани своему начальнику Адольфу Эйхману, возглавлявшему «еврейский отдел» гестапо, где разрабатывалось окончательное решение еврейского вопроса: «Существует опасность, что мы не сумеем прокормить всех евреев этой зимой. Необходимо серьезно рассмотреть вопрос о том, не будет ли наиболее гуманным решением избавиться от неработоспособных каким-либо целесообразным способом. Это менее болезненно, чем позволить им умирать от голода». И далее: «Звучит несколько фантастически, но, на мой взгляд, вполне осуществимо». « Какой-либо целесообразный способ»– дивный образчик уклончивости. Это подстрекание к массовому убийству, но высшее нацистское руководство редко удосуживалось констатировать факты. Как бы там ни было, 12 декабря 1941 года Гитлер с несвойственной ему прямотой заявил, что пришло время подготовиться к решению еврейского вопроса, отбросив жалость и сантименты. Не то чтобы сигнал «подготовиться» недвусмысленно призвал к истреблению европейского еврейства – это был бы «дымящийся пистолет», который тщетно искали историки, – но заявление звучало на редкость откровенно. Герман Геринг, равнодушный и глухой к страданию, если таковое шло на благо немецкой расе, взял на себя ответственность за концентрационные лагеря. «Очень неприятно убивать, в силу необходимости, столько людей, но это нужно сделать, и мы делаем». Так говорил он со страдальческим видом человека, оказывающего услугу миру. Евреев расстреливали, а тела сбрасывали в общие могилы. Подобное происходило в сотнях мест по всей Восточной Европе.
Самые эффективные методы уничтожения проверялись и научно усовершенствовались. В сентябре 1941 года в Освенциме состоялись первые эксперименты с газом «Циклон-Б». Восемьсот пятьдесят советских военнопленных и двести поляков были умерщвлены эффективно и гигиенично. В декабре 1941-го гончие ада с воем бросились на добычу – центр уничтожения в Хелмно запустил свой смертоносный конвейер. Несколько месяцев спустя, в разгар весеннего цветения, газовые камеры были установлены в Собиборе, Бельзеке и Треблинке. Предусмотрительность Гиммлера окупалась сторицей. К концу 1943 года погибли полтора миллиона евреев, хотя мало кому, кроме его подручного Адольфа Эйхмана, были известны подлинные масштабы бойни. Эйхман (который, как и Гитлер, провел юность в Линце) получил в 1941 году повышение – чин подполковника СС. Ему поручили командование концлагерями. Не обремененный совестью, но гениальный бюрократ, он вел бесконечные записи, с тихой гордостью глядя, как растут числа. Чуть больше миллиона человек погибли в Освенциме, из них девяносто процентов – европейские евреи. К августу 1944 года Эйхман смог доложить вышестоящим, что около четырех миллионов евреев умерли в лагерях, а еще два миллиона расстреляны «мобильными отрядами уничтожения». Достойно щелчка каблуками, мужественного рукопожатия и единодушного «Хайль Гитлер!».
Анна Плайм, верная горничная Евы, утверждала, что ее хозяйка ничего не знала о страшной участи евреев, да и другие женщины Бергхофа тоже. В 2002 году Курт Кух, расспрашивавший ее о жизни в Бергхофе, услышал следующее:
Что касается евреев, бесчеловечно казненных в Дахау, о них почти никто не знал. Переходящие всякие границы притеснения евреев до войны были очевидны всякому: сегодня никто не посмеет отрицать это. Многих выгоняли из их домов и кварталов. Но я ни малейшего понятия не имела, что произошло с этими людьми в конечном итоге. Думаю, и Еве Браун не рассказывали об их дальнейшей судьбе и о том, что на самом деле творилось в концлагерях. Хотя она, как и все, не могла не знать, что с евреями и со всеми противниками нацистов обращались жестоко. Но фотографии людей, которых, подобно скоту, перевозили в лагеря уничтожения, всплыли только после войны.
Учитывая склонность гитлеровского окружения преуменьшать или вовсе отрицать свои расистские убеждения, это кажется справедливой оценкой степени осведомленности Евы, но о правде можно только гадать. Гертрауд Вейскер не сомневается, что Ева пребывала в неведении обо всем, что касается Черных Событий. Страстно защищая себя и свою кузину, она говорила:
Мы слыхом не слыхивали про Освенцим. В то время все делалось в такой тайне – неудивительно, что народ ничего не подозревал. Люди, окружавшие Еву, знали куда больше нас, но тогда это было так засекречено, что простые немецкие семьи не могли даже догадываться о подобных вещах. Я знала, что евреи уезжали, но полагала, что в Америку или еще куда-нибудь. Мне и в голову не приходило, что их убивали газом.
Контроль Гитлера над молодежной культурой привел к образованию подпольных движений протеста. В них участвовали в основном студенты мужского пола от шестнадцати до двадцати пяти лет или банды молодых парней, выходцев из рабочего класса, усвоивших бунтарские методы социалистов и коммунистов. За последними охотились нацистские головорезы низкого пошиба, как и за «Пиратами Эдельвейса», нападавшими на отряды гитлерюгенда, патрулировавшие парки и другие общественные места. Стычки иной раз заканчивались перестрелкой (интересно, где диссиденты доставали оружие). Когда «Пираты» ударились в политику, эсэсовцы круто осадили их, некоторых даже казнили. Кое-кого отправили в тюрьмы или в концентрационные лагеря. 25 октября 1944 года Гиммлер распорядился принять крайние меры, и в ноябре того же года тринадцать «пиратов Эдельвейса» были публично повешены в Кёльне, в том числе шесть шестнадцатилетних мальчиков.
Тогда, как и сейчас, молодежь выражала свои взгляды и предпочтения через музыку. Третья категория, состоящая по большей части из представителей среднего класса, протестовала, отвергая разудалые народные песенки, пропагандируемые нацистской партией, в пользу американского джаза, особенно его разновидности, известной как свинг. Лихорадочные ритмы, под которые можно было танцевать быстро, как никогда прежде, завоевали свингу бешеную популярность. Его поклонники называли себя «свингующей молодежью» с насмешливой отсылкой к «гитлеровской молодежи» (гитлерюгенду). «Свингующие» придерживались радикальных взглядов в социальных, политических и экономических вопросах. Отрекаясь от расизма, они бросали вызов основополагающей идеологии Третьего рейха. Их благодушная общительность противостояла военной этике, которую режим, не жалея сил, навязывал немецкой молодежи. Примерно тогда же, когда Гитлер стал канцлером (1933 г.), джаз стали бичевать как «омерзительный визг, оскорбляющий наш слух». Особое отвращение он вызывал у нацистской верхушки из-за ассоциаций с «низшей» чернокожей африканской расой южных штатов Америки. Джаз презрительно называли «негритянской музыкой», примитивной какофонией. Пропагандистский аппарат Геббельса безуспешно пытался противопоставить свингу «Чарли и его оркестр». Этот биг-бенд крутили по радио, он играл жиденькую разновидность свинга. Ничего из этого не вышло.
Движение «свингующей молодежи» неохотно терпели до февраля 1940 года, когда на Фестиваль свинга, проходивший в Гамбурге, съехалось больше пятисот молодых людей. Ничтожное количество по сравнению с десятками, сотнямитысяч зрителей партийных съездов, но вполне достаточное, чтобы встревожить нацистские власти. Гитлеровский агент в своем отчете описывал «бесстыжие пляски», подчеркивая: «Некоторые юноши танцевали друг с другом, каждый с двумя сигаретами во рту». Какая распущенность! Лучше не придумаешь, чтобы досадить нацистам. Дальнейшие сборища были запрещены, но клубы «свингующей молодежи» тут же нахально возродились. 2 января 1942 года Гиммлер велел Рейнхарду Гейдриху отправить главарей свингеров в концентрационные лагеря на два-три года в качестве козлов отпущения, позаботившись о дальнейшем их наказании побоями и принудительным трудом. Чистка не заставила себя ждать: эсэсовцы нагрянули в клубы и отволокли зачинщиков в лагеря.
Трудно поверить, что Ева, страстно любившая танцевать и посещать клубы, ничего об этом не знала, но она не принадлежала к бесноватым, разнузданным девицам. Буйные джазовые ритмы – совсем не то, что приторные романтические мелодии, столь милые ее сердцу. Хотя в ночных клубах, куда она ходила, джаз, свинг и их приверженцы вполне могли служить предметом разговоров за коктейлями или пивом. Не исключено, что она и не слышала о «свингующей молодежи», остававшейся в значительном меньшинстве, и, возможно, ее друзья старались не обсуждать при ней антинацистские течения. Но еслислышала, то могла быи знать, что эти группировки заявляют протест антисемитизму, из чего могла бызаключить, что существует нечто серьезное, заслуживающее протеста. Три допущения не дают права с уверенностью сказать, что Ева имела сведения о «Пиратах Эдельвейса», «свингующей молодежи» и их либеральных взглядах. Она придерживалась своего неизменного правила: не задавать щекотливых вопросов.
В 1942 году пятнадцать миллионов немцев, включая четверть миллиона мюнхенцев, увидели блестящий фильм «Я обвиняю», пропагандирующий применение эвтаназии к умственно отсталым, инвалидам и неизлечимо больным. Приведенные в нем доводы породили немало споров, и Ева – опять же не должна была, но могла– слышать об этом от друзей. В тот же год (1942) несколько непокорных мюнхенских студентов под предводительством Ганса Шолля и его сестры Софи образовали группу протеста под названием «Белая роза», обличающую зверства нацистов. Они раздали три тысячи листовок, в которых говорилось, что три тысячи евреев уже убиты в Польше, и которые стали предметом бесконечных споров. 18 февраля 1943 года брат и сестра Шолль, а также их друг Кристоф Пробст предстали перед судом за распространение в университете листовок, клеймящих позором бесчинства в Сталинграде и бесчеловечность нацистского режима. 22 февраля их признали виновными в государственной измене и гильотинировали. Это утихомирило мюнхенских студентов, и протесты практически прекратились.
Жители Мюнхена крайне мало знали о происходящем на Востоке, так как нацисты прилагали все усилия, чтобы сохранить в тайне Черные События. Тюрьма грозила всякому, кто осмеливался хотя бы обмолвиться о лагерях. Отдельные взрывы юношеского протеста еще не значат, что кто угодно мог обсуждать деятельность мятежных группировок. Ева и ее друзья не были ни студентами, ни философами и не тратили время на интеллектуальные рассуждения. Ева ходила в ночные клубы, чтобы стряхнуть с себя унылое настроение Бергхофа, и бунтари занимали ее меньше всего.
Но кое-кто из близких Евы имел некотороепредставление о нарастающем кошмаре. Ее отец, поступившийся своей щепетильностью ради комфортных условий Бергхофа, – онзнал. Стройные молодые адъютанты Гитлера, которые то и дело мелькают в ее фотоальбомах, развалившись на траве в одних плавках, демонстрируя мускулистые торсы, натренированные во имя фюрера и фатерланда, – онизнали, разумеется. Подслушивала ли Ева ведущиеся шепотом разговоры, улавливала ли намеки? Сплошные догадки. Дочь Шпееров Хильда, выросшая в семейном доме на «Горе», утверждала после войны: «Я вполне уверена, что она [Маргрет, ее мать] оставалась в полном неведении относительно всех этих ужасов. Правда, она безоговорочно поверила тому, что мы узнали потом, хотя никогда не говорит об этом. По-моему, сейчас ее гнетет невыносимое чувство вины за то, что она жила рядом с этим человеком, Гитлером, и имела столько выгод от его расположения». Аннемари Кемпф, в восемнадцать лет ставшая личным секретарем Альберта Шпеера, говорила о своем начальнике: «Думаю, в каком-то смысле ему казалось, что чего он не знает, того и не существует[курсив мой. – А.Л.]».
Как-то не верится, что окружавшие Гитлера женщины – прежде всего его секретарши – могли быть до такой степени наивны, что не осознавали происходящего. 11 июля 1943 года Борман выпустил циркуляр, запрещающий любое упоминание о геноциде, а уж тем более о количестве убитых. Слово «казнены» произносить не позволялось; евреи были «эвакуированы». Неосведомленность стала не только возможной, но и обязательной.
Траудль Юнге, давая интервью незадолго до своей смерти, сказала:
Мы никогда не видели в нем [то есть Гитлере] государственного мужа. Мы не принимали участия в его совещаниях. Нас звали, только когда он хотел продиктовать что-нибудь, и тогда он бывал так же обходителен, как в частной жизни. Наш кабинет, как в рейхсканцелярии, так и в бункерах, находился так далеко от командного штаба, что мы ни разу не видели и даже не слышали тех самых его припадков бешенства, о которых шептались все вокруг. Мы знали его расписание, кого он принимает, но этих посетителей видели крайне редко, разве что тех, кто иногда разделял с ним трапезы, где мы тоже присутствовали.
Совершенно точно, что Ева тоже никогда не сидела на министерских совещаниях: вот этобыло бы и вправду неслыханно. На подобные собрания допускались исключительно мужчины. Зато она составляла ядро личной жизни Гитлера: неужели до нее не доходили хотя бы обрывки информации, если не из его уст, то из разговоров за выпивкой или за ужином? Сегодня просто невозможно себе представить, как это жены людей, совершавших тяжелейшие военные преступления, могли оставаться в полном неведении. Но они не имели доступа к радио, не говоря уже о новостях ВВС. У них не было телевизора. Зарубежные газеты были запрещены, а немецкие полны преувеличений и лжи. Каждый обитатель Бергхофа знал, что чету фон Ширах отослали за то, что они усомнились в политике Гитлера. Впрочем, их изгнание большинство с энтузиазмом поддержало.
Для женщин сведения ограничивались тем, что они видели собственными глазами. А за пределы надежно защищенного Оберзальцберга мало кто из его обитательниц решался высовываться. Они предпочитали нежиться на солнышке на террасе и сплетничать за чашечкой кофе или ворковать над прелестными детишками собеседниц. Каждая поездка в Берхтесгаден становилась целым событием. Нужно было получить разрешение мужа воспользоваться его машиной с шофером, точно рассчитать время и взять с собой вооруженную охрану. Перемены в городе практически не бросались в глаза, разве что магазины, особенно магазины одежды, предлагали меньший ассортимент товаров, да для покупки продуктов требовались пайковые талоны. Кроме того, Борман установил строгие правила относительно того, какие заведения им разрешается посещать – только принадлежащие нацистам, что не всегда означало лучшие. Поскольку фрау Геббельс и Ева, фрау Геринг и фрау Гиммлер заказывали платья у частных портных – особенным их расположением пользовалась фирма Аурахера в Мюнхене, – а их запасы пищи щедро пополнялись продуктами с образцовой фермы Оберзальцберга, подобные трудности не слишком их затрагивали. Бергхоф являлся своего рода закрытой общиной. Люди намеренно отгораживались от неприятных сведений о тех, кому повезло меньше. Гитта Серени сообщает:
В частности, благодаря Шпееру я выяснила, до какой степени Гитлер оберегал круг людей, с которыми общался по-человечески. Ева Браун и прочие вообще ничего не знали. Его мало беспокоило, насколько осведомлены его генералы – это ему было совершенно безразлично, – но тех, с кем его объединяла эмоциональная привязанность, он решительно не желал просвещать.
Траудль Юнге, которая за последние два года войны провела с Гитлером, возможно, больше времени, чем Ева, описывала преследовавшее ее чувство оторванности от реального мира:
Гитлер не допускал, чтобы женщин его дома – четырех секретарш, молодых жен адъютантов, таких, как фон Белов, а также жен его приближенных, Шпеера и Брандта, – пугали всякими ужасами. До нас не доходили ни слухи, ни альтернативные точки зрения, в Бергхофе не появлялись ни враги, ни оппозиционеры. Единая установка, единое убеждение: все выражали одно и то же мнение одними и теми же словами. Мне пришлось участвовать в этом до горького конца, и только вернувшись к нормальной жизни, я осознала, что к чему. В то время меня терзало смутное беспокойство, неуловимое ощущение подавленности и тревоги[курсив мой. – А.Л.]. Но ежедневные встречи с Гитлером мешали мне разобраться в своих мыслях.
Действительно ли она терзалась беспокойством? К воспоминаниям бывших нацистов о муках совести всегда надо относиться с известной долей скептицизма.
Через сорок лет после окончания войны доктор Теодор Хупфауэр, ярый национал-социалист и правая рука Шпеера, говорил:
Не хочу иметь ничего общего с теми людьми, которые теперь заявляют, что не были нацистами, что на самом деле они сопротивлялись режиму. Я иногда прямо удивляюсь: кто же в таком случае голосовал за Гитлера и выиграл для него столько сражений? Сейчас выясняется, что чуть ли не вся Германия состояла из антифашистов. <…> То было невероятно волнующее время. Для людей моего возраста открывались неслыханные перспективы, и нам казалось, что нет ничего такого, чего мы не сумеем достичь.
В книге «До смертного часа» Траудль описала свою первую поездку на личном поезде Гитлера из «Волчьего логова» в Берлин после поступления на службу в его штаб в марте 1943 года:
Это заставило меня задуматься о других поездах, едущих в тот же момент по всей Германии, холодных и темных, везущих людей, которые голодают и не имеют возможности даже удобно сесть. Мне стало неловко. [Здесь она имеет в виду пассажирские поезда, а не те, что везли евреев в лагеря смерти, – о тех она не знала.] Легко вести войну, если не ощущать ее на собственной шкуре. Я смотрела, как сотрудники штаба Гитлера курят и выпивают, спокойные и веселые, довольные жизнью. Я надеялась, что все это делается только для того, чтобы поскорее закончить войну.
Звучит вполне искренне. Видимо, даже молодая женщина, прошедшая основательную обработку нацистской пропагандой, могла задуматься о контрасте между своей обустроенной жизнью и лишениями миллионов соотечественников. Ева была бы не способна на подобную реакцию, для нее она имела бы привкус предательства. Но Траудль эти мысли подтолкнули к рассуждениям об абсурдности своего положения и о парадоксе двусторонней личности Гитлера:
Нелегко воссоздать или представить себе то гипнотическое воздействие, которое Гитлер оказывал на всякого встречного. Даже его заклятые противники отмечали, что он излучал силу, неодолимо влекущую их к нему, хотя впоследствии их охватывало чувство стыда и вины за это. Такое впечатление часто производят люди, наделенные беспредельной властью, когда пускают в ход свое обаяние.
Именно обаяниеили, что еще опаснее, харизма,а вовсе не эманация зла, – вот что больше всего бросалось в глаза при общении с Гитлером. Я сама никогда не могла понять, что такое он делает со всеми нами, включая генералов. Понимаете, это даже больше, чем харизма. Иногда, когда он уходил куда-нибудь без нас, словно бы дышать становилось труднее. Пропадал какой-то основополагающий элемент: не то электричество, не то кислород, не то ощущение жизни. Оставался… вакуум.
Обратная сторона натуры Гитлера давала о себе знать все чаще, по мере того как ухудшалась военная ситуация. Гудериан, в июле 1944 года назначенный начальником Генерального штаба Сухопутных войск, описывал один из приступов ярости фюрера:
Он потрясал кулаками, его щеки пылали от гнева, тело тряслось мелкой дрожью. Человек, стоявший передо мной, был вне себя от ярости и утратил всякий контроль над собой. После каждой вспышки Гитлер начинал ходил взад-вперед от одного края ковра к другому, потом внезапно останавливался и вываливал на меня очередную порцию обвинений. Он почти визжал, его глаза, казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит, вены пульсировали на висках.
Гитлер мог вызывать жалость к себе, проявлять дурной нрав, несдержанность, манию величия, даже безумие, но мало кому из окружающих он казался злым.Альберт Шпеер говорил: «Вы просто не можете себе представить, каково жить под диктатурой; вам не понять этой игры с огнем, и, главное, вам не понять страха, на котором все держалось. И уж тем более, полагаю, никто из вас не в состоянии оценить притягательную силу такого человека, как Гитлер». Шпеер, один из самых здравомыслящих и беспристрастных высокопоставленных нацистов, не мог устоять против магнетического поля Гитлера и соблазнительной «игры с огнем», и, отрицая многое другое, это он безусловно признавал. Чего же ждать от Евы, чья жизнь строилась на том, чтобы угодить любимому? В своем вполне достоверном рассказе о последних днях Гитлера Хью Тревор-Ропер пришел к смелому выводу: «Шпеер – настоящий нацистский преступник, ибо он больше, чем кто бы то ни было, олицетворял ту философию фатализма, что обрекла Германию на катастрофу и чуть не привела к крушению мира. В течение десяти лет он находился в самом центре политической власти. Его острый ум угадывал природу и прослеживал чудовищное развитие нацистского правительства и политики. Он видел насквозь и презирал окружающих его людей. Он слышал их возмутительные приказы и понимал их запредельные амбиции. И ничего не делал[курсив мой. – А.Л.]».
Секретарь Шпеера Аннемари принадлежала к числу тех немногих, кто признавал, насколько их завораживало присутствие фюрера:
Впервые это случилось, когда Шпеер завершил строительство новой канцелярии. Только представьте себе – впрочем, представить почти невозможно – огни, цветы повсюду, всеобщее возбуждение. Хотелось бы мне, оглядываясь назад, осудить все это, но я не могу. <…> Каждый день происходило что-то судьбоносное, и происходило оно благодаря этому человеку. Я пытаюсь объяснить вам не то, что чувствую сейчас, но то, что чувствовала тогда.Не могу сказать, что находила его «приятным», – подобные определения неуместны. Это было чистой воды ликование – ликование, которое он дарил всем нам.
Мария фон Белов тоже не делала вид, что с самого начала знала, какое фюрер чудовище, хотя была сломлена горем, узнав после войны, что творилось во имя их всех. В 1988 году, незадолго до своего восьмидесятилетия, она рассказывала Гитте Серени:
Я никогда не понимала людей, умаляющих одаренность Гитлера, чтобы проще уживаться с сознанием того, что они были околдованы им. В конце концов, он добивался преданности порядочных и умных людей не тем, что раскрывал им свои кровожадные планы и показывал свою нравственную извращенность. Они верили ему, потому что он умел пленять сердца.
Нет ничего эфемернее личного обаяния, и сегодня никому, кроме неонацистов, не верится, что Гитлер пользовался им, чтобы парализовать сознание окружающих. В свете восторженных описаний, оставленных современниками, непросто по прошествии семидесяти лет верно оценить поведение Евы, ее покорность гипнотической власти мужчины, бывшего единственной любовью ее жизни.