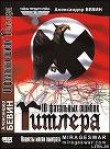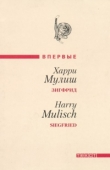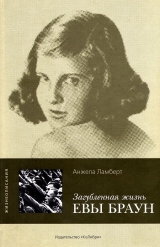
Текст книги "Загубленная жизнь Евы Браун"
Автор книги: Анжела Ламберт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)
Глава 22
Что Ева могла знать?
Сегодня резвое веселье на фотографиях и кинопленках Евы с конца тридцатых до самого разгара войны выглядит жутковато – выходки людей, не то сумасшедших, не то отрезанных от внешнего мира. Она и ее приятели гуляли, устраивали пикники, загорали, дышали чистым горным воздухом, охапками собирали полевые цветы, плавали, хвастались спортивными навыками (ну, по крайней мере, Ева) на берегах ослепительно синего озера Кёнигзее. Миллионы немецких женщин выбивались из сил, чтобы прокормить семью, мастерили прокладки из распоротых джутовых мешков, стирая и перестирывая их, пока запах не становился невыносимым. Что сказали бы они, узнав об этих беспечных забавах? Но по комфортной жизни Евы трудно судить, знала ли она об ужасах, творящихся вокруг. Скорее уж можно предположить, что не знала. Насколько вероятно обратное?
Нетерпимое, авторитарное национал-социалистическое движение было исключительно мужскимначинанием и остается таковым для горстки разочарованных неонацистов, кичащихся своей символикой и мечтающих о несуществующем времени и месте, где их будут уважать и бояться. В двадцатых и тридцатых годах немецких мужчин привлекла доктрина, поднимающая мужчину над женщиной, бойца над мыслителем, повиновение над рассудком, иерархию над достоинством. Их будоражили всенародные демонстрации, чьи атрибуты – униформы, марши, песни, флаги, факелы, фейерверки и фюрер – затмевали религиозные. Они откликались на гомоэротические образы молодых мужчин – рабочих и солдат – в фильмах и на пропагандистских плакатах. Их завораживали простые побудительные лозунги и фальшивые доспехи национал-социализма. Женщин меньше волновали призывы, их прельщало восхваление добродетели жен и матерей, заботящихся о семье и поддерживающих мужей. Нацизм превозносил их за выполнение своих обязанностей, каковое раньше всеми воспринималось как само собой разумеющееся. Они тянулись к Гитлеру – вдохновенному, целомудренному герою, – к которому чувствовали нечто среднее между благоговением и девичьей влюбленностью. Идеал нацистской женщины олицетворял полную противоположность всему, за что борются феминистки. Она приходила в мир как инструмент репродукции и хранительница домашнего очага, а не как личность с собственными мыслями, талантами, потребностями и правами. Иначе говоря, женщины могли быть национал-социалистами при условии, что не будут думать и задавать вопросов. С точки зрения мужчины, самый простой способ достичь такого результата – не обсуждать при женщине политику. На протяжении военных лет бессвязные проповеди Гитлера за ужином записывались дословно. Однажды вечером в 1943 году он сказал: «Я не выношу женщин, рассуждающих о политике. А уж если их некомпетентные суждения затрагивают военные темы, это становится просто неприлично. <…> Галантность не позволяет нам давать женщинам возможность ставить себя в неловкое положение».
Распределение обязанностей между полами строилось на самоопределении арийской расы. Мужчины и женщины равны только в основной функции – продолжении рода, при необходимости вне брачных уз. Гитлер считал, что лучше незамужняя, но полноценная мать, чем высохшая старая дева. Правда, к Еве это, похоже, не относилось.
Нацисты верили в старинный тевтонский уклад, когда мужчина был воином, а на женщине держалась семья. Мужчины занимали почти все руководящие посты в национал-социалистическом государстве, в то время как женщины исключались из политической жизни.
Но отстранение от политики не отнимало у женщин возможность видеть и реагировать на увиденное, прислушиваться к голосу совести и пытаться сопротивляться тому, чего они не одобряют. Больной вопрос, на который ищет ответ эта книга: были ли Ева Браун, а также моя мать и ее сестры, и ихмать, и мои дорогие, не от мира сего двоюродные бабушки, и с ними миллионы других несчастных немецких домохозяек, хорошими людьми или плохими, пусть и по ассоциации? Запятнаны ли они моральным разложением, которому национал-социализм подверг их мужей, братьев и сыновей? Можно ли, в частности, обвинить в соучастии Еву, поскольку она бездействовала пред лицом абсолютного зла? Виновна ли она особенноиз-за ее связи с Гитлером? Вынесение приговора требует объективного анализа того, что она знала или, приложив усилия, могла быузнать. Понимала ли она когда-нибудь, что ее возлюбленный был инициатором и вдохновителем двенадцати лет жестокого насилия, начиная с программы эвтаназии в тридцатых годах? Что он хотел стереть с лица земли евреев Европы и спокойно жертвовал десятками миллионов жизней на войне? Увы, доказательств из первоисточников прискорбно мало, и о правде можно только гадать.
Ричард Эванс, авторитетный специалист по истории Третьего рейха, подчеркивает, насколько опасно опираться на ретроспективную оценку, осуждая тех, кто не мог предвидеть будущее:
Анализ жизненного опыта отдельных индивидуумов, как ничто другое, демонстрирует чрезвычайную сложность стоявшего перед ними выбора и обстоятельств, с которыми им приходилось сталкиваться. Современникам национал-социалистов все было далеко не так очевидно, как нам сейчас, ведь они не обладали даром предвидения. Откуда им было знать в 1930 году, что готовит 1933 год; в 1933 году – что произойдет в 1939, 1942 или 1945 годах? Если б они знали, то, несомненно, принимали бы иные решения…[курсив мой. – А.Л.]
Вплоть до 1939 года даже сами евреи считали слухи о лагерях преувеличенными и предпочитали оставаться на месте – роковой оптимизм, роковая инертность, – а не покидать дом и страну ради неведомого будущего.
Со всеми своими непревзойденными ужасами Черные События остаются полем моральной двусмысленности. Упрощенческий взгляд представляет национал-социалистическую эру неподвижной панорамой кошмара, клеймя Гитлера как чудовище, чуждое всему человеческому, а Еву – как бессловесную дурочку. Истина богата оттенками, категорическое разделение на черное и белое никогда не отражает ее в полной мере. Не так просто определить, какая доля вины ложится на тех, кто был связан с зачинщиками – их жен, семьи, любовниц. Жены других высокопоставленных нацистов не понесли наказания. Знали ли женщины на «Горе», что творится в окружающем мире? Если знали, то как много? Одобряли ли они? Принимали ли активное участие? Пренебрегали ли возможностями помочь гонимым и истязуемым? Если возлагать ответственность на всех, кто находился рядом, и признавать их виновными, то на большинство подобных вопросов следует отвечать «да». Даже сейчас, шестьдесят лет спустя, некоторые критики Германии утверждают, что всенемцы разделяют вину предков за преступления военного времени, притом что нынешние молодые немцы и чаще всего их родители еще не родились, когда Гитлер стоял у власти. Тем не менее многие жители Германии признаются в потаенном чувстве вины, и почти все не любят говорить о прошлом. Черные События покрыли страну тьмой на куда более долгий срок, чем прочие войны, и их клеймо лежит на нации по сей день.
Легко сказать, что все немецкие женщины виновны в том, что шли в ногу с Третьим рейхом, не протестуя и не восставая. Но между моралью и героизмом – большая разница. Люди обязаны к нравственной добродетели в смысле элементарной порядочности и соблюдения законов, но не обязаныбыть героями. (Суть героизма как раз в том и состоит, что он выходитза рамки обычного гражданского и человеческого долга.) Никто не возлагал на женщин Советского Союза вину за преступления и лагеря сталинского режима, не менее чудовищного. Обе системы поощряли и награждали безнравственных женщин – осведомительниц, сплетниц и клеветниц, – чьи доносы стоили свободы и жизни многим невинным людям. Хуже всех были охранницы лагерей, бессердечные садистки, не уступающие жестокостью мужчинам. (Охранницы в Равенсбрюке, концлагере под Берлином, прежде состояли в Лиге немецких девушек (BDM), где их с отрочества приучали к беспрекословному повиновению.) Но они являлись исключением, и, как недавно показала рядовой Линди Ингланд в Ираке, существуют до сих пор. Жестокость – не половой признак. Молодые немки были запрограммированы BDM. Им вбили в голову нацистскую идеологию в том возрасте, когда они еще не обладали ни знаниями, ни моральными устоями и не могли спорить. Их натаскивали на осуществление целей партии и в награду внушали непоколебимую веру в себя. Подавляющее большинство немецких женщин при гитлеровском режиме былипорядочны, в нормальных обстоятельствах ни одна из них не проявила бы жестокости, но героинями они не являлись. Однако нельзя забывать о мужестве и стойкости немецких матерей в то страшное время, когда только для того, чтобы уберечь от голода и холода стариков и детей, требовался настоящий героизм.
В 1947 году, вскоре после окончания войны, Траудль Юнге написала подробный отчет об идеологической обработке, которой она подвергалась в детстве и юности, пытаясь понять собственное пособничество режиму, ужасавшее ее впоследствии. Схожие чувства испытывали многие люди, прежде близкие к Гитлеру. Траудль Юнге утверждает, что, когда писала, не думала о публикации, но через пятьдесят пять лет ее книга «До смертного часа: последняя секретарша Гитлера» увидела свет. Сколько поправок туда внесено с 1947 по 2000 год, только сама фрау Юнге может точно сказать. Книга прославилась как последний правдивый рассказ очевидца об окружении Гитлера и принесла автору мировую известность в последние месяцы ее жизни. Умерла она 10 февраля 2002 года в возрасте восьмидесяти одного года. Нашумевший фильм «Бункер» (Der Untergang)о последних неделях в бункере Гитлера частично основан на ее воспоминаниях.
Траудль родилась в Мюнхене в 1920 году. Пятнадцати лет от роду она записалась в Лигу немецких девушек вместе с пятью одноклассницами. Они оттачивали и совершенствовали свои «Зиг хайль!», одновременно оттачивая и совершенствуя свои тела. В школе к трем ее одноклассникам-евреям и ученики и учителя относились как к равным. Иудаизм означал иную расу, иную религию, но никак не клеймо. Потом, после 1936 года, они исчезли, один за другим. Никто не знал, куда они делись, и никто не пытался выяснить. В 1938 году Траудль исполнилось восемнадцать, и она вступила в организацию «Вера и красота» для молодых женщин, переросших BDM. Целью организации являлось воспитание «девушек, безоговорочно верящих в Германию и фюрера и сумеющих вложить эту веру в сердца своих детей».
Чем сильнее завораживали Траудль культура и эстетика эпохи, тем более, по ее словам, отвратительными она находила грубые аспекты уличной политики, низкой и примитивной, годящейся для масс, но не для людей ее класса. Она смеялась над ходящими в народе шутками о Гитлере и презирала газету Der Stürmerза антисемитские карикатуры – это был не ее национал-социализм, это было не ее дело.Впрочем, как и большинству ее современниц, ей казалось, что политика мужчин ее никоим образом не касается. Как и Ева, и моя мать Дита, она даже не подозревала, до чего основательно ей промывают мозги. Преследования и исчезновения евреев стали привычными и «со временем даже перестали ее шокировать». Могла ли она – или любая другая женщина на «Горе», включая Еву, – знать о девяноста еврейских сиротах младше шести лет, вывезенных в лес под Киевом в 1941 году и расстрелянных по очереди? О матерях, пытавшихся прикрыть своим телом детей, которых отрывали от них, ломая руки и ноги, и волокли на бойню? Если бы они имели эти сведения – а они их не имели – и винили во всем Гитлера, что бы они могли сделать? За решительный протест их изгнали бы из Бергхофа, за продолжительный протест – сослали бы в лагеря. Шумный, публичный протест карался смертью.
Нельзя винить женщин за навязанные им неосведомленность и молчание. Их «преступление» состояло в том, что они вдыхали ядовитые испарения нравственного зла, проявлявшегося нагляднее всего в отчаянном положении евреев, но также и в постепенном исчезновении калек, политических диссидентов, гомосексуалистов и так далее – а ведь у них у всех были друзья, коллеги, соседи. Женщины предпочитали не обращать внимания на дурные знаки, слухи и внезапные исчезновения, подменяя попытки посмотреть в лицо действительности слепой верностью Гитлеру и своим мужчинам. Почему они не интересовались судьбой презираемых меньшинств, загнанных в гетто (вот уж о чем знали все) .Что касается сосланных в страшные польские лагеря, то задавшийся вопросом, куда их отправили, слышал удобный ответ: куда-то… какая разница… с глаз долой, и ладно. Еврейские одноклассники и соседи остались в памяти расплывчатой кляксой. Немецкие домохозяйки знали, что дезинфицировать кишащий паразитами дом очень полезно. Избавленные от публичного и интимного позора, вызываемого блохами, клопами, тараканами и грызунами, дом и семья становились здоровее, чище.Этих горячих сторонниц гигиены едва заметно, шаг за шагом, подталкивали к убеждению, что евреев и прочие меньшинства следует воспринимать как тех же паразитов, избавление от которых позволит сделать арийскую расу чище, сильнее. Они не страдали кровожадностью, но судьба несчастных была им глубоко безразлична. При желании они могли бы немало узнать о происходящем, хотя существование лагерей смерти почти на каждого обрушилось жутким откровением после войны.
Но в апатию впали далеко не все. Тысячи немецких женщин шли на невообразимый риск, нелегально укрывая евреев в подвалах и на чердаках (называемых «подводными лодками»). Беглецов защищали – а иной раз и предавали – их арийские друзья и соседи. Это женщины покупали и готовили им пищу, делясь драгоценными запасами семьи, стирали и чинили их одежду, невзирая на ежечасную угрозу доноса. Если тайник обнаруживался, всю семью ссылали в концентрационный лагерь. К 1943 году в Берлине осталось около 27 тысяч евреев. Никому точно не известно, скольким из них помогали такие женщины. Но каждая была героиней.
Сейчас нам может казаться, что фюрер совратил целую нацию, однако партии не удалось подкупить всех немцев без исключения. Восемьдесят миллионов человек говорят многоголосым хором, и он неоднороден. Мнение, что каждый житель Третьего рейха душой и телом принадлежал нацистам и потворствовал, а то и способствовал расистской политике и методам ее внедрения, грешит чрезмерной упрощенностью. Не мог целый народ присоединиться к нацистам, фанатикам и психопатам. Преследование евреев вызвало протест в определенных кругах общества в первую очередь среди отпрысков родовитых семей с вековыми традициями моральных устоев, творческих людей и интеллигенции, некоторых священников (особенно католических) и студенчества. Не говоря уже о безвестных людях всех социальных слоев, ибо нравственность не является привилегией знаменитостей. Многие проявляли незаурядное мужество, по мере своих сил противясь соблазнительному лозунгу «Фюрер, Народ и Отечество». Тем не менее, как отметил Берли: «Единственным источником порядочности была совесть человека <…>, а моральные установки войны задавал Гитлер. Фюрер объявил: «Это война на уничтожение. Полководцы должны принести в жертву свою щепетильность». Нравственность стала синонимом подчинения великому замыслу Гитлера. Десятилетие расистского садизма, просачивавшегося вплоть до самых основ семьи и личной этики, вытеснило независимое сознание. Но порой даже совесть простых солдат не выдерживала нагрузки. В соответствии с планом «Барбаросса» были сформированы четыре рабочие бригады: А, В, С и D. Их основная функция заключалась в том, чтобы убивать и подстрекать к убийствам остальных. Им поручили резню высшего сорта, для которой даже их огрубевшие сердца оказались слишком чувствительны, что доказывают болезни, просьбы о переводе в другой штаб или к другим обязанностям. Иные плакали, напивались, страдали нервными срывами или импотенцией. Один солдат впал в безумие и пристрелил нескольких товарищей. Как правило, им требовалось убедиться в необходимости того, что они делают. Но закаленные солдаты привыкали к кровопролитию, прочие же оставались в меньшинстве.
При Третьем рейхе большинство немцев активно поддерживали Гитлера или, боясь за свои семьи и свою жизнь, никак не сопротивлялись Черным Событиям. Подать голос, рискуя понести страшное наказание, простому горожанину было нелегко, хотя возможно.К примеру, Александр Гогенштейн, мелкий чиновник, руководитель районной партийной организации в округе Вартегау [28]28
Вартегау – название западной части Польши после ее аннексии Третьим рейхом.
[Закрыть], в 1941–1942 годах вел дневник, раскрывающий стремление немецкого националиста жить по-человечески. Он не хотел притеснять поляков и евреев, чтобы расчистить себе место: «Не требуйте от меня столь грубого нарушения моих представлений о человеческом достоинстве. Если кто-то относится ко мне уважительно, я обязан отвечать ему тем же. Как я могу не повернуть головы, если человек со мной здоровается? Никакая власть не в силах запретить мне соблюдать элементарные правила приличия». Гогенштейн, как мог, старался облегчить положение бесправных евреев в местном гетто, снабжая их картошкой для наполнения пустых желудков и дровами для отопления немилосердно холодных помещений. Он продолжал обсуждать литературу и обмениваться подарками с женой своего дантиста: «Да, она самая что ни на есть чистокровная еврейка. Но у нее золотое сердце. Что значит разница крови, расы и цвета кожи по сравнению с душой!» Многие немцы подобным же образом разрывались между нерассуждающим расизмом и врожденной человеческой порядочностью.
Бесстрашным и открытым противником нацистского режима был граф Гельмут фон Мольтке. 10 сентября 1940 года он написал своей жене Фрейе, матери их троих детей: «Я не перестаю удивляться, насколько же народ потерял ориентиры. Это как игра в жмурки: их раскручивали и раскручивали с повязкой на глазах, пока они не перестали понимать, где право, где лево, где зад, где перед». Фон Мольтке являлся одним из основателей тайного «кружка Крайзау» – лидера подпольного сопротивления нацизму. Члены кружка время от времени встречались в его имении Крайзау в Шлезии, обсуждая свои разногласия с Гитлером в вопросах этики и патриотизма и изыскивая способы от него избавиться. Услышав о репрессиях в Сербии и Греции (где в одной только деревне почти две тысячи человек были расстреляны за нападение на трех немецких солдат), в письме от 21 октября 1941 года он спрашивал Фрейю:
Разве могу я, зная об этом, сидеть за столом в своей теплой квартире и спокойно пить чай? Разве не попадаю я таким образом в число виновных? Что я скажу, когда меня спросят: «А что тыделал в это время?» С субботы берлинских евреев взяли в оборот. Отовсюду только и слышно, что не более двадцати процентов евреев или военнопленных выживают при перевозке, что в лагерях военнопленные мрут от голода, что бушуют эпидемии брюшного тифа и других болезней, что наши же граждане падают замертво от изнеможения…
Можно ли знать все это и жить как ни в чем не бывало?
Нравственная дилемма графа Гельмута фон Мольтке звучала так: «Раз мне это известно, не становлюсь ли я виновным в попустительстве, поскольку обо всем знаю, но не предпринимаю ничего, чтобы остановить зло?» Такие, как он, составлявшие, правда, весьма редкие исключения, в результате долгих поисков истины начинали считать себя если не виновными, то сообщниками.Следовательно, моральный долг велел им сопротивляться, пусть даже ценой собственной жизни – что и сделали граф фон Мольтке, фон Штауффенберг и еще две сотни связанных с ними людей.
В феврале 1942 года Геббельс упоминает, что Гитлер недвусмысленно заявил о своих планах в отношении еврейского народа. Четырнадцатого числа он записал в своем дневнике: «Фюрер в который раз выразил решительное намерение безжалостно очистить Европу от евреев. Здесь не должно быть места щепетильности и сентиментальности. Евреи заслужили свою катастрофу. Нам надлежит ускорить этот процесс, хладнокровно и без церемоний».
Логика смерти набирала обороты. «Безжалостно», «без церемоний» – тюремного заточения, принудительного труда, болезней и мук голода стало уже недостаточно. Предложенные новые меры хранились в строжайшем секрете и осуществлялись фанатиками, а не просто подчиненными, выполняющими приказ. Многие относились к своей задаче с отменным рвением. Один бывший работник Освенцима признавался сорок лет спустя, что истребление евреев до сих пор вызывает у него смешанные чувства:
Мы всегда помнили о том, что евреи – наши враги внутри Германии. Пропаганда воздействовала таким образом, что мы считали их уничтожение примерно тем же самым, что происходит обычно на войне. Чувство жалости или сострадания было бы неуместно. Дети – не враги, но кровь в их венах – враг. Угроза – в том, что им предстоит вырасти евреями, несущими опасность. Поэтому дети тоже заражены.
Рядовые немецкие граждане по большей части ничего толком не знали о концентрационных лагерях, помимо того, о чем сообщала пропаганда: есть места, где евреи и прочие неарийцы собраны для работ – каторжных работ,да, но в то время все работали на войну, как каторжники. Они не подозревали об «Акции 14f13», предписывающей эвтаназию для утративших работоспособность заключенных немецких и австрийских концлагерей. Хотя проповеди католического епископа фон Галена, яростно обличающие эвтаназию и убийства заключенных в лагерях, доходили до ушей многих католиков и обсуждались самыми смелыми. В декабре 1941 года в центре уничтожения города Хелмно начали действовать первые газовые камеры. Затем, весной 1942 года, аналогичные устройства для массовых убийств были установлены в лагерях Освенцим, Собибор, Бельзек и Треблинка. Лишь ничтожная (возможно, меньше десяти процентов) часть населения знала о замалчиваемых зверствах в поездах с заключенными и лагерях уничтожения, которые не случайно располагались далеко, в Польше. Это не пристрастная оценка сторонника нацистов, цифру приводит граф Гельмут фон Мольтке, в марте 1943 года писавший другу в Стокгольм: «По меньшей мере девять десятых населения не знают, что мы убили сотни тысяч евреев. Они все еще считают, что евреев просто отделили от нас и отправили на Восток, откуда они родом. И что живут они там, может быть, и беднее, зато не подвергаются воздушным налетам». Скептически настроенные десять процентов могли заподозрить, что это далеко не так, но полный доступ к информации имело только очень ограниченное количество лагерных надсмотрщиков, должностных лиц и охранников, ответственных за выполнение жуткой работы.
Еще один порядочный немец по имени Ульрих фон Хассель сопротивлялся поднимающейся волне массовых убийств и поплатился за это жизнью. Консервативный дипломат старой закалки, он служил послом Германии в Риме с ноября 1932 года. Высокий, изысканный, владеющий несколькими языками, фон Хассель также принадлежал к числу основателей «кружка Крайзау». Он и его единомышленники подвергались непомерному риску, создавая оппозицию Гитлеру. Тем более что с 1942 года он знал, что гитлеровская тайная полиция следит за каждым его шагом. Дневники фон Хасселя проникнуты ужасом и стыдом за обращение с евреями и советскими военнопленными, каковое он называл «сатанинским варварством». «Война на Востоке чудовищна – это возвращение в первобытное состояние». В ноябре 1941 года он написал: «Всякий порядочный человек испытывает отвращение, глядя на бессовестное обращение с евреями…»
Вильгельм Фуртвенглер остается противоречивой фигурой. С ним, директором Берлинской филармонии и одним из лучших дирижеров Германии, если не всего мира, нацисты обходились более или менее прилично. Его концерты часто передавались по радио для поднятия боевого духа армии, но власти ограничивали и контролировали его музыкальный репертуар. К евреям Фуртвенглер относился неоднозначно. С одной стороны, он часто хвалил и продвигал артистов еврейского происхождения, но с другой стороны, поддерживал бойкот еврейских товаров и критически отзывался о засилии, как он считал, евреев в прессе. Его осуждали, помимо прочего, за фотографию, на которой он стоит рядом с улыбающимся Гитлером. Фуртвенглер никогда не вступал в нацистскую партию и дважды пытался убедить Гитлера не ссылать еврейских музыкантов. Гитлер отказал, и карьера Фуртвенглера пострадала в результате этого заступничества. В итоге, поступившись совестью, он заключил взаимовыгодное соглашение с нацистами. Надо полагать, таких, как он, кто жил и работал бок о бок с нацистами, но в глубине души возмущался и пытался сопротивляться по мере своих скромных возможностей, было много.
Протестовали не одни мужчины. 27 февраля 1943 года во время знаменитой берлинской демонстрации на Розенштрассе сотни «чистокровных» немецких матерей семейств, чьих мужей-евреев ожидали депортация и смерть, заполонили улицу перед зданием, где тех держали под арестом. Они оставались там день и ночь, держась за руки, распевая песни и скандируя: «Отпустите наших мужей!»
Власти не могли прибегнуть к репрессивным мерам, поскольку, сделав мучениц из немецких жен, они разрушили бы заботливо созданный образ нацистов – защитников материнства. До того режиму удавалось сохранять геноцид против евреев и прочих в тайне, но когда он стал задевать группы населения, не боящиеся восстать против расистской политики, угрожающей смертью их мужьям, секретность начала трещать по швам. Невооруженные, неорганизованные и не связанные ни с какой оппозицией, женщины не уходили целую неделю, требуя возвращения своих мужей так настойчиво и яростно, что в конце концов Геринг вынужден был уступить. 6 марта 1943 года почти две тысячи мужчин получили свободу, даже двадцать пять уже переправленных в Освенцим, и почти все пережили войну. Это был единственныймассовый публичный протест против нацистского режима за все двенадцать лет существования Третьего рейха.
Гитта Серени, безжалостно критикующая немцев за инертность перед лицом зла, через много лет после войны спросила Маргрет Шпеер, обсуждал ли когда-либо фюрер с женщинами своего круга хоть что-то серьезное, не говоря уже о концлагерях. Ответ звучал так: «Мы действительно жили очень изолированно [от внешнего мира]. Конечно, мы знали, что что-топроисходит, но представляли себе только тюремные лагеря, для преступников, я имею в виду, если вообще кто-то давал себе труд о них задуматься».
Маргрет была честной женщиной, и по прошествии лет ее терзала собственная пассивность в то время, когда она, несомненно, подозревала, что все далеко не безоблачно. Смысл ее ответа зависит от того, как понимать выражение «конечно,мы знали». Значит ли это «мы знали,конечно», то есть мы знали все? Или «конечно, мы знали что-то»,в смысле что-то дотакой степени страшное, что невозможно произнести вслух? Серени попыталась пояснить ответ Маргрет:
Гитлер гениально подкупал окружающих, но необычайно искусно оберегал своих близких от любых сведений, которые могли бы нарушить гармонию их отношений. Что могли знать немцы в начале тридцатых о судьбе, уготованной евреям? Помимо полемики Гитлера и Геббельса, которую мало кто – включая евреев – принимал всерьез, почти ничего.О массовых убийствах еще не помышляли, хотя гонения на евреев неуклонно набирали силу.
Траудль Юнге подтверждает: «Слово «еврей» практически не произносилось. Никто никогда не затрагивал эту тему».
И тем не менее даже на «Горе» некоторым женщинам хватало мужества высказаться. Супруга Геринга – бывшая актриса Эмми Зоннеман, обладающая незаурядно сильным характером, – заступалась перед Гитлером за евреев, видимо, без особого успеха. Но даже если она вмешалась всего один раз, это, по меньшей мере, поразительно. Это означало, что она бросила вызов как Гитлеру, так и своему мужу, проявляя запретное для немецких жен независимое сознание. Но Эмми – особый случай. Гитлер, похоже, закрывал глаза на то, что ее предыдущий муж был евреем, и раз в год она навещала детей от первого брака, живущих в безопасности в Швейцарии.
В 1943 году дочь Генриха Гофмана Генриетта (Хенни), маленький солнечный лучик (Sonnenschein),которую Гитлер обожал, когда она была ребенком, справила тридцатилетие и вышла замуж за Бальдура фон Шираха, бывшего лидера гитлерюгенда, получившего к тому времени пост гауляйтера Вены. Частая гостья в Бергхофе, она как-то приехала туда на выходные вскоре после своего путешествия по Голландии. Она описала Гитлеру инцидент, которому – не веря глазам своим – стала свидетельницей на главном вокзале Амстердама:
Я сделала глубокий вдох и начала: «Я хотела бы поговорить с вами об ужасных вещах, увиденных мной; не могу поверить, чтобы вы о них знали». [Отзвук голосов миллионов других немцев, которые, увидев открытое проявление жестокости, со вздохом бормотали: «Если бы только фюрер знал! Он бы обязательно пресек это!»]
[Генриетта продолжила: ] «Беззащитных женщин окружили и согнали вместе, чтобы отправить в концентрационный лагерь. Боюсь, они никогда не вернутся».
Воцарилась мучительная тишина. Гитлер побледнел. В отблесках огня из камина его лицо выглядело как маска смерти. Он бросил на меня испуганный, удивленный взгляд и сказал: «Мы на войне».
Потом вскочил и закричал на меня: «Вы сентиментальны, фрау фон Ширах! Вы должны научиться ненавидеть!»
Ева Браун, должно быть, слышала этот разговор – на подобных неформальных ужинах в кругу доверенных друзей она всегда сидела рядом с Гитлером, – но, как и все остальные, промолчала. Траудль Юнге в своей версии эпизода добавляет: «Воцарилась мучительная тишина. Вскоре Гитлер встал, попрощался и ушел к себе наверх. На следующий день фрау фон Ширах вернулась в Вену, и об инциденте больше не упоминали. По всей видимости, она превысила свои полномочия и не выполнила свой долг гостьи, состоявший в развлечении фюрера».
Генриетта и ее муж порой проявляли смелость и прямоту. Как-то раз или, возможно, тогда же – 24 июня 1943 года, если верить адъютанту Гитлера, сравнительно честному и порядочному Николаусу фон Белову, – Бальдур фон Ширах настаивал, что нужно найти способ поскорее закончить войну. «Гитлера вывел из себя этот разговор с Ширахом, – писал фон Белов, – и он ясно дал понять, что не желает больше иметь с ним дела. И действительно, это была их последняя встреча».
Шпеер, не присутствовавший при ссоре, отметил, что после нее воцарилась гнетущая атмосфера: «Все ходили чернее тучи, потому что каждый из нас очень переживал за Гитлера. На «Горе» существовало правило: не заговаривать о неприятном, оберегая его короткие часы отдыха». Инцидент примечателен как потрясением Генриетты, когда она воочию увидела бедственное положение евреев, так и ее предположением, что Гитлеру ничего об этом не известно. Очевидно, впоследствии он отлучил ее от Бергхофа, так как о дальнейших визитах упоминаний не сохранилось. Гость, нарушающий бережно поддерживаемую иллюзию уютного покоя, становился нежелателен. Преступивших неписаные правила более не приглашали.