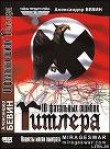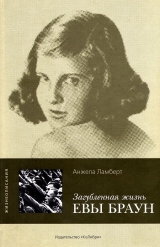
Текст книги "Загубленная жизнь Евы Браун"
Автор книги: Анжела Ламберт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 34 страниц)
Письмо продолжается:
Вчера я звонила Гретль, возможно, в последний раз. Отныне о телефонных разговорах можно забыть. Но я нисколько не сомневаюсь, что в конце концов все будет хорошо, и ОН настроен оптимистично, что ему вообще-то не свойственно. [Ей не терпится узнать новости о сестрах и старых друзьях.] Как дела у Гретль и куда подалась Ильзе? Где Кетль? И Георг, и Бепо? Пожалуйста, напиши длинное письмо, и поскорее! Прости, что мое письмо несколько сумбурнее, чем обычно, но я очень тороплюсь, как всегда. Мои самые-самые наилучшие пожелания всем вам.
Всегда твоя Ева
В одиннадцати метрах над ее головой тряслась земля, и армированные бетонные стены бункера содрогались от взрывов советских гранат и грохочущих вблизи танков, но Ева не теряла напускной бодрости.
Она завершает письмо трогательным постскриптумом: «Эта фотография для Гретль. Она может считать одного из малышей [щенков Блонди] своим. Попроси, пожалуйста, фрау Миттльштрассе отпустить австрийских горничных по домам – приказ сверху. Но только ненадолго – недели на две или около того, я полагаю. И передай ей тоже мои наилучшие пожелания, ладно?» Заботливая и щедрая до последнего, Ева надеется вернуться в Бергхоф через две недели и строит соответствующие планы для горничных. К тому моменту из всех обитателей бункера, пожалуй, только она и Магда Геббельс еще верили в Гитлера. Почти все прочие считали его бредящим безумцем, смертником. Но для Евы все скоро снова будет хорошо, она воссоединится с любимыми и родными, и они заживут припеваючи. Так сказал Гитлер.
Ее кузина Гертрауд, прочитав воспоминания Траудль Юнге о жизни в бункере, поделилась со мной своими соображениями:
Очень интересно, как в те последние дни люди, отбросив все церемонии, курили и пили в присутствии Гитлера, словно говоря: «Какого черта, теперь уже все равно… Гитлер нам не указ». Ева казалась спокойной и собранной. Как говорит Траудль Юнге: «Ее участь не вызывала сомнений и все же глубоко трогала. Есть такое немецкое выражение: «вместе сидели, вместе и висеть». Так все и обстояло для Евы, которая не раз это обещала и осталась верна себе».
Девятнадцатого апреля Ева в последний раз прогулялась по Тиргартену, обширному саду вокруг рейхсканцелярии. Погода была прекрасная, но зажигательные бомбы практически полностью уничтожили молодую листву на деревьях. Природа страдала вместе со всеми. Траудль Юнге сопровождала Еву в этой последней экскурсии:
Ева Браун вышла из своей комнаты. Снаружи наступила тишина. Мы понятия не имели, какая там погода. Хотелось подняться в парк, чтобы подышать немного свежим воздухом, выгулять собачек и увидеть дневной свет. Густая пелена пыли и дыма висела над Берлином. Ева Браун, фрау Кристиан и я молча брели по парку. Повсюду на ухоженных газонах виднелись глубокие воронки, но мы все никак не могли поверить, что, кроме сожженных танков, Германии больше нечем обороняться. Конечно же завтра подойдут войска и погонят врага прочь. Деревья расцветали, зеленая травка пробивалась там и тут, все в природе обновлялось. <…> Мы были почти счастливы от того, что можно развеяться и вдохнуть полной грудью. Собаки затеяли возню, а мы присели на камень покурить. Ева Браун зажгла сигарету и, заметив наше удивление, сказала: «Да полно вам, в чрезвычайных обстоятельствах я имею право на из ряда вон выходящие поступки».
Тем не менее в сумочке у нее нашлась коробочка мятных конфет, и она бросила в рот одну, когда при первых звуках сирены мы отправились обратно в бункер.
После этой прогулки она время от времени поднималась по лестнице, ведущей из бункера на поверхность, чтобы несколько минут подышать свежим воздухом – на самом деле вовсе не свежим, а полным пыли и дыма, – но во внешний мир ее нога более не ступала.
В тот вечер, как рассказывает Траудль Юнге:
Гитлер пригласил нас к себе – все стало намного проще теперь, когда круг его друзей так сузился. Ева Браун села рядом с ним и, не обращая внимания на остальных, завела разговор: «Послушай, ты помнишь ту статую возле Министерства иностранных дел? Восхитительная скульптура! Она отлично смотрелась бы в моем саду у пруда. Прошу тебя, купи ее мне, если все кончится хорошо и мы выберемся из Берлина!» Она обратила на него молящий взгляд. Гитлер взял ее за руку: «Но я понятия не имею, кто ее владелец. Возможно, она принадлежит городу, и в таком случае я не могу просто купить ее и поставить в частном саду». – «Ах, – сказала она. – Если тебе удастся отбиться от русских и освободить Берлин, то ты сможешь позволить себе одно-единственное исключение!» Гитлер посмеялся над ее женской логикой.
На следующий день, 20 апреля, Гитлер отмечал свой день рождения. Среди ближайшего окружения было заведено поздравлять его в полночь. Гитлер запретил празднества в столь неуместный момент, но Ева Браун взяла верх, и – ища высочайшего расположения до последней минуты – они все равно собрались. Шпеер вспоминал: «Все они пришли поздравить Гитлера, те же люди, что приходили каждый год». Приветствия, должно быть, звучали натянуто. Бледные узники, слишком долго просидевшие в искусственной пещере под истерзанной землей, – Геринг (свиноподобный, как всегда, несмотря на дефицит продовольствия), Шпеер, Риббентроп, Борман и полдюжины командиров вермахта, – поздравили своего разваливающегося на части фюрера с пятидесятишестилетием, пожелали долгих лет и всяческих благ, после чего принялись хлестать шампанское и поглощать икру. Печальная ирония: на складах бункера не осталось почти ничего, кроме деликатесов в огромном количестве, в то время как запасы молока, масла, яиц, хлеба и прежде всего свежих овощей почти истощились. Для желудка Гитлера это стало особенно тяжким испытанием.
Именинное застолье представляло собой мрачное зрелище. Было не до веселья. Доброе расположение духа наигранно, подарков мало, и все никчемные. Ева специально заказала свой портрет в затейливой серебряной рамке. (Что делал Гитлер со всеми фотографиями, которые она ему дарила? Он не мог ставить их себе на письменный стол, а тем более вешать на стену, хотя портрет Гели украшал его спальню в рейхсканцелярии. Ее можно было показывать, но Еву надлежало прятать.) Как ни старалась Ева развлечь гостей, атмосфера воцарилась тягостная, сам Гитлер выглядел утомленным и подавленным. Злополучное покушение в июле 1944 года надолго подорвало его силы, а переутомление, разочарование и досада на превосходство сил союзников – каковое невозможно было более отрицать, ибо они стояли у самого порога – словно прибавили ему лет, так что он выглядел гораздо старше своих пятидесяти шести. Вечеринку вскоре перенесли наверх, в просторные залы новой рейхсканцелярии, где все пытались изображать веселье под непрестанные завывания сирен воздушной тревоги. Ева оставила их и вернулась в бункер – пить чай наедине с Гитлером в его тесном кабинете и предаваться воспоминаниям о прежних, куда более радостных днях рождения.
Наконец, в пять утра фюрер отправился спать и на следующий день встал позже обычного, в два часа дня. Чисто выбритый и одетый в привычную униформу, он медленно поднялся по ступеням, ведущим в парк рейхсканцелярии. Там он сфотографировался последний раз в жизни, награждая Железным крестом за выдающуюся храбрость горстку измученных войной солдат и двадцать новобранцев из гитлерюгенда – смертельно бледных от усталости подростков. Гитлер, пряча за спину судорожно трясущуюся левую руку, но пытаясь улыбнуться, треплет по щеке белобрысого паренька, который взирает на него с непонятным выражением – почтения, ужаса, обвинения? Эти закаленные в бою мальчики так отличались от здоровых крепышей, вскидывавших руки в единодушном салюте «Хайль Гитлер!» семь лет назад в Нюрнберге. Теперь они сражались, защищая Берлин от русских танков, и вместо славы, о которой они мечтали, их ждала горькая, порой смертоносная награда. Лишенные самого ничтожного шанса когда-нибудь стать взрослыми, они тысячами гибли от рук советских солдат. Бойцы народного ополчения и мальчишки из гитлерюгенда, откликнувшиеся на призыв защищать своего фюрера до последнего вздоха, верили, что генерал Венк уже идет им на помощь. Очередная ложь. Их командиры знали правду, и все же изнуренные дети – некоторым всего по двенадцать лет – продолжали строить импровизированные баррикады. Они храбро бились, и их мужество заслуживает признания, пусть они и служили неправому делу.
В то же самое время – в тот же день, сразу после полудня – колонна грузовиков из Нойенгамме, концентрационного лагеря под Гамбургом, доставила в пустое здание школы на севере города партию евреев из двадцати двух детей от четырех до двенадцати лет, двух женщин и двадцати шести мужчин. Все они использовались для медицинских экспериментов и являли собой ужасающее свидетельство бесчеловечного обращения режима с теми, кого он не убивал. Именно поэтому их нельзя было оставлять в живых. Пятьдесят человек загнали в школьный спортзал и повесили одного за другим: взрослых, детей и четверых сопровождавших их медицинских работников. Милосердие и сострадание давно вымерли.
Гитлер и его маленькая свита вернулись в рейхсканцелярию, где он отобедал с двумя своими старшими секретарями, Иоганной Вольф и Кристой Шрёдер. Криста служила ему с тех пор, как он стал канцлером, – двенадцать лет.
А хладнокровная, невозмутимая Иоганна работала у него еще с 1929 года. Он знал, да и они, наверное, знали, что никогда больше не сядут за стол вместе.
Притворяться более не имело смысла. Решающий момент наступил. Все, включая фюрера, знали, что Советская армия окружает город. Осталось только два пути к бегству, да и те в любое мгновение могли оказаться перекрытыми. Всех созвали выслушать Гитлера, и люди столпились в так называемом «большом зале совещаний» его бункера: Геринг, Денитц, Кейтель, Риббентроп, Шпеер, Йодль, Гиммлер, Кальтенбруннер и Кребс, большая часть его личных подчиненных, около сотни должностных лиц и прочих обитателей подземелья. И Ева. Гитлер произнес речь, которую начал с изложения бесполезного плана обороны города и закончил признанием, что желающие уйти должны сделать это, пока не поздно. Он надеется, что они скоро снова соберутся в Оберзальцберге и продолжат вести войну оттуда. Сам он, мол, еще не решил, покинуть Берлин или остаться. Шпеер вспоминал: «Гитлер сказал им, что хочет, чтобы они спасались, бежали на запад. Он всем посоветовал пробираться на юг Германии, где они будут в безопасности. Он устроил на месте множество побегов – на самолетах, на автомобилях. Одно только не приходило Гитлеру в голову – бежать самому. И конечно, многие хотели спасти свою жизнь и пришли проститься».
Вечером 20 апреля 1945 года Шпеер, Гиммлер, Геринг и Лей вместе с десятками других покинули бункер.
День клонился к вечеру. Они получили избавление, которого так ждали – особенно Геринг, хотя его имущество, его жена и ребенок уже два месяца как были надежно укрыты в баварских горах. Он едва скрывал свое нетерпение отправиться поскорее в путь. Гитлер объявил, что останется в Берлине поддерживать боевой дух своих солдат, а когда всякая надежда будет потеряна, покончит с собой. Все наперебой упрашивали его ехать в Баварию. Риббентроп обратился к Еве, умоляя ее вытащить Гитлера из Берлина. Следует обратить внимание на тот факт, что он считал ее единственным человеком, способным повлиять на него. Ева отказалась. Траудль Юнге пишет:
Он имел разговор с Евой Браун, содержание которого она позже пересказала мне.
«Попросите его уехать из Берлина с вами. Этим вы окажете неоценимую услугу Германии».
Но Ева ответила: «Я не стану передавать ваше предложение фюреру. Он должен решать сам. Если он сочтет нужным остаться в Берлине, то я останусь с ним. Если он уедет, тогда я тоже уеду».
Всего несколько часов оставалось в запасе у отшельников в бункере до перекрытия дороги на юг. Не менее восьмидесяти человек второпях упаковали чемоданы и пришли к Гитлеру прощаться. Он молча смотрел на каждого или бормотал что-то невнятное. Его самые давние, с начала двадцатых годов, сподвижники, с трехзначными партийными номерами, старые товарищи по оружию, кому он верил, кого наделил влиянием и богатством, покидали его. Дав им разрешение на отъезд, Гитлер все же в глубине души надеялся, что они останутся. Его адъютант Юлиус Шауб засвидетельствовал: «Гитлер был глубоко разочарован, просто потрясен, что его «рыцари» добровольно бросают его. Он просто кивнул людям, которых поднял к вершинам власти, и молча вышел».
Словно крысы, высыпающие из норы, воровато, но в лихорадочной спешке, с набитыми чемоданами и небрежными словами прощания, преторианская гвардия Гитлера ринулась спасать свою шкуру. Вереница автомобилей и самолетов потянулась на юг. Многие переоделись в гражданское, надеясь избежать ареста. Другие сорвали знаки отличия с мундиров, чтобы оккупанты не догадались, сколь важные, чрезвычайно важные,персоны под ними скрываются. Щеголь Геринг сменил свою сизо-серую униформу с тяжелыми золотыми эполетами на менее приметную, цвета хаки – «как американский генерал», кисло заметил кто-то. В течение следующих трех дней двадцать самолетов вылетели из двух все еще открытых берлинских аэропортов с приказом доставить пассажиров в безопасное место. Многие направились в Берхтесгаден.
Иоганне Вольф и Кристе Шрёдер Гитлер приказал уезжать. Фрейлейн Вольф плакала, понимая, что никогда больше не увидит человека, который шестнадцать лет был ей добрым, внимательным начальником. Альберт Шпеер, некогда любимый протеже, не попрощавшись, уехал на своем автомобиле в четыре часа следующим утром, на север, чтобы воссоединиться с семьей, проживающей в относительной безопасности в городе Каппельн, на обособленном полуострове, омываемом Балтийским морем, неподалеку от Гамбурга. По пути через задымленный Берлин он, повинуясь внезапному порыву, вышел из машины и написал на стене: «Альберт Шпеер, 21 апреля 1945». Желание оставить по себе память или просто заметка для истории? Или столь свойственный человеку эгоизм, потребность крикнуть «я здесь был»?
Иллюзии Гитлера рассыпались в прах после отъезда тех самых людей, которые не далее как вчера клялись ему в вечной верности. Ослепленный лестью, он им верил. Несколько его близких – верные адъютанты, две младшие секретарши и повариха фрейлейн Манциарли – присоединились к нему и Еве, дабы выпить по стаканчику шнапса перед ранним ужином, после чего фюрер в одиночестве удалился в спальню.
Затем случилось нечто как нельзя более типичное для несгибаемого духа Евы – или же ее поверхностной сущности, кому как больше нравится. Траудль Юнге рассказывает, что после ухода Гитлера Ева устроила, представьте себе, импровизированную вечеринку.
Ева Браун хотела заглушить страх, пробудившийся в ее душе. Она хотела еще раз отпраздновать, пускай никаких поводов для праздника и не осталось, хотела танцевать, пить, хотела забыться… Она хватала каждого встречного-поперечного и волокла за собой в бывшую гостиную Гитлера на втором этаже, которая все еще была цела, хотя вся хорошая мебель перекочевала в бункер. Даже Борман и жирный доктор Морелль притащились. Кто-то где-то откопал старый граммофон с одной-единственной пластинкой «Кроваво-красные розы говорят тебе о счастье». Ева Браун желает танцевать! Внезапно она всех нас без разбора закружила в бесшабашном вихре, словно уже ощущала ледяное дыхание смерти. Мы пили шампанское и истерически хохотали. Я тоже смеялась, по мне, это все же лучше, чем плакать. Нас то и дело отвлекал то взрыв, то телефонный звонок, то очередное отчаянное послание, но никто не говорил о войне, боях и смерти. Это был пир, заданный призраками. И всю ночь напролет розы сулили счастье.
Траудль сочла вечеринку ужасной и ушла спать, но остальные танцевали чуть ли не до утра под «Кроваво-красные розы», без умолку гремящие из граммофона, водруженного на столик, выполненный по эскизу Шпеера, – единственный приличный предмет мебели в помещении.
Из всех необычных эпизодов в жизни Евы Браун этот, безусловно, самый выдающийся. Всего в нескольких километрах от Берлина русские войска на ходу грабили, насиловали и убивали без зазрения совести. К 20 апреля армия уже стояла на окраине столицы. А в сердце разоренного, осажденного города люди, чья идеология породила Третий рейх, праздновали:пили шампанское, шумели, пели и истерически-безудержно хохотали. Если случался в истории пир во время чумы, то это был как раз он. Как на всякой вакханалии, пение и танцы переросли в оргию. Женщин – не Еву, конечно, ее ужаснуло это зрелище – прижимали к стенкам, задирая им юбки до пояса. Кого-то целовали и щупали, кто-то совокуплялся прямо на полу. Нравственное уродство таких старых развратников, как Морелль, Гофман и Борман, было выставлено на всеобщее обозрение. Ева Браун потихоньку ускользнула. Пир бушевал до зари, пока залпы артиллерийских орудий не загнали всех вниз, в спасительный бункер.
В половине десятого утра 21 апреля, всего через несколько часов после окончания ночной бомбардировки, начался еще более интенсивный обстрел Берлина, Отто Гюнше, адъютант Гитлера по СС, доложил, что фюрер в гневе вылетел из своей комнаты с криком: «Это еще что такое? Откуда стреляют?»
Генералу Бургдорфу пришлось объяснить ему, что центр города находится под вражеским огнем.
«Неужели русские так близко?» – ужаснулся Гитлер.
Вечером 22 апреля в бункер прибыла семья Геббельс.
Это было воскресенье. Солнце сияло вовсю, согревая тем нежным весенним теплом, что лелеет ростки новой жизни. Но не многие берлинцы осмелились бы выйти за порог, чтобы прогуляться по Курфюрстендамм или поиграть с детишками там, где прежде красовались парки. О подобных развлечениях и не помышляли. В бункере же никто не чувствовал времени суток, времени года или перемен погоды. Люди сновали по подземным тоннелям из одного удушливого отсека в другой с сознанием, что в любой момент может наступить конец, вот-вот с оглушающими воплями вломятся, размахивая оружием, грубые солдаты, примутся насиловать и убивать. Бункер почти опустел. Остались основной технический персонал и близкие к Гитлеру женщины, идущие, как лунатики, навстречу неизбежному. Только однажды приоткрыла Ева свое истинное душевное состояние. Траудль Юнге вспоминает:
Мы лишились обычных человеческих чувств, мы не думали ни о чем, кроме смерти. Гитлер и Ева, когда они умрут… когда и как умрем мы. Внешне Ева Браун держалась все так же спокойно, почти бодро. Но однажды она пришла ко мне, взяла мои руки в свои и сказала приглушенным, дрожащим голосом:
«Фрау Юнге, мне так безумно страшно! Поскорее бы все это кончилось!»
В ее глазах отразилось страдание, которое она до сих пор скрывала.
Она написала последнее письмо любимой подруге Герте в совсем ином тоне, чем то, что отослала три дня назад.
Моя дорогая, милая Герта!
Это мои последние строки, последняя весточка от меня живой. Я не могу заставить себя написать Гретль, так что ты уж поговори с ней осторожно. Я собираюсь прислать тебе мои украшения и прошу тебя раздать их в соответствии с моим завещанием, которое хранится на Вассербургерштрассе. Надеюсь, вам это поможет продержаться на плаву какое-то время. Пожалуйста, уезжай из Бергхофа, если только можешь. Все подходит к завершению, и тебе очень опасно будет там оставаться.
Мы тут намерены бороться до последнего, но боюсь, конец все ближе. Не нахожу слов, чтобы описать, как мне больно за фюрера. Прости, пожалуйста, что письмо такое сумбурное, но меня окружают шестеро детишек Г. [Геббельс], а они не способны сидеть тихо. Что еще сказать? Я не могу понять, как до такого дошло, но в Бога после этого верить невозможно!
Человек ждет, чтобы забрать письмо, – вся моя любовь и наилучшие пожелания тебе, мой верный друг! Передай поклон моим родителям, приветы всем моим друзьям. Я умру, как жила.
Мне не тяжело это. Ты же знаешь.
Люблю и целую всех, ваша Ева
Может быть, все снова станет хорошо, но онутратил веру, и я боюсь, что надежды наши напрасны.
Ева утратила веру в Бога, а Гитлер утратил веру в победу. Но она непоколебимо стояла на своем: «Я умру, как жила. Мне не тяжело это. Ты же знаешь». Что тут еще скажешь, кроме ласковых банальностей?
Моя мать едва ли могла найти утешение в письмах. Помню, как она показывала мне записку от тетушки Лиди на разглаженном бумажном пакете. «Gibt’s kein Papier!»– нацарапала моя двоюродная бабушка. Бумаги нет .
Мама, хоть и мучилась беспокойством о своей семье в Гамбурге – жертвах войны, которой она никогда не понимала, – но цеплялась за привычный мир ежедневных хлопот, «свой распорядок», как она это называла: стирку, готовку, мытье посуды, полировку мебели (включая детское пианино «Бехштейн», чуть ли не единственную вещь, привезенную ею из родительского дома в память о мечте своей юности стать певицей). Она застилала постели, штопала и перештопывала плотные фильдеперсовые чулки, уродовавшие ее стройные ноги, исхитрялась стряпать какие-то съедобные блюда из яичного порошка, картофеля, репы и спама [33]33
В те дни спамом называлось нечто вроде прессованной ветчины, изготовленной из негодных в пищу мясных обрезков. Его использовали для бутербродов и начинки пирогов. Примерно такая же гадость, как коммерческие помои, засоряющие современную электронную почту. (Прим. автора.)
[Закрыть], отдавала мне свой паек масла и молока, чтобы я выросла большой, сильной девочкой (так оно и вышло).Но эти лишения были ничтожны по сравнению с тем, что терпела ее семья, роясь в развалинах Гамбурга в поисках еды, дров и даже бумаги.Подробности важных событий в Германии, передвижения войск, наступление Советской армии на Берлин путались в голове моей матери, которая и географическую карту-то с трудом разбирала. Она мало знала о происходящем – само собой, новости в газетах и на канале ВВС излагались предвзято и с чрезмерным оптимизмом, – а я не знала ничего. Для меня гораздо важнее было, что на эту неделю приходился мой пятый день рождения. Я получила подарок от родителей: маленький столик где-то в три дюйма длиной и два стульчика к нему для моего кукольного домика. Ребенком я не слишком любила играть в куклы, но до сих пор вижу эти подаренные мне игрушки так ясно, словно они стоят передо мной на письменном столе.
Позже в то же воскресенье 22 апреля, в 3.30 пополудни, Гитлер в последний раз собрал военное командование трех армий на совещание. Он перевозбудился, а затем впал в истерику. Он вышел из себя, сыпал проклятиями, обзывал своих командиров (Кейтеля, Йодля, Кребса и Бургдорфа) никуда не годными растяпами, трусами и предателями, бушевал и орал до полного изнеможения. И наконец, согласился – когда ему сказали, что русские уже вступили на северную окраину города, – что продолжать бои бессмысленно. Как только припадок прошел, он рухнул в кресло, тихо всхлипывая, и отдал приказ о всеобщем отступлении, а затем удалился к себе, оставив потрясенную аудиторию в недоумении.
Вслед за тем имел место эпизод, увенчавший годы, проведенные Евой подле Гитлера. После долгих лет притворства и скрытности фюрер показал, что любит и ценит ее. Он вызвал к себе двух оставшихся секретарей, Траудль Юнге и Герду Кристиан, свою личную повариху Констанце Манциарли и Еву Браун. Фрау Юнге записала, что произошло дальше:
Лицо Гитлера, лишенное всякого выражения, с потухшими глазами, напоминало маску смерти. Он сказал: «Идите и собирайтесь сейчас же. Через час самолет заберет вас на юг. Все потеряно, безвозвратно потеряно». [« Es ist alles verloren, hoffnungslos verloren».]
Ева Браун первой стряхнула с себя оцепенение. Она подошла к Гитлеру – который уже схватился за ручку двери, – взяла его за обе руки и сказала с успокаивающей улыбкой, как говорят с малыми детьми: «Полно тебе, ты же знаешь, что я остаюсь с тобой. Я не позволю тебе отослать меня прочь».
Тут глаза Гитлера вновь наполнились светом, и он сделал нечто такое, чего никто, даже самые близкие друзья и доверенные служащие, никогда, ни разу не видел: поцеловал Еву Браун в губы.
Он поцеловал Еву Браун в губы.Не поцеловал, как обычно, ручку, едва скользнув губами по коже, не символически, не из формальной любезности, но по-настоящему, как любовник, в губы. Он признался в любви, показав женщинам, перед которыми десять лет соблюдал приличия, что она его избранница, его спутница, его возлюбленная. Он преодолел свои внутренние комплексы, признав и почтив ее недвусмысленным публичным жестом. Этобыл ее триумф, ее звездный час.
Потом Гитлер сказал: «Мне невыносимо тяжело произнести это, но так уж сложилось: я не хочу оставаться и умереть здесь, но у меня нет выбора».
Фрау Кристиан и я ответили почти в один голос: «Мы тоже остаемся!»
Гитлер внимательно посмотрел на нас: «Прошу вас, уезжайте!» Но мы только покачали головами. Он пожал каждой из нас руку. «Хотел бы я, чтобы мои генералы обладали вашей храбростью!»
Даже фрейлейн Манциарли, которой было нечего больше делать на кухне, не пожелала покинуть Берлин.
Четыре женщины удалились из комнаты, чтобы написать друзьям и семьям, распорядиться своим имуществом, составить завещания, привести в порядок одежду и прочие вещи, которые попадут в руки варваров. Гитлер дал большинству находящихся в бункере женщин разрешение на отъезд и обещал помочь им выбраться из Берлина. Многие охотно приняли его предложение. Оставшись без дела, он переключил свое внимание на собак. Фюрер сидел в коридоре, пристроив одного из щенков Блонди к себе на колени, и безучастно глядел, как приходят и уходят люди. Подчиненные тихо и спокойно выполняли свои обязанности, следуя его указаниям. Непристойные празднества закончились.
В тот же вечер первые элитные танковые дивизии русских достигли южной окраины Берлина. Улица за улицей они пробивали себе путь через разрушенный, обгорелый, изуродованный город. Здания лежали в руинах, у некоторых сохранились в целости первые два-три этажа, а сверху, на месте бывших комнат, зияли пробоины или торчали столбики кирпича. Сожженные автомобили, словно мертвые черные жуки, валялись по обочинам дорог. Плотное облако пепла и пыли серой пеленой окутывало улицы. Днем непрерывный артиллерийский огонь угрожал тем, кто выползал из укрытия на поиски еды или за водой к колонке. Ночью зловещий свист, грохот и взрывы падающих бомб угрожали всем и каждому.
Артиллерия подошла уже совсем близко, на расстояние всего двенадцати километров. Обстрел практически не прекращался. Бункер фюрера казался более надежным убежищем, чем апартаменты семьи Геббельс наверху, в рейхсканцелярии. Гитлер приказал Йозефу и Магде с их шестью детьми в возрасте от пяти до двенадцати лет перебраться под землю. Вечером 22 апреля они заняли четыре комнаты в малом бункере на верхнем уровне, ранее принадлежавшие доктору Мореллю. Хельга, Хильда, Харальд, Хольде, Хедца и Хейде не подозревали, какая судьба их ждет, и взрослые приложили все усилия, чтобы так оно и оставалось. Правда, старшая девочка, двенадцатилетняя Хельга, явно о чем-то догадываясь, ходила с тревожным и печальным видом. Для малышей это означало только, что мама, папа, любимый дядя Адольф и тетя Ева теперь всегда будут поблизости и смогут поиграть с ними. Их привели в восторг трехнедельные щенки Блонди – «колбаски», как их называла Ева. «Детишки Геббельс были единственным лучиком света в темном царстве бункера. Они говорили, что «живут в пещере» с дяденькой фюрером, и все принимали участие в игре, чтобы развлечь их по мере сил», – рассказывала летчица Ханна Рейч, о которой позже мы поговорим подробнее. Шестеро красивых и прекрасно воспитанных ребят чинной вереницей проходили мимо людей, толпящихся в проходах, вызывая умиление и острую жалость взрослых. Родители их решили, что они не должны жить в побежденной Германии, обделенные предназначением, которое готовили им светлые локоны. Магда, все еще фанатичная нацистка, объявила: «Лучше пусть мои дети умрут, чем будут жить опозоренными, освистанными в Германии, какой она станет после войны».
Самой сложной задачей для Евы, помимо смерти, стало составление прощальногописьма сестре, находящейся на последних неделях беременности. Еще вчера она писала Герте, что не может заставить себя взяться за перо, но знала, что это неизбежно. Она осторожно выбирала выражения, не осознавая до конца серьезность положения, но стараясь не расстраивать хрупкую Гретль. (Письмо дошло по назначению на удивление быстро, через четыре дня – 27 апреля.)
Берлин, 23 апреля 1945
Моя дорогая сестренка!
Как мне жаль, что ты получишь от меня такое письмо! Но иначе нельзя. Теперь уже в любой день, в любой час все может быть кончено, так что я вынуждена воспользоваться этой последней возможностью, чтобы сказать тебе, что еще нужно сделать. В первую очередь: Германа [мужа Гретль] здесь уже нет! Он отбыл в Науэн, чтобы собрать свой батальон или что-то в этом роде. Я нисколько не сомневаюсь, что ты увидишься с ним. Он обязательно прорвется, быть может, даже соберет ополчение в Баварии, хотя бы на некоторое время. Сам фюрер потерял веру в благополучный исход. Веемы здесь, и я тоже, будем надеяться, пока живы.Держи голову выше и не отчаивайся! Надежда умирает последней. Но, само собой разумеется, мы не сдадимся в плен живыми.
Моя верная Лизль [Аннелизе, ее личная горничная] не желает покидать меня. Я столько раз ей предлагала. Мне очень хотелось бы подаритьей свои золотые часы.К сожалению, в завещании я отписала их Мизи [подруге]. Может быть, ты найдешь вместо них для Мизи какую-нибудь другую ценную вещь среди моих украшений. Уверена, ты сделаешь все правильно. Кроме того, я хочу, чтобы золотой браслет с зеленым камнем был на мне до самого конца. Я попрошу снять его с меня потом, и тогда ты носи его всегда, как я носила. Он тоже достается Мизи по моему завещанию. Так что ты уж уладь, пожалуйста, это дело. К сожалению, мои часы с бриллиантом в ремонте, я напишу тебе адрес в конце письма. Если повезет, ты еще успеешь забрать их. Это тебе, ты же всегда хотела такие. Бриллиантовый браслет и кулон с топазом тоже твои – мне подарил их фюрер на последний день рождения. Я очень надеюсь, что эти мои пожелания будут исполнены.
Вдобавок я должна просить тебя вот о чем: уничтожь всю мою частную переписку, а деловую в особенности. Ни при каких обстоятельствах я не хочу, чтобы хоть один счет от этой Хайзе [портнихи Евы] был обнаружен. Еще, пожалуйста, сожги конверт, адресованный фюреру, лежащий в сейфе бункера. Окажи любезность, не читай содержимого! Что касается писем фюрера и черновиков моих ответов (в синей кожаной записной книжке), будь добра, заверни их во что-нибудь водонепроницаемое и закопай. Пожалуйста, не уничтожай их! Там есть какие-то неоплаченные счета от Хайзе, и не исключено, что придут еще новые, но вместе они не составят больше 1500 рейхсмарок. Понятия не имею, как тебе следует поступить с фильмами и фотоальбомами. В любом случае обожди, пожалуйста, до последнего момента, прежде чем уничтожить все, только деловые и личные письма и конверт к фюреру можешь сжечь сразу же. Также я посылаю тебе кое-какие продукты и табак с этим письмом. Отдай, пожалуйста, немного кофе Линдерсу и Кетль и им же пошли каких-нибудь консервов из моего погреба. Сигареты в Мюнхене – для Манди, и те, что в чемодане, тоже. Табак папе, шоколад мамочке. В Бергхофе есть еще шоколад и табак, возьмите себе весь. Больше ничего в голову не приходит. Вокруг начинают поговаривать, что дела идут на поправку. Вчера генерал Бургдорф оценивал наши шансы как 10 к 100, а сегодня говорит уже о пятидесяти процентах. Вот так! Может, все-таки в конце концов все будет хорошо!
Добрался ли до вас Арндт с письмом и чемоданом? [Вильгельм Арндт вылетел 22 апреля, но самолет сбили, никто не уцелел.] Мы тут слышали, что самолет не прилетел вовремя. Будем надеяться, что он благополучно приземлится у вас с моими драгоценностями. Ужасно, если с ним что-то случилось. Если смогу, завтра первым же делом напишу маме, Герте и Георгу.
Но довольно на сегодня.
Желаю тебе, милая сестричка, много-много счастья. И не забывай, ты непременно увидишься с Германом!
С любовью и наилучшими пожеланиями,
целую,
твоя сестра Ева
Постскриптум: Я только что говорила с фюрером. Он, кажется, настроен несколько более оптимистично, чем вчера. Адрес часовщика: Унтершарфюрер СС Штегеманн, Лагерь СС Ораниенбург, эвакуированный в Киритц.
Это последнее сохранившееся послание Евы во внешний мир. Телефонные линии были обрезаны, дороги перекрыты, и ни один пилот в своем уме не рискнул бы вылететь из Берлина. В письме нет ни слова раскаяния или жалости к себе. Помыслы Евы устремлялись к сестре, родителям, друзьям и верной горничной.