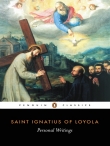Текст книги "Игнатий Лойола"
Автор книги: Анна Ветлугина
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
– Проповедники, пожалуй, самое большое зло, какое можно себе представить в нашем деле, – сказал Людвиг, разглядывая собственноручно нарисованные листки.
Он, как выяснилось, тоже рисовал неплохо. Правда, до Альмы ему всё же было далеко.
– Они льют яд в умы своими проповедями, – продолжал он. – Мы работаем месяцами, объясняя людям такое понятие, как «свобода». Они же могут свести на нет весь наш труд одним выступлением. Выразятся покрасивее и – народ пускает слезу. Особенно бабы.
– То, чем мы занимаемся, тоже можно назвать проповедничеством, – возразил Альбрехт. Людвиг раздражённо отшвырнул листок:
– Фром-бер-гер! Мы не проповедуем, а ведём разъяснительную работу! Понимаешь разницу?
– Понимаю, – буркнул Альбрехт. Спорить не хотелось. Разницы особой он, если честно, не видел. Он вообще стал брюзгливым и раздражительным.
Прошёл уже год, как их выгнали из замка курфюрста, а он всё не мог забыть Альму и не знал, как найти её. Мало того, что его бы теперь не пустили в замок, у него не получалось даже попасть в окрестности Айзенаха.
Мюнцер гонял своих помощников, как ветер облака.
Вчера они «разъясняли» важные мысли крестьянам в Южном Шварвальде, дабы те не организовывали «неправильных» мелких восстаний, а копили силы на большую войну. Сегодня – обращались к лейпцигским беднякам. А завтра собирались подкладывать специальные выпуски листков веймарским зажиточным бюргерам.
Это не означало постоянных поездок, ведь собственных лошадей студиозусы, разумеется, не имели. Они могли передвигаться только с обозами – медленно и не прямо к цели. Порой так и происходило, но чаще они просто передавали сделанные листки нарочному и возвращались в печатню работать.
Сам Мюнцер часто разъезжал, ведя «разъяснительную работу». Его речи отличались прямо-таки зверской ненавистью к церкви. Храмы он называл не иначе, как «капища». Альбрехт был уверен: жену свою – бывшую монахиню Оттилию – «Новый Гедеон» взял в жёны не из любви, а из желания досадить проклятому духовенству.
При таких речах ему до сих пор удавалось оставаться на свободе, из чего студиозусы сделали радостный вывод: инквизиция в Германии работает из рук вон плохо. Всем управляли многочисленные князья. Каждый из них творил законы в своих владениях, не оглядываясь на соседей. Намозолив глаза одному князю, Мюнцер переезжал в другой город и там начинал всё сначала.
Съездив в Чехию, он снискал там лавры «второго Яна Гуса», после чего был немедленно выслан. Потом поселился в Альтштадте, официально заняв место проповедника, и снова принялся за «разъяснения». Ему удалось договориться с местной типографией. Теперь поэтические воззвания Альбрехта печатали с помощью наборных литер.
Глядя на отпечатанный текст, студиозус испытывал прилив гордости, будто создавал целый эпос.
– А мы, презренные крестьяне, опять по старинке, – кривился Людвиг, врисовывая свои художества в пустоты, специально оставленные в каждом экземпляре.
В один из мартовских дней 1524 года, в Маллербахе, неподалёку от Альтштадта, Мюнцер говорил на городской площади о «поганых капищах». Из-за весеннего настроения получилось у него особенно вдохновенно. Разъярившаяся толпа, еле дослушав, бросилась к ближайшему храму. Альбрехт не успел даже ничего сообразить, как часовня уже горела. Выбежала плачущая монахиня.
– Что творите, братья! – рыдала она. – Там статуя Богоматери! Она город наш спасала!
Ответом ей был только смех.
– Замолчи, папская собачонка! – кричали из толпы. – Спасает Бог, а не ваши картинки! Пойди, залей святой водой, если она у вас такая чудодейственная!
Прибежали ещё две монахини. Втроём они приволокли со двора чан с водой и безуспешно пытались потушить пожар.
Толпа зашумела и заулюлюкала с новой силой.
– Протухла, видать, ваша святая водичка-то? Не действует!
Монахини метались в бессильном отчаянии. Одна из них, самая старая, плюнула в толпу.
– Накажет вас Бог, нехристи! Замолите о пощаде, да поздно будет!
– Смотрите, собачонка ещё кусаться вздумала! – крикнул какой-то школяр. – Держи её!
Он пронзительно свистнул. Трое зарвавшихся юнцов бросились на старуху и, задрав длинный чёрный хабитус, показали толпе старухины чулки – серые, убогие, залатанные тут и там.
– Отпустите немедленно! Не стыдно приставать к бабушкам? – крикнул Альбрехт. Школяры рванулись к нему с явным намерением подраться, но, оценив телосложение студиозуса, сникли и оставили монахиню.
– Habitus non facit monachum! (Хабитус не делает монаха!), – всё же не преминул сказать один из них. В толпе снова засмеялись. Школяр гордо приосанился, только Альбрехт не дал ему разгуляться.
– Иди учить уроки, умник! – и, взяв юнца за плечи, дал показательного пинка.
Часовня с чудотворной статуей пылала. Больше никто не пытался её тушить.
Смотрели молча, будто заворожённые. Пожилая монахиня, обиженная школярами, стояла рядом с Альбрехтом и порывалась что-то сказать ему.
– Пусть Бог благословит тебя! – наконец решилась она. – Страшные времена пришли. Уже не часто встретишь убеждённого католика...
Он посмотрел в её испуганные просящие глаза.
– Я не католик, – и быстро ушёл с площади.
Той ночью студиозус не спал до утра, так же, как после откровенности Альмы. Рушился привычный мир. Происходило то, о чём он так мечтал, живя в родном Виттенберге. Только теперь он не мог понять, нравятся ли ему такие изменения.
Впервые родительский дом, эта скучная тюрьма для духа, показался ему уютным.
В самый разгар лета в Альтштадт послушать мюнцеровскую проповедь приехал Филипп Мудрый – хозяин замка, в котором скрывался Лютер и жили студиозусы. Он прибыл с ещё одним саксонским курфюрстом, Иоганном, и многочисленной свитой. Фромбергер весь извёлся, надеясь увидеть Альму. Хотя с какой стати ей находиться здесь?
Оба студиозуса были уверены: «Гедеон» смягчит железо своих речей перед князьями. Однако тот, наоборот, разошёлся пуще прежнего. Объявив темой проповеди вторую главу из Книги пророка Даниила, он сразу переключился на современный мир. Глядя в глаза князьям, говорил о конце их власти и почти прямым текстом подстрекал крестьян взяться за оружие. Никто не верил своим ушам. Даже циничный Людвиг глядел растерянно. Но больше всего Альбрехта поразили курфюрсты. Они покорно дослушали его речь до конца, который был не менее ужасен:
– Небо наняло меня в подёнщики, и я точу мой серп, чтобы жать колосья, – исступлённо закричал Мюнцер. – Безбожники не имеют права жить, разве что избранные это им позволят.
Видимо, сам испугавшись своих слов, он добавил чуть тише:
– Князья должны помочь народу, если не хотят лишиться власти.
Студиозусы думали: Мюнцера схватят, не дав ему выйти из церкви. Однако князья заговорили о возможности напечатать его проповедь.
– Как вам этот праздник сатаны? Прекрасно смотрится в папской церкви, не правда ли? – услышали они рядом знакомый голос.
– Професс... – выдохнул Альбрехт.
– Юнкер Йорг, – сухо поправил его Лютер. – Кстати, поздравляю вас с прекрасным выбором наставника.
Он развернулся и быстро пошёл прочь. Фромбергер бросился следом.
– Прошу вас, скажите...
– Да что вы, право, себе позволяете! – Лютер попытался отодвинуть студиозуса с дороги, но тот стоял, будто скала. – Что вам от меня опять надо?
– Скажите... умоляю, как там Альма?
– Вы безумец, – неприязненно ответил профессор, но, видя отчаянные глаза бывшего ученика, смягчился:
– Я не знаю, где она. Она покинула замок вскоре после вас.
ГЛАВА ПЯТАЯ
– Ну и где же твои инквизиторы, Мигель? – спросил Иниго печатника, зайдя к нему через неделю.
– Уже несколько дней, как прибыли и занимаются расследованием твоего дела, – ответил тот. Иниго задумчиво почесал мизинцем бровь.
– Как ты думаешь, не стоит пойти помочь им, а то ведь нарасследуют, пожалуй...
Мигель энергично замотал головой:
– Даже не думай. Делай вид, будто ничего не происходит, но особо не высовывайся. Может, обойдётся.
– Значит, не высовываться... и как же это сделать?
– Прекрати на месяц-другой свои рассказы и «помощь душам», как ты это называешь.
Лойола посмотрел на него с недоумением:
– Целый месяц! А то и два! О чём ты говоришь, Мигель?
– Но если выяснится, что ты неправильно проповедуешь, тебя сожгут, – предостерёг печатник.
– А если расследуют неправильно и это выяснится, их самих сожгут, – отмахнулся Лойола, – пойду я всё-таки посмотрю на них.
Его вызвали раньше, причём вместе с четырьмя товарищами, но вместо инквизиторов их принял викарий епископа Толедского, по имени Фигероа.
– Ваш образ жизни тщательно изучили, но не обнаружили никакой ошибки, – объявил он. – Вы можете продолжать беспрепятственно ваши встречи и разговоры. Только измените свой внешний вид.
– В каком смысле изменить? – не понял Иниго. – Ваше преподобие имеет в виду парики или, может, накладные бороды?
– Вы не являетесь монашествующими, – бесстрастно заметил Фигероа, – а носите одинаковую одежду. – Он указал на спутников Лойолы. Все они, не исключая своего наставника, носили серые балахоны, полученные в приюте Богоматери Милосердной. – Смените её, если нетрудно.
– Хм. Если нетрудно! Это трудно, я даже бы сказал, невозможно. Мы – бедные студенты, питаемся милостыней. Кто нам купит новую одежду? Может, ваше преподобие?
Викарий задумался, оглядывая их.
– А вы не покупайте. Покрасьте то, что есть. Вы и вот этот ваш товарищ, например, в чёрный цвет, те двое – в коричневый, а мальчик (он указал на самого младшего из них) пусть останется, как есть.
– Хорошо, – согласился Иниго. – Насколько я понял, ереси в нас не обнаружили.
– Разумеется, – сказал викарий уже более холодно. – Вы заметите, если её совершите. Вас тут же сожгут.
– Вас тоже сожгут, – пообещал Лойола, – если совершите что-нибудь... такое...
...Они продолжали проповедовать, а также ухаживали за больными, одинокими и обездоленными... Всё больше людей собиралось вокруг Иниго, среди них попадались и местные аристократы, а особенно – аристократки.
Две богатые вдовушки – мать и дочь – пользовались известностью в Алькале. Они рьяно взялись за очищение души, не скупясь на подарки и заботу для нищих, но этого им показалось мало.
Как-то на рассвете Иниго, до сих пор живущего в приюте Богоматери Милосердной, разбудил тихий стук в дверь.
На ходу просыпаясь, он накинул перекрашенный балахон и пошёл открывать. На пороге стояли две фигуры, с головой закутанные в покрывало.
– Благословите нас, Иниго! – послышался умоляющий шёпот.
– Я не священник, – он отчаянно боролся с зевотой. – А что вы собрались сделать?
– Всё давно решено! – дочь, скинув с головы покрывало, обратила на него прекрасные глаза, горящие страстью и преданностью. – Мы бросаем всё и идём! Да, мама?
– Да! Да! – зашептала мать не менее страстно.
Зевота Иниго мгновенно прошла.
– Куда идёте?
– Пешком! Поклоняться, как вы! – воскликнула дочь уже не шёпотом, рискуя разбудить бездомных в соседних комнатах.
– Как вы, как вы... – восторженным эхом отозвалась мать.
– В Иерусалим? С ума сошли? – Иниго вдруг понял своего брата Мартина, пытавшегося удерживать его. – Даже не думайте!
– Нет-нет, мы всего лишь слабые женщины, нам не дойти! – сокрушённо вздохнула дочь.
«Слава богу», – подумал он.
– Мы идём в Андалусию, в места святой Вероники Хаэнской, – закончила молодая вдовушка.
– Не ходите, вы не дойдёте, – резко сказал Лойола, – вы слишком хороши собой. В пути, знаете ли...
– Нас охранит Бог! – торжественно произнесла мать.
Он кусал губы, думая, как остановить этих новоявленных праведниц. Если с ними что-нибудь случится – это ляжет на его совесть тяжким гнетом.
– Я вынужден буду сообщить вашим родственникам... начал он, но женщины посмотрели на него с такой смертельной обидой...
– Это нечестно, – сказала дочь. – Зачем пробуждать огонь в душах, если потом гасить его?
– Идите, – вздохнул он, – да благословит вас Бог.
Так тяжело у него на душе не было уже давно, пожалуй, с момента неудачного выступления на теологическом диспуте в Венеции.
Через несколько дней к нему пришёл альгвасил и со словами: «Пойдёмте-ка со мной ненадолго» отвёл в тюрьму.
Там он просидел чуть ли не месяц, но никто и не думал допрашивать его. Зато многочисленные последователи рвались навещать заключённого, и у тюрьмы образовалась очередь. К нему приходили университетские сокурсники и профессора, а четыре верных товарища умоляли посадить их вместе с наставником. Особенно рвался в тюрьму Каликсто, первым примкнувший к Лойоле. Он был высоченного роста и с большими кулаками, чем повергал тюремщиков в беспокойство.
По прошествии восемнадцати дней с момента заключения арестанта повели на допрос, проводимый всё тем же викарием Фигероа.
– Скажите, вам известны Мария дель Ваде и Луиза Гонзалес? (Так звали восторженных беглянок).
Лойола ответил утвердительно.
– А вам известно, где они находятся?
Иниго покачал головой.
– Очень жаль. Вам вменяется в вину их исчезновение. Полагают, именно вы подстрекали их покинуть дом.
– У меня нет доказательств, но, видит Бог, я всячески отговаривал их от этого.
– Ага. Значит, вам были известны их планы. Вы сами признались в этом.
– Вы не инквизитор и не судья, – сказал Иниго, – что вы хотите от меня?
– А вот посмотрим! – загадочно сказал Фигероа, и Иниго снова увели.
На следующий день викарий сам пришёл к заключённому и объявил: пропавшие дамы вернулись. По их словам, Иниго их действительно к побегу не подстрекал, а всячески отговаривал. Значит, обвинение в этом злодеянии с него снято.
– В этом? А разве есть другое? – поинтересовался заключённый.
– Вы все практикуете теологию, не окончив университета, и потом... инквизицию не устраивает ваш внешний вид.
– И что же не так в моём виде? – возмутился Лойола. – Мы с товарищами перекрасились сразу после ваших слов.
– Обуйтесь. Нельзя ходить босиком, – мрачно объяснил викарий. Иниго язвительно посоветовал:
– Вы уж сразу скажите, может, ещё как-нибудь доработать костюм? Причёсочки, может, какие-нибудь особенные?
– Идите, – прервал его викарий, – вы свободны.
Едва покинув тюрьму, Лойола в бешенстве пустился на поиски епископа Толедского, начальника этого Фигероа.
Как он и подозревал, епископ не особенно вдавался в суть расследований своего подчинённого. Сам он отличался свободолюбивым нравом и даже уважал Эразма Роттердамского – и за многотомные учёные труды, и за сатирические «безделки», вроде «Похвалы глупости».
Иниго обрадовался, увидев перед собой священника, умеющего выслушать с пониманием. В последнее время ему не везло на таких. Почти со слезами он просил епископа дать ему совет, как поступить со сложившейся в Алькале ситуацией.
– Идите доучиваться в Саламанку, – вдруг предложил тот, – у меня там есть несколько друзей, я напишу им, пусть помогут вам. И возьмите это, – он протянул Иниго четыре эскудо.
На прощание Фигероа – надо отдать ему должное – одарил студенческой одеждой и четырёхугольными шапочками не только Лойолу, но и четырёх его товарищей.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Они пришли в Саламанку с намерением учиться, более твёрдым, чем когда бы то ни было. Однако в разгар лета профессора отыскивались с большим трудом. Поэтому, ознакомившись с планом будущих занятий, странники снова занялись любимым делом помощи душам.
Лойола вместе с Каликсто как раз растолковывали страждущим способ испытания совести, открытый в Манресе, когда к ним подошёл молодой монах-доминиканец.
– Отцы весьма наслышаны о вашем праведном образе жизни, – сказал он. – Они желают видеть вас у себя, дабы спокойно потолковать обо всём. Предлагаю пойти прямо сейчас.
– Пойдём? – спросил Иниго товарища. Тот не возражал.
– Отчего же нет?
Они пошли за монахом по узким улочкам. А день этот оказался очень знойным, и к обеду жара стала просто невыносимой. Огромный Каликсто снял студенческую лобу (что-то вроде рясы), подаренную Фигероа, и нёс её в руках. Лёгкая, но неудобная ноша раздражала его всё больше. Увидев нищего, сидящего в тени одинокого дерева, он бросился к нему, словно к спасению, и отдал надоевшую одежду. Сам же после этого остался в короткой рубахе, коротких же обтрёпанных штанах и длинных, много выше щиколоток, ботинках со шнурками разного цвета. Выглядел он при этом совершенно дико, но Иниго, памятуя собственные эксперименты с костюмами, промолчал.
Так они пришли к доминиканцам. Один из них тут же выказал возмущение внешним видом Каликсто.
– Я отдал свою одежду нищему! – гордо объяснил тот. Монах, поморщившись, процедил: «Caritas incipit a se ipso» («Забота должна начинаться с себя самого»). Остальные отцы вели себя благожелательно. Привели гостей в часовню и, усадив, приступили к расспросам.
– Расскажите нам, господин Иниго, о вашем учении. Правда ли, что оно допускает относительность смертного греха?
– Моё учение? – он удивился. – Разве есть какое-то учение? Мы просто стараемся совершенствовать душу для наиболее достойного служения Господу.
– И как же ваши совершенные души относятся к смертному греху? Для них это абсолютное понятие?
– Интересный вопрос. Я никогда не задавал его себе. Но здесь, вероятно, всё зависит от цели, которую ставит перед человеком Бог.
– Вот как? – доминиканец встал и начал медленно прогуливаться к алтарю и обратно. – И какие же цели оправдывают смертный грех?
Иниго задумался.
– Сложно сказать... Хотя почему же? Вот простой пример, с которым могут встретиться многие. Убивать – смертный грех. Но если вы на войне... (перед его внутренним взором встали памплонские стены) и ваши противники такие же христиане, как вы...
– Но здесь очень важны мысли, – возразил один из отцов, – сожалеете ли вы в этот момент о грехе? Чувствуете ли раскаянье?
– В этот момент? – Иниго усмехнулся. – Разумеется, нет. Если воин начнёт чувствовать, вместо того чтобы сражаться...
Доминиканец прервал его:
– А если это не война, если на вас просто напали? Просто оскорбили? Или вообще, вам показалось, будто оскорбили? Видите, как опасны могут быть подобные рассуждения. А вы ведь говорите с людьми о заповедях. Даже толкуете их, не имея на то основания! Вот скажите, как вы понимаете Пресвятую Троицу?
– По-моему, достаточно, – негромко сказал другой священник, не принимавший участие в разговоре.
– Они ещё заговорят, – добавил сердитый монах, осудивший внешность Каликсто.
Отцы вдруг дружно встали и с поспешностью покинули часовню.
– А вы посидите пока здесь, – сказал странникам монах, уходящий последним, и запер часовню на ключ снаружи. Каликсто начал безуспешно дёргать дверь, потом пнул её несколько раз. Лойола с усмешкой смотрел на его старания.
– Ты же, помнится, хотел посидеть со мной в тюрьме, Каликсто?
– Но это же не тюрьма, а часовня! – возмутился тот.
– Лучше не проси, – предостерёг Иниго. – Не ровен час, допросишься.
Ближе к вечеру монахи повели их на обед, причём шли по бокам каждого, будто стражники. В трапезной набилось много народу, и все оглядывали странников с таким любопытством, будто те были, по крайней мере, слонами. Им задавали вопросы. Иниго заметил намечающийся раскол в монашеских рядах. Добрая половина монастырской братии прониклась к странникам симпатией. Однако после обеда их вновь заперли в часовне.
Так продолжалось три дня, потом их всё же перевели в тюрьму, причём не в камеры для преступников, а на заброшенный чердак тюремного здания. Там воняло крысами, всюду валялись грязные погрызенные тюфяки. Арестантов приковали цепью за ноги к столбу, подпирающему крышу. Цепь оказалась совсем короткой, лечь было невозможно, и даже усаживались они с трудом – стальные звенья врезались в тело.
– Всё, как ты мечтал, Каликсто, – поддразнивал Лойола товарища.
Ночь, разумеется, прошла без сна.
Наутро у тюрьмы образовалась очередь, как в Алькале, даже больше. Узникам передавали одеяла, еду и рвались посмотреть на них. Некоторых посетителей почему-то пускали. Они спрашивали, не страшно ли быть обвинённым в ереси. «Растём потихоньку, – думал Иниго, – в юности меня сажали за дебош, недавно в Алькале – за совращение, пусть и духовное, теперь и до ереси добрались».
– Ах, это невозможно вынести! – вскричала одна богатая сеньора, тоже попавшая на чердак, в ужасе зажимая нос. – Как вы выносите это?
Лойола грустно посмотрел на неё.
– Разве вы не хотите попасть за решётку ради любви к Богу? Во всей Саламанке не сыскать цепей, которые я не желал бы из любви к Нему.
– Всё равно это ужасно! – не согласилась сеньора и заплатила тюремщику, чтобы он снял цепи, – ведь всё равно тюрьма заперта.
В эту ночь узники расположились со всеми удобствами – наелись гостинцев и легли на чистые одеяла.
Ближе к утру их разбудили шум и крики. По чердачной лестнице загремели быстрые шаги, и возникла фигура, еле различимая в темноте.
– Есть тут кто? – вопрос прозвучал отрывисто, спрашивающий слегка задыхался.
– Мы, – ответил Каликсто, – что там за шум адский?
– Побег, – объяснил неизвестный, – охрану всю убрали. Бегите смело!
– Спасибо, – поблагодарил Лойола, – мы подождём суда.
– Как знаете! – И фигура исчезла.
– Может, стоит всё же уйти, пока можно? – осторожно спросил наставника Каликсто, тихонько собирая остатки еды в узелок. Он боялся признаться, но тюрьма утомила его до крайности. Иниго хмыкнул:
– Я не вижу здесь никакого «можно». Разве нас кто-то отпускал?
Каликсто снова сел на одеяло, радуясь темноте. От стыда у него всегда краснели уши.
Поутру пришедшие разбираться с происшедшим альгвасилы обнаружили пустую тюрьму и двоих арестантов, сидящих на чердаке при открытых дверях.
– Вы слышали ночью что-нибудь подозрительное? – спросили у них.
– Подозрительное? – задумался Лойола. – Пожалуй, нет. Мы слышали только, как разбегались арестанты.
Когда об этом узнали в городе – всю площадь перед тюрьмой заполонил народ. Странников немедленно перевели с чердака в особняк, стоявший напротив. Новые условия оказались просто роскошны, но на свободу выйти по-прежнему запрещалось, и посетителей теперь не пускали. Наконец пришло время суда.
На допрос вызвали одного Лойолу. Каликсто перед этим перевели обратно в тюрьму. Судьями были три доктора теологии и один бакалавр. Этот бакалавр прямо-таки горел желанием уличить в чём-нибудь арестанта.
– Мы знаем, у вас на свободе остались помощники, не отпирайтесь! – начал он. – Вы должны указать их адреса, это может облегчить вашу участь.
– Моя участь находится в Божиих руках, я навряд ли могу её облегчить, – спокойно сказал Иниго, – а адресов у моих товарищей нет. Мы все – странствующие студенты. Вряд ли они прячутся. Вы можете поискать их в университете, если захотите.
– Вы понимаете, что творите? – бакалавр нахмурился и слегка надул щёки для значительности. – Вы не учены, а беседуете о добродетелях и о пороках! А ведь говорить об этом можно лишь двумя способами: или от учёности, или от Святого Духа. Образования у вас пока нет. Значит, вы претендуете на святость?
Лойола молчал, глядя на потолок. Доктора наук начали нетерпеливо покашливать.
– Нехорошая тема для беседы, – наконец выдал он, – давайте поконкретнее: если мы заблуждаемся в чём-то, скажите нам, если нет – отпустите, мы пойдём завершать образование.
– Не торопитесь, господин Иниго, – подал голос один из докторов теологии, – у инквизиции имеется много вопросов к вам.
– Инквизиция целую неделю изучала наш образ жизни в Алькале и не нашла ничего предосудительного! – возмутился Иниго. Судьи сделали ему знак замолчать.
– Инквизиция получила ваши записки, называемые «Духовными упражнениями», – объяснил бакалавр, – сейчас над ними размышляют теологи. Но, насколько нам известно, в Алькале состоялся акт веры (auto da fe) с публичным сожжением вашего изображения. И мы также определённо знаем: вы берётесь объяснять людям, когда мысль является простительным грехом, а когда – смертным. Вы должны разъяснить нам этот пункт.
Иниго по-настоящему испугался. Почему-то до сих пор ему казалось: дело не пойдёт дальше слов. Но аутодафе, хоть и заочное... Может, обманывают с целью запугать?
– Я отказываюсь отвечать, – твёрдо сказал он, – всё, что я мог бы ответить, вы найдёте в моих «Духовных упражнениях».
Доктор теологии посмотрел на арестанта крайне неодобрительно.
– Напрасно, очень напрасно. Уведите его.
Лойолу отправили не в прежний особняк и не в помещение на чердаке. По крутой лестнице его привели в подвал, пахнущий сыростью, и заперли в небольшом помещении без окон.