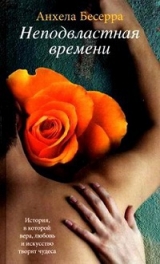
Текст книги "Неподвластная времени"
Автор книги: Анхела Бесерра
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
12
Прежде такого не бывало. В последнее время Сара Миллер перестала узнавать собственного мужа. На протяжении всей их семейной жизни она хвасталась подругам, что знает о Кадисе абсолютно все; ей было достаточно посмотреть в его глаза, чтобы понять, что идет не так и найти правильное решение. На этот раз все было по-другому. Супруги вот уже два месяца не занимались любовью, и вовсе не потому, что им этого не хотелось; если верить медицинскому заключению, которое Сара случайно обнаружила в кармане пиджака Кадиса, все дело было во временном функциональном расстройстве. Слишком много стрессов, слишком страшно стареть, слишком сильно хочется славы, слишком многого мы просим от жизни. Слишком большое, непомерное эго.
Он был таким сексуальным и пылким, таким чувствительным к радостям плоти! Эта неуемная, порой тираническая натура, подавлявшая всех, кто оказывался рядом, и способная полностью выплеснуться лишь в творчестве, должна была глубоко страдать. Несмотря на отчаянные попытки Сары разговорить мужа, Кадис искал убежища в молчании, виски и подготовке новой выставки. Его жене оставалось лишь смириться и оставить мужа в покое.
На выходных все было по-другому. В такие дни возвращался прежний великий Кадис.
Они ужинали с самыми близкими друзьями в славном кабачке на улице Помп. Это место давно превратилось в нечто вроде закрытого клуба для художников, поэтов и писателей, познавших славу в семидесятых: в те времена все они были молоды и отчаянно искали свое место среди меланхолической богемы постэкзистенциального Парижа. За ужином беседовали на одни и те же темы, рассказывали друг другу одни и те же истории, время от времени меняя их финалы. Было что-то на редкость изысканное в этих сборищах блестящих мыслителей, способных незримо переноситься на веселый Монмартр или на бульвар Монпарнас, в эпоху, когда на нем царил дух сюрреализма, или спускаться в катакомбы первородного искусства, во времена, когда ничего еще не было ни написано, ни сказано, ни переведено, ни спето и нарисовано.
В эту субботу телефон Кадиса зазвонил, как раз когда он наливал себе виски. Сара старалась не прикасаться к мобильнику мужа из уважения к его личному пространству, но на этот раз у нее не было иного выхода.
– Дорогой, тебе кто-то звонил, но говорить не стал, – сообщила Сара, когда Кадис вернулся в комнату.
– Дай-ка посмотреть. – Кадис отыскал в списке последний звонок. Номера Мазарин телефон не опознал. – Понятия не имею, кто бы это мог быть. Перезвонят, наверное.
Но никто не перезвонил.
Охваченная смутной тревогой, Сара дождалась вечера и украдкой набрала таинственный номер.
Ей не впервой было слушать напряженную тишину в телефонной трубке. Когда Сара была маленькой, ее отец, неподкупный судья, часто сталкивался с анонимными звонками, по большей части угрожающими. Поначалу она боялась их так же, как боялась темноты, но с годами научилась презирать жалких трусов, которым не хватает смелости даже представиться. Постепенно анонимные звонки сделались чем-то вроде забавного курьеза и заняли место среди прочих преданий семейства Миллер.
Нечто подобное повторилось в первые годы их совместной жизни с Кадисом. За живописцем увивалась целая свита моделей, художниц, поэтесс, революционерок-хиппи и женщин легкого поведения, с которыми Саре да и самому Кадису приходилось вести весьма изнурительную "войну". В арсенале хищниц имелись средства на любой вкус – звонки, взгляды, подмигивания, помада, тушь, записки, внезапные визиты и хитроумные ловушки, подстроенные с совершенно явными целями, которых никто и не думал скрывать. Впрочем, дальше алкоголя, травки и умных разговоров дело обычно не шло. То, что связывало Сару и Кадиса, было важнее и выше мещанского этикета, банальных измен, глупых предрассудков и излишних компромиссов. Они были плоть от плоти нового свободного Парижа, в котором умирали прежние стереотипы и рождалась новая мораль.
Но те времена остались далеко позади. Тогда они были восхитительно молоды, наслаждались славой и верили, что жизнь всегда будет безоблачно прекрасной. Теперь все было по-другому, или, по крайней мере, Саре так казалось.
Внешнее существование Сары, наполненное любимой работой и неувядающей славой, было по-прежнему блистательно, а ее глубинная внутренняя жизнь, та, что не проявлялась ни на одном негативе, из тех, которыми она занималась каждый день, целиком и полностью зависела от любви Кадиса.
И не важно, что голливудские звезды готовы умереть за фотосессию у Сары Миллер; и что самые уважаемые интеллектуальные издания умоляют ее о новых репортажах; и что один арабский шейх обещал золотые горы, лишь бы заключить с ней контракт. Больше всего на свете она хотела вновь сделать своего мужа счастливым, но понятия не имела, как этого добиться.
Каждый из них давно жил сам по себе, и с этим ничего нельзя было поделать. Их взлет напоминал бешеную скачку на неоседланных иноходцах, без уздечек и стремян. Дикие кони безжалостно сбросили седоков и ускакали прочь, оставив их валяться на земле. Волна триумфа сбила несчастных с ног и потащила на дно. Они тонули в омуте успеха.
С точки зрения публики, все было превосходно. С точки зрения Сары, происходило что-то странное, то, чему она еще не успела подобрать названия.
– Когда ты покажешь мне новые работы? – спросила она мужа, жевавшего оливку из своего мартини. – Я ужасно заинтригована.
Кадис притянул к себе жену и поцеловал в затылок, так, что по спине у нее побежали мурашки.
– Наберись терпения. Всему свое время.
– В последнее время ты стал... право, не знаю... спокойнее, что ли? Может, устроим ночную вылазку, как в старые добрые времена? Побродим по нашему кварталу, завалимся в какую-нибудь берлогу, где бедные студенты играют джаз, а потом...
– Я не хочу об этом говорить, Сара.
– Что ты имеешь в виду под ЭТИМ?
– Ты знаешь.
– Ты меня не так понял, милый. Мне просто хотелось немного погулять, развеяться.
Отстранившись от Сары, Кадис подошел к широкому окну, выходившему на проспект Фош. Вечерний Париж казался одиноким и угрюмым. Машины скользили по мокрому асфальту, разбрасывая повсюду блики от фар. Кадис думал о Мазарин. О ее босых ногах.
13
Мазарин повесила вырванную из книги фотографию овеянного дымом и пороком Кадиса над кроватью. Получилось неплохо, особенно если учесть, что прежде она никогда не украшала свою комнату картинками. Вооружившись кистью и акриловой краской, Мазарин окружила лицо учителя рамкой из черных и красных следов; чьи-то легкие ноги в упоительной сюрреалистической пляске выскочили за пределы фотографии и закружились по обоям. Это и было искусство. Холст и мазок. И душа. Насилие над девственной белой поверхностью. Мазок, другой, сотый. До и после. Лучшее и худшее, что есть в мире. То, чего нельзя нарисовать, не существует. Кажется, так сказал Кадис в прошлую пятницу, прежде чем начать раскрашивать ее спину?
Стоило Мазарин ощутить ласковое прикосновение влажной кисти, как все ее существо пронзала дрожь. За сеансом живописи неизменно следовал обряд омовения. Вода текла, бежала тонкими струйками, скользила по изгибам тела в поисках самого короткого пути.
С Кадисом Мазарин снова чувствовала себя маленькой девочкой, спокойной и счастливой.
Она и вправду помогала своему учителю. То, что рождалось в студии Ла-Рюш, совсем не походило на прежние работы Кадиса. Овладев техникой изображения ног, он мог расширить концепцию дерзновенного дуализма, заново открыть в себе художника-революционера. Кадис открывал новые горизонты. В мире существовали неисчислимые примеры "дуализмов"; при желании к ним можно было причислить любую вещь. Даже неодушевленные предметы и те поддавались новому осмыслению. Любая серая стена сдавалась при первом взмахе его кисти, превращаясь в холст.
Мазарин свернулась клубком в постели и стала думать о Кадисе. Вскоре она замурлыкала себе под нос на манер колыбельной "Я все, я ничто, мое "я" двоится". Кажется, так было у Фрейда?
Мазарин уснула.
Спустя несколько часов кто-то неслышно пробрался в прихожую зеленого дома.
Мутноглазый легко справился с замком, просунув руку в кошачий лаз. Он ходил по дому, выдвигал ящики, открывал коробки, озирался по сторонам, шарил в шкафах и на полках, листал книги, папки и альбомы. Вокруг бесшумно бродила сиамская кошка Мазарин, словно погруженная в гипнотический транс. Все было напрасно. Того, что он искал, на первом этаже не оказалось. Мутноглазый вовсе не был уверен, что оно сыщется в других частях дома; ему просто хотелось непременно что-нибудь обнаружить, опередить других и прослыть самым умным в глазах большого босса.
Мутноглазый уже начал подниматься по лестнице, когда сверху послышался голос:
– Мадемуазель?.. Иди сюда, киса. Плохая кошка. Бросила меня одну.
Это Мазарин звала свою любимицу.
– Так ты ко мне не поднимешься?
Тишина. Ни единого мяу.
– Ладно, я сама спущусь.
Мутноглазый едва успел спрятаться за дверь кухни, когда на верху лестницы возник изящный девичий силуэт. Сквозь тонкую рубашку просвечивало худенькое тело, гибкая талия и округлые бедра. "Ну что за прелесть", – подумал взломщик. Девушка наклонилась, чтобы взять на руки кошку, и Мутноглазый разглядел медальон между ее маленьких крепких грудей. Ему до ужаса захотелось к ним прикоснуться.
– Умница ты моя. – Мазарин подхватила кошку, чмокнула в нос и стала подниматься по лестнице.
14
Утром в понедельник Париж просыпался с большой неохотой. Латинский квартал оглашала симфония железных ставней, недовольных, что их поднимают в такую рань. Тротуары поливали из шлангов, отовсюду доносился запах кофе и свежих круассанов. Мазарин провела ужасную ночь и совершенно не выспалась. Девушке снилось, будто за ней кто-то следит. Комнату наполнял густой, словно наяву, запах горелого мяса. Кто-то огромный, грязный и жуткий навалился на нее, не давая вздохнуть. Чьи-то мутные глаза слепо шарили по комнате, разыскивая ее. Мазарин хотела закричать, но из пересохшего рта не вырвалось ни звука. Тогда она вскочила и бросилась вон из комнаты, но тут же рухнула на пол: ноги оторвались от тела. Едва закончился один кошмар, как тут же начался второй; теперь ноги таяли, как часы на картине Дали. Вслед за ногами стало таять все тело, и вскоре она растеклась по полу бесформенной лужей. Мазарин проснулась с первыми лучами солнца и долго валялась на смятых простынях. Не было ни взломщика, ни призрака, ни мерзкого запаха, ни мутных глаз.
Мазарин приняла душ и не спеша собралась. Перед тем как выйти из дома, она решила проведать Святую; подчиняясь ставшему ежедневным ритуалу, она дважды повернула в замке ключ, выдвинула ящик и вытащила на свет спящую красавицу.
– Здравствуй, Сиенна, – проговорила девушка, осторожно протирая стекло саркофага. – Знаешь что? Я, кажется, влюбилась. Да-да, ты не ослышалась: влю-би-лась. А в кого, не скажу. Это секрет.
На первый этаж Мазарин спустилась, как в детстве: съехала по старинным перилам красного дерева. Запирая дверь, она заметила, что с замком творится что-то странное. Ключ отказывался поворачиваться со всегдашней легкостью, проскальзывал. Наверное, имело смысл поставить новый замок, с дополнительной защитой. Мазарин подумала о Рене; уж он-то ей точно бы помог.
На улице она вновь застыла у витрины антикварной лавки, в которой были выставлены серебряные безделушки. Древний старик, склонившийся над бюро в стиле барокко, казался частью роскошной обстановки. Мазарин разглядывала его седые кудри, старомодный монокль, безупречно элегантный жилет, длинную бороду, причесанную волосок к волоску. Он походил на пришельца из другой эпохи. Старик" с благоговением протирал фигурку балерины, вскинувшей руки над головой. Заметив девушку, старик неожиданно легко поднялся на ноги и с любезной улыбкой направился к дверям мимо заставленных безделушками полок и стеллажей.
– Входи, дочка. Ты что-нибудь ищешь? Наверное, подарок?
Мазарин покачала головой:
– Я просто смотрела. Простите, я вовсе не хотела вас отвлекать.
– Иногда отвлечься не грех. Ты, по крайней мере, живая. А все это, – он обвел широким жестом выставленный в лавке товар, – мертвое.
– Но очень красивое, – заметила Мазарин.
– Кладбище без надгробий. Среди всех этих древностей и сам состаришься раньше времени. Видишь, каким я стал? А ведь мне всего двадцать лет. – Антиквар подмигнул Мазарин, и она улыбнулась в ответ.
– Мне пора, – проговорила девушка.
– Ты далеко живешь?
– Нет, близко.
– Приходи, когда захочешь, – предложил старик, открывая перед Мазарин дверь. Свисавшие с потолка подвески из разноцветного стекла проводили посетительницу мелодичным звоном.
Мазарин уже собиралась уйти, но тут старик обратил внимание на медальон.
– Великолепная вещь, – заявил он. – Наследство?
Мазарин не ответила.
Антиквар, казалось, не заметил ее молчания.
– Просто великолепная... – повторил он и добавил, понизив голос: – Будь осторожна.
Девушка подняла на владельца лавки удивленный взгляд, но тот решительно прекратил разговор:
– Заходи почаще, не забывай старика.
"Будь осторожна... осторожна... осторожна..." Слова антиквара эхом отдавались в ушах Мазарин по дороге в школу искусств, куда она собиралась записаться на летние курсы. Шагая по старым улицам, девушка узнавала знакомых с детства чудовищ. Горгульи следили за ней с крыши старой церкви, готовые вонзить в сердце жертвы свои страшные когти. Мазарин вновь ощутила холодок страха. А что, если каменные монстры тоже следят за ней?
При одном воспоминании о человеке с мутными глазами у девушки по спине пробежал противный холодок. Но, едва появившись, он смешался с ароматом марокканских специй, доносившимся из арабского квартала, восточной музыкой, криками на итальянском и греческом, запахом свежей рыбы из японских ресторанов, колоколами Нотр-Дам и влажной брусчаткой под босыми ступнями, ослабел и вскоре исчез совсем. Мазарин сама не заметила, как вышла к своей бывшей школе, лицею "Фенелон", опустевшему на лето, с запертыми дверьми и остановившимися часами над входом.
Здесь она познакомилась с Рене, единственным человеком, который знал ее секрет. Единственным, кто один раз, уже много лет назад, видел Сиенну. Мазарин хотела, чтобы он поклялся там, прямо над стеклянным саркофагом, что никогда никому ничего не "скажет, однако Рене предпочел сбежать не попрощавшись. Он бросил ее без предупреждения, не дав возможности свыкнуться с потерей. Ушел молча, как все, с кем ей пришлось расстаться. Так ее тайна перестала быть тайной... Кто знает, кому он успел рассказать?
Она совершенно точно не была влюблена в Рене. Он всего один раз попытался ее поцеловать, но Мазарин не позволила. И не то чтобы он был некрасив: по нему сохла половина ее подруг; просто между ними так и не возникло настоящего влечения. Их не тянуло друг к другу. Как ни пыталась она пробудить в себе нежные чувства к Рене, он оставался для нее лишь хорошим другом и интересным собеседником. Девушка мечтала, чтобы он вернулся, чтобы вновь было с кем разделить свои страхи и сомнения, но в глубине души понимала, что это невозможно.
Нужно было побольше разузнать о Сиенне, распутать окружавший ее вековой клубок тайн. Найти объяснение скрытности матери, постоянным запретам, почти болезненной религиозности, исступленным молитвам, навязчивым сравнениям, в один прекрасный день обернувшимся ревностью к покойнице. Мазарин должна была узнать, какие секреты хранили ее родители... И серебряный медальон.
С тех пор как она стала его носить, ее жизнь начала меняться. В какую сторону, Мазарин пока не знала, но было очевидно, что ее талант вступил в период расцвета; словно на нее снизошла благодать, словно мир каким-то непостижимым образом изменился и заиграл новыми красками. Ее новые работы уже не напоминали ученические наброски, они были законченными, зрелыми. Мазарин чувствовала, что серебряная вещица стала ее талисманом, тайным источником сил... Не потому ли Кадис так сильно в ней нуждался?
15
Любовь и страсть живут в глазах того, кто любит, думал Кадис, наблюдая, как Мазарин толкает ажурную калитку и шагает по дорожке к студии. Он открыл дверь и посторонился, пропуская девушку вперед.
Кадис мечтал о Мазарин два долгих дня и теперь хотел полюбоваться на нее в тишине, чтобы ни одно неосторожное слово не разрушило чар; как же она была прекрасна, как сильно он в ней нуждался!
Они долго глядели друг на друга, не решаясь прервать молчание. Ученица и учитель, нежность и сила, простодушие и искушенность, порыв и раздумье, инстинкт и опыт, вечная гармония противоположностей.
Кадис скользил взглядом по телу девушки, задерживаясь на ее босых ногах. Белоснежные пальцы, выглядывавшие из-под потертых джинсов, мягко контрастировали с темными глазами. Зыбкая надежда, невысказанное обещание. Выпущенная на волю страсть прокладывала себе путь, не спрашивая их согласия.
После стольких мертвых и бесплодных весен душа Кадиса вновь расцветала. Мрачные тени, окружавшие художника в последние годы, постепенно рассеивались. Призрачный поезд, который должен был отвезти Кадиса на станцию под названием "Старость", мчался теперь в обратном направлении.
Девчонка, годившаяся Кадису в дочери, вывела его из мрачного туннеля и указала путь к свету. Ему хотелось раствориться в этом свете, купаться в нем, подставить лицо его лучам, не боясь ослепнуть. Видеть... и ничего больше. Немыслимое наслаждение.
– Мазарин...
Голос учителя щекотал ее, словно крылья бабочки.
– Сними майку
Мазарин повиновалась.
– Давай полетаем.
При виде крепких маленьких грудей своей ученицы и лежащего между ними серебряного медальона Кадиса охватило вдохновенное желание.
– Ты похожа на византийскую деву, – заявил художник.
Бережно касаясь девушки самым кончиком кисти, он нарисовал в ложбинке ее груди двенадцатиконечный гранатовый крест. Прохладная кисть ласкала и дразнила.
Мазарин глубоко вздохнула.
Солнечный луч преломился на серебряном медальоне, осветив выбитые на нем знаки.
– Тебе известно, что он означает? – спросил Кадис.
Мазарин чувствовала, как капля краски скатывается вниз, проникает в нее. Она не могла произнести ни слова. Новое ощущение занимало все ее существо.
Кадис начал расписывать холст, жадно, нежно, отчаянно, со всей силой внезапно пробудившейся нежности. В неодолимом томлении тела и души. Вожделение, порожденное красотой его ученицы, выплескивалось на белый холст, превращаясь в произведение искусства.
Что же ему еще оставалось, если он до отчаяния боялся приблизиться к девушке, чтобы не разрушить чар?
Больше красок, цветов, мазков.
Ослепленный безумием художник метался от тела к холсту.
Сумятица и хаос. Кожа и холст, слившиеся воедино. Новые и новые капли скользили по телу Мазарин, лаская, тревожа, проникая в сокровенные места, презирая ее волю, стыдливость, смятение. Непрошеные гостьи скатывались за пояс джинсов и нежно касались пальцев ног; разноцветные реки сбегали по бедрам и пересыхали на ступнях, отдав все свои краски, а вместе с ними и жизнь.
Тишину нарушил его звучный, словно виолончель, голос:
– Мазарин...
Ученица подняла на учителя сияющий, полный обожания взгляд. О чем еще он ее попросит?
– Сними джинсы.
Это было форменным безумием. Игра зашла слишком далеко; Мазарин не знала, что и думать. Голова шла кругом.
Девушка не двигалась.
– Мазарин... – повторил Кадис. – Сними джинсы... Пожалуйста...
16
Чем меньше времени оставалось до выставки, тем больше заваленная обломками скульптур мастерская Сары Миллер походила на смесь больницы для бедных с импровизированным моргом. Некоторые работы вышли столь реалистическими, что художнице пришлось спрятать их, дабы не отвлекаться.
Небывалая экспозиция под открытым небом должна была открыться через двадцать дней, в начале октября. Ателье Сары превратилось в проходной двор, по которому, среди компьютеров, объективов и угломеров, денно и нощно бродили толпы специалистов, в высшей степени владевших искусством пустой болтовни. Команда ассистентов непрестанно гримировала, умывала, рассаживала, поднимала и укладывала разношерстных персонажей, каждый из которых был призван воплощать ужасы парижского дна.
Из всех этих "ужасов", исключая живописного клошара и полумертвую старуху, самое сильное впечатление, безусловно, производил субъект с мутными глазами, чей туманный, рассеянный взгляд охватывал все вокруг и ничего не видел.
Сара успела щелкнуть затвором объектива, прежде чем Мутноглазый запахнул рубашку, и запечатлела то, что так напугало ее помощницу: круглый шрам, в котором искушенный глаз мог узнать очертания старинной печати. Словно кто-то прижег беднягу раскаленным железом у самого сердца, превратив его кожу в сплошную вздыбленную корку. Этот снимок, вне всякого сомнения, должен был стать украшением выставки. От трехмерного портрета незнакомца веяло жутью.
– Это что за чертовщина? – удивился один из ассистентов, заметив шрам.
– Какой-нибудь символ, наверное, – предположила помощница Сары, бросив взгляд на снимок.
– Его клеймили, как животное.
– Не выдумывай. Возможно, он сам себя пометил; или разрешил пометить. Может, это был какой-нибудь ритуал, инициация для вступления в тайное общество. Я много читала про разные секты и передачи смотрела по каналу "Дискавери". Ты бы сильно удивился, узнав, сколько народу в начале двадцать первого века живет, будто в Средневековье.
– Но проделать такое с собственным телом... Представляю, какая это была дикая боль.
– Чужая душа – потемки. – Болтая, ассистентка ловко подкрашивала статуе брови. – Почти всегда. Если я скажу, что принадлежу к тайному обществу злостных развратников и что мы каждую ночь собираемся в пещере и служим черную мессу, вы мне поверите? – Девушка с вызовом оглядела присутствовавших. – Так я права или нет? Мы ничего не знаем о тех, кто нас окружает. Внешность обманчива.
– Ну, по правде сказать, с этим типом я не хотел бы встретиться в темном переулке. Видишь, как он на нас пялится?
– Какие вы злые. По-моему, в нем что-то есть.
– Глядите-ка, она влюбилась!
Тут вмешалась Сара:
– Довольно, ребята, у нас куча дел, а время поджимает. Оставьте этого бедолагу в покое.
В отпуск они так и не поехали, но Сара чувствовала, что Кадиса это нисколько не огорчило. Судя по всему, ее муж все же сумел выбраться на твердую дорогу; он шел за путеводной звездой своего вдохновения, и, хотя новых работ живописца до сих пор никто не видел, можно было не сомневаться, что все, как одна, гениальны. На смену долгим неделям отчуждения пришли ночи, полные страсти; муж обнимал ее с юношеским пылом, совсем как в первые годы их любви. Неуверенный, истерзанный сомнениями мизантроп уступил место другому Кадису, веселому и дерзкому. Неутомимому любовнику, готовому наслаждаться и дарить наслаждение. Пробудившись к жизни, Кадис пробудил и ее. Супруги не испытывали ничего подобного очень давно, с того незабвенного мая шестьдесят восьмого, когда объектив Сары впервые поймал Кадиса.
Вместе они учились нарушать табу, одни спонтанно без слов, другие по предварительному договору. Интеллектуальные диспуты, от которых оба были без ума, помогали узнавать друг друга, находить общее, устанавливать правила. Тела любовников превратились в поля борьбы чистой страсти и устаревших мифов о мужчине и женщине, добре и зле, красоте и уродстве. Сара и Кадис жили в собственном придуманном мире, которым правил инстинкт. Любое слово, движение, гримаса, слеза, молчание знаменовали рождение нового стиля, порой в живописи, а иногда в фотографии. Влюбленные превозносили наслаждение, идеализировали плоть, смешивали грубое естество с высокими устремлениями духа.
И все это отражалось в их творчестве.
Сара и Кадис очень долго шли одной дорогой и на разных языках говорили об одном и том же. Их искусство было ареной вечного противостояния дерзости и морали.
Родство их душ было несомненным. Их вдохновение питалось первобытными страстями, которые они переживали вместе. Они стремились оживить персонажей своих картин и снимков и не желали признавать, что живопись и фотография – лишь копия действительности. Они рассказывали удивительные истории при помощи кисти и камеры, создавали новые вселенные, пробивались к сердцевине мира сквозь грубую неприглядную оболочку.
С годами Сара и Кадис научились отделять любовь от работы и превращать поражения в победы. Они не уставали благодарить суровых критиков, вопреки суждениям которых сумели подняться на вершину.
Те, кто полагал, что Сара безвольно копирует мужа, в конце концов признали, что это не подражание, а своего рода симбиоз; утонченная игра по правилам, понятным только двоим, смелый эксперимент на грани искусства и психологии, увлекательное путешествие в неизведанные доныне миры.
Первые осенние дни пролетели в предвыставочной суете и спешке, возрожденных надеждах и вновь обретенных супружеских ласках.
В день открытия Сара подошла к окну и отдернула занавеску, ожидая, что небо, как в последние дни, окажется плотно затянуто тучами, но вместо этого увидела припозднившуюся луну, не пожелавшую покидать бесстыдно синий небосвод. Выставке ничто не угрожало.
Счастливая, Сара вернулась в постель и прижалась к разнеженному во сне Кадису. Художник обнял жену, бережно коснулся ее груди и нежно прошептал:
– Мазарин...








