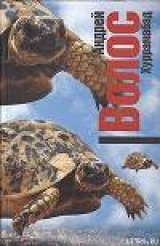
Текст книги "Хуррамабад"
Автор книги: Андрей Волос
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
Все здесь жили вместе, и никто не грозил другому.
Ивачев обнял Хаёма, а тот приник к нему, и они, не замечая времени, зачарованно сидели на зеленом бугре возле квадратного хауза, из которого бил волшебный источник.
– Хаём-бо-о-о-ой! Э-э-э, Хаём-бо-о-о-ой!..
– Зовут, – с сожалением сказал Никита. – Пойдем?
Хаём кивнул.
И вдруг спохватился:
– Сангпуштак! Надо пускать, Никита-амак!
– Сейчас отпустим… – сказал Ивачев. – Самое время. Я дочери обещал – в горах. Она чуть старше тебя, Хаём. В Москве живет… Но тут лучше, чем в горах.
– Конечно, лучше! – серьезно согласился Хаём. – Святое место. Мазор.
Они подошли к машине.
– Сангпуштак? – разочарованно спросил Хаём, заглядывая в пустую коробку.
– Вон, видишь! – сказал Нуриддин. – Как танк проехал!
В свежей зеленой траве был виден след шириной в ладонь – будто прокатали валиком. Он уходил дальше, дальше – и пропадал из глаз на вершине пологого холма.
– Вот что значит – настоящая родина! – пояснил Нуриддин. – Как только я ее вынул из коробки, она тут же двинулась вперед! И ни разу – ты веришь, Никита-амак? – ни разу не оглянулась! Сразу забыла нашу дружбу!
– Слава богу, – сказал Ивачев. – Как говорится… э-э-э… худо дод, худо гирифт!
Бахром, возившийся у очага, высыпал в казан лапшу тонко нарезанной моркови и спросил, подмигнув:
– Никита-амак, вы не забыли лучший способ есть кислое молоко?
Ивачев помотал головой. Что-то щекотало руку. По ладони полз маленький серый жук.
– Не бойся! – сказал Бахром. – Это хараки худо!
– Божий ишачок? – переспросил Ивачев. Солнце слепило, все кругом было зеленым, золотым. Глаза слезились. – Зачем богу такой ишачок?
– Говорят так… – пожал плечами Бахром.
– Э-э-э-э! Что значит – зачем!.. Что значит – говорят!.. Богу все нужно! – воскликнул Нуриддин. – Хаём! Смотри вокруг! Ты видишь? – Смеясь, он хлопнул в ладоши, вскочил, взял мальчика за руки и стал выплясывать с ним в высокой траве, громко распевая: – Смотри! Это твоя родина!.. Ты видишь? Все нужно Богу! Это Божий ишачок! Это трава Бога! Это маки Бога! Смотри, сынок!.. Это горы Бога! Это солнце Бога! Это небо Бога! Это люди Бога! Ты видишь?..
Бахром расставлял рюмки, откупоривал бутылку.
Улыбаясь, Ивачев откинулся в траву и стал смотреть в небо.
Высоко-высоко в безоблачной голубизне выжидающе кружил неторопливый коршун.
Глава 5. Свой
Буд-набуд, як касе буд…
1
Он разогнулся и прислушался, утирая пот тыльной стороной ладони.
– Сирочиддин! Э, Сирочидди-и-и-ин!..
Голос был визгливый и яростный.
Макушин бросил топор возле груды разломанных ящиков и неторопливо пошел к задней двери.
– Вот он! – завопил Толстый Касым, воздымая пухлые кулаки. – Вот он!.. Баран! Вредитель! Пилять! Черт послал тебя на мою голову!..
– Что ты орешь? – спросил Макушин, невольно отступая.
– Что я ору! – голос Толстого Касыма сорвался на визг. – Он спрашивает, что я ору! Я всегда говорил, что тупее русских – только памирцы!.. Это ты поставил здесь бидон масла?! Я спрашиваю – ты поставил?!
В пирожковой стоял полумрак – лампочка давно перегорела, а от света, лившегося в широкое низкое окно над прилавком, с которого прохожие покупали пирожки Толстого Касыма, в это дождливое утро толку было мало.
– Ты поставил?! – не унимался Касым. – Ты?!
Приглядевшись, Макушин увидел на полу поблескивающую лужу, похожую на пыльное зеркало.
– Восемь литров! Ты мне заплатишь за эти восемь литров! До копеечки заплатишь!
– Под ноги надо смотреть, – ответил Макушин. – Он всегда там стоял, бидон-то… Вон пусть и Фарход скажет…
Фарход невозмутимо переворачивал пирожки, шкворчащие в глубоком противне.
– По мне – так хоть куда вы его ставьте, бидон этот поганый, – сообщил он. – Глаза б мои на него не глядели. Все равно вечно под ногами болтается.
– Мерзавцы, – неожиданно ровным голосом сказал Толстый Касым. – Вы меня по миру пустите… – Он схватил пирожок с подноса, на который Фарход только что выложил десяток свежих, еще дымящихся и прыщущих маслом, несколько раз перехватил его из руки в руку, дуя на пальцы, затем торопливо затолкал в рот и, разумеется, обжегся, зафыркал – вытаращенные глаза вращались так, словно две маслины катались по блюдечку.
Макушин вздохнул и пошел назад во двор. Гнусный характер у Толстого Касыма. Не то что у Фархода. Этого ничто не может вывести из равновесия. Вот, например, Фарход никогда не скажет, что у него кончается подтопка. Ори Касым не ори, а мастер Фарход просто сядет возле остывающей жаровни и будет сидеть, посвистывая. Замечательный характер.
Он разломал ящик, отбив от него две стенки, и стал разбирать на дощечки.
Его звали теперь не Сергеем и не Сережей, а Сирочиддином. Только фамилия осталась прежней – Макушин. И то не совсем: прежде ударение было на втором слоге, а теперь на последнем… Впрочем, если ты работаешь на Путовском базаре в пирожковой, твоей фамилией заинтересуются только в том случае, если найдут мертвым возле мусорных контейнеров. А до того момента всем плевать, какая у тебя прежде была фамилия.
Заскрипела и хлопнула дверь.
– Ладно, хватит… – недовольно сказал Толстый Касым, дожевывая. – Вон уже какая гора. Кончай, иди лучше помоги лук рубить. Слышишь?
Макушин пожал плечами и прислонил топор к чурбаку.
– Хорошо, – сказал он. – Лук так лук.
– Все равно ведь надо, – сказал Толстый Касым со вздохом. – Хоть ни черта и не продается… Девятый час – ни одного пирожка не купили. А?
Макушин пожал плечами.
– А потом налетят – а пирожков нет! – раздраженно добавил Касым. – Верно говорю?
– Верно, – кивнул он. – Надо, конечно. Да раскупят еще, чего ты…
– А если Файз заглянет… скажи… – Касым пальцем сдвинул тюбетейку на затылок и почесал лоб. – А, хрен с ним, ничего не говори… в другой раз зайдет, не переломится. Все, я погнал!
Макушин кивнул.
Лук лежал в замасленной и нетвердой картонной коробке. Он выгреб штук пятнадцать луковиц и стал быстро чистить, соря шелухой на глиняный пол. Очищенные луковицы летели в обитое эмалированное ведро.
– Что, – вкрадчиво спросил Фарход, – опять проклятый Касым заставляет лук чистить?
– Заставляет, – вздохнул Макушин, усмехаясь: начиналась старая игра.
– Тц-тц-тц!.. – произнес Фарход и покачал головой. – Зачем бедный Сирочиддин приехал из Москвы! Зачем пошел работать к Толстому Касыму!
Считалось, что Фарход ловко подковыривает Макушина. Макушин никогда не показывал виду, что эти подковырки его совершенно не задевают. Наоборот, иногда подыгрывал.
– Помолчи лучше, – сказал он и бросил луковицу в ведро – дзень!
– Сидел бы в Москве! – обрадовался Фарход, и голос его стал звонче и напевней. – Не нужно было бы с Толстым Касымом ругаться! Не нужен лук-пук, масло-шмасло, мясо-размясо! Была бы русская жена!.. – Фарход закатил глаза и покачал головой, привычно потрясенный представившимися его взору картинами. – Ру-у-у-усская жена-а-а-а-а-а… ах! – он открыл глаза и пробормотал с выражением горького недоумения: – Зачем, зачем?..
Макушин вздохнул и бросил в ведро следующую луковицу – дзень…
Зачем, зачем?.. Смех смехом, а этого он даже прежней своей русской жене не мог объяснить…
…Два с половиной года назад он приехал в Хуррамабад на несколько дней с командировочным удостоверением в кармане. Самолет приземлился, долго рулил, воя турбинами, потом встал и заглох. Их пригласили к выходу… Как изъяснить то, что случилось в следующую минуту? Когда он, озираясь, ступил с трапа на чужой раскаленный бетон, ему почудилось, что все здесь странно знакомо: и зной, в первую секунду оставивший впечатление горчичника, налипшего на зажмуренные от неожиданности глаза, и прямоугольная сахарница аэровокзала, и щекочущий запах пыли, и мутные очертания холмов за летным полем, вершины которых сливались с бурым небом. Он задрал голову и, мучительно сощурясь, увидел беспощадный диск солнца, показавшийся ему знаком не жизни, а гибели.
Дзень!..
– Фарход, тебе сколько лука-то? – спросил Макушин.
– Не знаю… – пожал плечами Фарход. – Чисть, чисть, не пропадет… Я эти дожарю, потом с тестом разберусь… День длинный…
– День-то длинный, – буркнул Макушин. – А пока, гляди вон, ни одного пирожка не продали… А девятый час!
– Раскупят! – сказал Фарход, подмигивая. – Не горюй: проголодаются – раскупят!.. Эх, Москва, Москва!.. А, Сирочиддин?
И затянул песенку:
Виноград по ягодке срывал,
Девушку в беседке целовал.
Где теперь тот сладкий виноград,
Где моей любимой нежный взгляд?..
– Дурень ты все-таки, Фарход! – сказал Макушин, чтобы не нарушать правил игры.
Дзень!..
…Да, а через неделю он вернулся в Москву, и оказалось, что за время отсутствия родной город странно выцвел: все то, что было ярким и значительным, превратилось в малозаметные мелочи, и он не находил себе места. Через месяц кому-нибудь из отдела снова нужно было лететь в Хуррамабад, и молчаливо предполагалось, что Макушина дважды в год в эту дыру посылать не будут. Ехать собирался Левушкин и уже вздыхал и матерился, заполняя командировочное требование, когда Макушин ляпнул вдруг на планерке, что ладно уж… что там… он может и во второй раз… тем более что по второму-то разу как-то проще – ведь не впервой…
А уехав снова, сообщил через две недели телеграммой, что готов остаться до окончания испытаний.
– Ладно, ладно, не обижайся, – сказал Фарход. – Но ты мне все-таки объясни!.. Вот у тебя теперь жена таджичка, да? А была русская. Верно? Нет, ты скажи – верно?
– Верно, – сказал Макушин. – Была русская.
– А я себе этого и вообразить не могу… – вздохнул Фарход, вылавливая готовые пирожки из чадящего противня. – Тебе повезло… Тебе очень повезло! Вот у меня жена – таджичка, а русской никогда не было… и никогда не будет.
– Не расстраивайся, – посоветовал Макушин. – Не стоит того.
– То есть, – оживился Фарход, – ты хочешь сказать, что они все одинаковые?
– Ну что значит – одинаковые… – протянул Макушин. – Нет, не совсем одинаковые.
На самом деле он не был в этом уверен.
Очередная луковица упала в ведро – дзень!..
2
Когда испытания завершились, Макушин не вернулся в Москву. Москвы уже не было: все эти полгода Москва отставала, отставала, все в ней меркло, гасло, глохло, переставало отзываться, и в конце концов она превратилась в тусклое пятнышко не то на горизонте, не то на слезящейся роговице.
Москвы не было, и казалось, что не было никогда. Поэтому он ни о чем не жалел. Правда, поначалу его тревожили сновидения и письма жены, которая искренне не понимала, что случилось. Он не отвечал, поскольку все равно не мог ей ничего объяснить. Да и никому не мог. Как объяснишь свою необъяснимую уверенность в том, что под этим небом уже прошла однажды твоя жизнь, в которой ты говорил на чужом языке и был счастлив?.. На последнее письмо, шестое по счету, он тоже не ответил. Через год он попытался однажды вспомнить ее лицо – и не смог. А сны порой наплывали. К тому времени только в этих-то снах он и говорил по-русски.
– Нет, – сказал вдруг Фарход другим тоном. – Нет, не понимаю! Ну вот смотри! Ну был бы я уважаемым человеком, научным, ходил бы с портфелем… была бы у меня русская жена… беленькая такая, синеглазая… дети были бы, да?.. И что же, я бы это все бросил и пошел бы работать в пирожковую к Толстому Касыму?! – он в сердцах шваркнул проволочным черпаком о разделочный стол. – Да что я, сумасшедший, что ли?
– А кто сумасшедший? – спросил Макушин. – Я сумасшедший?
– Не знаю, – буркнул Фарход.
Макушин пожал плечами.
Собственно говоря, он не собирался работать в пирожковой Толстого Касыма. Он собирался работать в институте. Это было бы логично – прежде в командировки приезжал, а теперь бац! – и остался… Он и впрямь был неплохим специалистом. Кому это может не понравиться?
Он долго раздумывал, как подступиться к делу. Фазлиддина Хочаевича, директора института, он с некоторых пор недолюбливал. Фазлиддин Хочаевич был человек довольно несимпатичный, но Макушин уяснил это не вдруг: поначалу принимал цветистую приветливость за доброту.
Накануне отбытия из первой коротенькой командировки его пригласили на ужин.
Потом-то он понял, как они над ним смеялись! Как они смеялись! А ведь сами позвали, он не напрашивался… Более того, ему было совершенно некогда – завтра улетать, а установка экспресс-анализа разладилась. И как всегда – без видимых причин. Так нет же: Фазлиддин Хочаевич прислал Алишера, ученого секретаря, и тот долго уламывал – мол, как же так, Фазлиддин Хочаевич просил… ведь Фазлиддин Хочаевич хочет… в ознаменование… упрочить связи… не обижайте!.. Макушин развел руками и согласился. Полагал, что поведут в ресторан или домой к директору, но почему-то направились именно к Алишеру, ученому секретарю, и оказалось, что их там ждут.
Да, есть, есть на свете утонченное наслаждение – издеваться над человеком и знать, что он не только не понимает, что над ним издеваются, но более того – принимает эти издевки за высшую форму гостеприимства! Если бы он не остался, если бы не влез в чужую шкуру, которая и по сию пору болела и коробилась, обнажая родимые пятна, он бы тоже никогда этого не узнал… Как они распинали его, пьяненького и счастливого, за пиршественным столом! Он был чужаком, пришельцем, он не был своим; он не отфильтровывал и десятой доли тех смыслов, что наполняли слова; он видел только поверхность происходящего. Они насмехались над ним так, словно он был насекомым, слепо ползающим по загадочной поверхности прозрачного для кого-то стекла…
…Когда он откинулся на подушку, досыта насладившись экзотичным уроком поедания плова без помощи ножа и вилки и понимая, что еще одна рисинка переполнит его настолько, что он просто лопнет, Фазлиддин Хочаевич усмехнулся, черепашьи моргнул и сказал неодобрительно:
– Вы, Сергей Александрович, кушайте… Почему не кушаете?
Словно показывая пример, он протянул к плову руку: намял рис, возя его вправо-влево по краю блюда, задействовал небольшой кусочек мяса, легко запрокинул голову и отточенным движением большого пальца ловко сдвинул в рот то, что так тщательно приуготовлял.
Макушин невольно сглотнул, а смешливый Алишер прикрыл рот кулаком, словно боялся прыснуть, и тоже приглашающе повел ладонью:
– Кушайте!
– Нет, спасибо… – сказал Макушин, подавив отрыжку. – Гм… Я совершенно сыт.
– Есть у нас обичай… – сказал Фазлиддин Хочаевич, жуя, а между тем уже снова возя пальцами по блюду; рис сочился маслом, когда он надавливал, сминая его в лепешечку. – Называется оши ту…
– Да, да! – закивал Алишер и не удержался – прыснул.
Макушин снова присунулся к столу – ему было интересно узнать про обычай.
– Ошоту? – переспросил он.
– Оши ту, – поправил Алишер, а Фазлиддин Хочаевич с достоинством кивнул, одновременно засовывая в рот новую порцию. – Это значит – твоя еда. Ош – еда, пища. Понимаете?
– Конечно, конечно! – заторопился Макушин. Фазлиддин Хочаевич так аппетитно уминал жирный плов, что и ему уже снова захотелось. – Обычай! Я люблю обычаи!
– Обычай такой… – протянул Алишер. – У нас не принято еду оставлять. Приготовили – съели. Раньше ведь холодильников не было, хранить было негде.
– Понимаю… – кивнул Макушин, пьяненько ерзнув от удовольствия.
– А особенно – плов, – сказал Фазлиддин Хочаевич, шумно переводя дыхание. – Плов нельзя выбрасывать. Его обязательно нужно доедать. У нас даже хлеб не выбрасывают… У нас хлеб кладут повыше – пусть птица съест…
– И поэтому, когда все уже наелись, – подхватил Алишер и снова не утерпел – прикрыл рот кулаком, – самый старший за столом начинает всем по очереди делать оши ту – берет вот так в ладонь плов, да?.. (Макушин завороженно кивнул, следя за тем, как Фазлиддин Хочаевич, словно руководствуясь инструкцией ученого секретаря, и в самом деле запустил пятерню в маслянистую горку риса.) Немножко его вот так сминает, да?.. – торопился секретарь, – раньше, говорят, на пирах у беков неугодным гостям сюда еще одну такую особую баранью косточку закладывали… говорят умные люди, что бог специально ее создал для таких случаев… видите, как?.. да, закладывали такую маленькую косточку, чтобы гость наверняка подавился и умер… о, беки такие дела делали!.. вот… и гости все по очереди открывают рот… – Фазлиддин Хочаевич поднял на Макушина взгляд холодных черепашьих глаз, занося руку так, словно хотел швырнуть содержимое горсти ему в физиономию; Макушин, продолжая польщенно улыбаться, покорно раззявился. И – р-р-р-аз!
Ладонь Фазлиддина Хочаевича змеиным броском залепила рот. Макушину показалось, что в глотку вогнали кол – плотный кляп риса, моркови и нескольких кусочков мяса подействовал на него примерно как удар казаном по голове: он покачнулся, закрыл глаза, зажмурился, замычал, делая в панике мелкие конвульсивные глотки, а потом воздел руки и стал водить ими по щекам такими движениями, словно пытался стряхнуть снежинки или капли влаги: никогда никому не говорил об этом, но в тот момент у него было ощущение, что проклятый рис посыпался из ушей… а ему не хотелось выглядеть неряхой!..
…А тогда со времени этого злополучного ужина прошел почти год, он хотел остаться работать в институте, и решение этого вопроса целиком зависело от Фазлиддина Хочаевича… Он хорошо помнил, как шагал по пыльному коридору, как остановился у двери кабинета, вздохнул, натянул приветливо-извинительную улыбку, постучал и осторожно нажал ручку.
– А-а-а! – протянул Фазлиддин Хочаевич. – Заходите, заходите!.. С чем на этот раз пожаловали? Опять непорядки? Опять реактив-шмеактив?
– Как ваше самочувствие? – поинтересовался Макушин. Синие глаза сияли на смуглом лице. – Как дома? Все ли хорошо у вас? Все ли спокойно?
У Фазлиддина Хочаевича были набрякшие веки, и взгляд из-под них следовал всегда не в упор, а по касательной. Улыбаясь Макушину с тем оттенком отстраненного радушия, что характерно для изображений египетских фараонов, он бормотал ответные приветствия.
– Как у вас? Все ли хорошо? Все ли спокойно? Здоровье?
– Спасибо, спасибо, – сердечно отвечал Макушин, прижимая руки к груди. – Хотел у вас совета спросить, учитель…
Фазлиддин Хочаевич издал одобрительный скрип и предложил глоток чаю.
– Видите ли, учитель… – осторожно начал Макушин. Он давно освоился с тутошней манерой вести серьезные разговоры. – Ваши работы в области полимеризации под давлением… – бормотал он случайно наворачивающиеся на язык слова, – показали научной общественности всю силу интеллекта… подведомственного вам института… э-э-э… и молодые ученые тоже… – Макушин повел шеей и выпалил: – Не говоря уж о полигидролхлориде! Это уж не говоря!..
Фазлиддин Хочаевич понимающе кивал, и по выражению его рыхлого лица нельзя было бы заключить, что и единого волоса из своей негустой шевелюры он не поставит на кон в подтверждение того, будто понимает, о чем идет речь.
– Еще пиалочку? – вопросительно-вежливо и вместе с тем настойчиво предлагал он, выгадывая время.
– Я что хочу сказать, – не унимался Макушин, принимая пиалу и не забывая при этом ответить секундным ритуальным бормотанием на такое же бормотание подающего. – Как специалист могу вас заверить, что всякому ученому было бы лестно трудиться в стенах этого института!.. – он обвел рукой выбеленные зеленоватой известкой стены кабинета, в углу которого стоял в рассохшейся кадке покривившийся фикус, а серые занавески имели отчетливо портяночную фактуру. – И под вашим руководством, Фазлиддин Хочаевич!
Оба они думали не то, что говорили, и говорили не то, что думали. Макушин хоть и имел определенную цель, однако словно женщина, ссорящаяся со своим возлюбленным, вообще не вкладывал в свои слова никакого смысла. Подобно тому как она следит за реакцией любовника лишь для того, чтобы еще и еще раз убедиться в его неравнодушии, так и Макушин, выкатывая круглые фразы о ставших ему совершенно неинтересными свойствах предельных углеводородов, в действительности томился лишь одним вопросом: ну хоть теперь, когда они говорят на одном языке, понимает ли этот старый пень, что он, Макушин, свой?
Между тем Фазлиддин Хочаевич не узнавал в нем своего. Более того, Макушин снова был бы поражен в самое сердце, если бы смог вообразить ту степень настороженности, которую директор испытывал сейчас по отношению к чужому.
Во-первых, он, разумеется, не поверил ни единому его слову. Да и кто бы поверил! Это же смешно сказать: хочу остаться и работать под вашим началом! Ха! Это что значит – остаться?! Он же не студент, не практикант! Солидный мужчина! Это что же – бросить квартиру в Москве? Жить здесь?! Ха-ха-ха! Да ни один из них лишнего дня здесь не проведет!..
В растревоженной голове директора мелькнула мысль, что случайный командировочный от жары тронулся умом. Но гораздо более важным было другое: Фазлиддин Хочаевич осознал вдруг, что Макушин действительно говорит на его родном языке!.. Какая сволочь! От смешных полуудачных попыток связать два слова, вызывающих шумное одобрение прочих участников необязательных бесед, он за несколько месяцев поднялся до возможности говорить не только связно, но даже и гладко! Не только гладко, но даже и с некоторым изяществом!..
Фазлиддин Хочаевич напрягся и приготовился к бою. Сколько бы он ни думал, ему все равно не удалось бы найти другого объяснения происходящему. Перед ним сидел не просто чужой. Чужих он видал-перевидал. Ладить с ними было легко, потому что чужие испытывали только равнодушие ко всему тому, что было ему близко и понятно, что могло принести радость или искреннее огорчение, – точно так же и он был равнодушен к их глупому, напыщенному и невежливому миру. Но в данном случае перед ним был не просто чужой. Ах, мерзавцы!
Он смотрел на него и не мог поверить, что в той улыбчивой и беспощадной борьбе между представителями кулябского и ходжентского кланов, которой, главным образом, и жил институт, наступил новый этап: подлецы стали вот так, в открытую, использовать чужих, приехавших из Москвы в командировку, для своих целей!
К сожалению, это свидетельствовало не только об их давно известном бесстыдстве, но и о новом уровне связей и возможностей! Ах скоты! Вот уж верно сказано про них: натянут ослиную шкуру на лицо и не знают стыда! Бисмиллои рахмону рахим!.. Во имя Бога милосердного!..
Ему хотелось заскрипеть зубами и швырнуть чайник на пол, но он только вздохнул, почувствовав, как по спине пробежал холодок растерянности, и сказал, радушно улыбаясь и протягивая Макушину пиалу, на донышке которой парил глоток остывающего чаю:
– Прошу вас, выпейте еще!.. Чай, только чай мирит нас с жизнью! Так у нас говорят… Не слышали?
Макушин, улыбаясь, кивнул и принял пиалу и пробормотал благодарность, а сам запомнил: чай, только чай мирит нас с жизнью! вот как у нас говорят!..
Ну и, разумеется, ни черта из этой затеи не вышло. Уже через неделю его тихо выпроводили – вежливо, улыбаясь, сожалея, качая плешивыми головами и произнося округлые фразы обещаний.
3
Дзень!..
– Ну все, пока хватит… – сказал Макушин, вытирая руки о фартук. Глаза слезились. – Знаешь, есть у русских такое итальянское слово – баста?
– Не, – Фарход помотал головой, – не знаю… Я, Сирочиддин, видишь ли, в таджикской школе учился… там у нас русский плохо объясняли. Ну, так-то я все говорю… а некоторые слова не очень помню… Вот кто в армии был – тот у нас хорошо знает русский. А я не был… ну, я тебе рассказывал…
– Брат, а брат! – у окошка стоял давно не бритый человек в замасленном халате и такой тюбетейке, словно из нее только что съели несколько порций лагмана. – Брат! Продай один пирожок, а! Тут вот у меня маленько не хватает…
Он протянул руку и выложил на обитый стальным листом прилавок несколько мятых бумажек. По выражению его встревоженной физиономии можно было заключить, что он оценивает свои шансы на получение пирожка не очень высоко.
– О! – сказал Макушин. – Вот и первый покупатель!
Он пересчитал деньги, задумчиво посмотрел на Фархода и сообщил итог. Тот пожал плечами.
– Ладно, разве что для почина… – протянул Макушин. – Бери.
– Вам бы туда, на площадь бы с вашими пирожками, – радостно сказал человек, осторожно надкусывая хрустящий край. – Там бы расхватали – глазом не успеешь моргнуть! Вот где торговля! Народу! У-у-у-у-у!.. Все голодные, злые как собаки… – он покачал головой, осторожно нащупывая языком щель, из которой начал сочиться обжигающий сок. Глаза его сошлись к переносице, а речь стала невнятной. – Святое дело делают!
– Ага! – весело согласился Фарход. – Сейчас вот я все брошу – и пойду на площадь. Ты на которую мне посоветуешь? Свободы или Мучеников? Или все равно? Сяду там на картонку, халат под себя подоткну… и буду сидеть! И орать! Мол, дай мне то, дай се! Да?
– Зачем так говоришь, брат!.. – сказал человек, осуждающе понизив голос. – На площадь Свободы не ходи, это ты правильно говоришь, не надо туда, там кулябцы сидят… ты был там? – вдруг быстро спросил он, глядя на Макушина.
– Нет, – ответил тот. – Не был.
– А, – махнул рукой покупатель, заталкивая в рот остатки пирожка, удивленно спросил: – Ты татарин, что ли?.. – и продолжил с набитым ртом, снова переведя беспокойный взгляд на Фархода и обращаясь преимущественно к нему: – Они совсем озверели, эти кулябцы! С лошадьми! С кормом! Как в ханские времена на войну собирались! С казанами! Всю площадь уже засрали!.. – он опять махнул рукой, затем вытер ее о халат, поплотнее запахнул полы, поежился и двинулся прочь.
Через секунду обернулся и заорал, весело скалясь:
– Так что давайте, давайте со своими пирожками! Только не к кулябцам! На площадь Мучеников!.. Мы там сидим!..
– Ну да, – вздохнул Фарход. – Сейчас… Нет уж, лучше вы к нам…
– Вот тип, – недовольно сказал Макушин, пожимая плечами. – Видишь как – татарин!..
Он покачал головой, глядя этому болвану вслед.
За русского его уже никто не принимал – если сам признавался, не верили, ахали, чуть только щупать не начинали. Пару раз доходило до смешного – приходилось махать паспортом, доказывая. После этого Толстый Касым, собака, все норовил заработать на нем простым и надежным способом – бился со случайными покупателями об заклад по поводу его национальной принадлежности. Однако, когда один из проигравших с досады принялся топтать злополучный паспорт, а затем полез на Макушина с кулаками, тот участвовать в жульстве отказался наотрез. Правда, и доказательная сила паспорта в последнее время сильно ослабла – фотография, сделанная со сдобной ряхи двадцатипятилетнего москвича, имела мало общего с подсохшим, груболицым хуррамабадцем годков под сорок, потемневшим от солнца и нечистой базарной работы.
С другой стороны, не признавая в нем русского, Макушина все норовили записать то узбеком, то казахом, то даже турком-месхетинцем – короче говоря, кем угодно, только не своим.
– Бродяжка, – определил Фарход. – Впрочем, черт его разберет – может, и кишлачный. Их же понаехало – как саранчи… – он хмыкнул. – Вот делать-то людям нечего, кроме как правды добиваться! Лучше б работали, собаки…
Макушин поднялся, переставил скамью ближе к прилавку, чтобы было посветлее, снял со стены доску – доска была хорошая, сосновая: сам делал, – шаркнул по ней ладонью, положил на скамью. Ногой поддал по алюминиевому тазу, и тот, послушно громыхнув, встал куда надо, чтобы удобно было ссыпать рубленый лук. Насвистывая, перебрал несколько ножей, лежавших справа от Фархода, остановился на том, что с белой ручкой. Снял с полки брусок, поплевал, почиркал. Попробовал на ногте, удовлетворился. Брусок положил на место.
– Ну что, поехали? – спросил он неизвестно у кого.
Вздохнул, оседлал скамью, взял первую луковицу и разрезал ее пополам давно заученным быстрым движением.
– О! Душа моя, Фарход! Как дела, как работа? Как семья?..
В окно всунулась фиолетовая физиономия Нури Красавчика, прозванного так за то, что в юности он был обезображен фурункулезом.
– О-о-о-о! Сирочиддин! Как это у вас там, а? Сядь на конек, съешь пырожок, а? Так, что ли?
Через окно можно было разглядеть только сияние крахмальных манжет из-под обшлагов шелкового пиджака, но Макушин был уверен, что если высунуться, он увидит и забрызганный антрацит лаковых туфель.
Честно говоря, он недолюбливал Нури Красавчика. На его взгляд, тот был слишком развязен. Тоже мне – конек-пырожок!
Он пожал плечами и хмыкнул в знак приветствия.
– И тебе привет, Нури, – степенно сказал Фарход, шлепком переворачивая на столе кусок теста. – Твоими молитвами… Пирожка хочешь?
– Ой, хочу, Фарход! – запричитал Нури Красавчик, скалясь. Почти все его зубы были золотыми. – Но больше я хочу шурпы! Ты не поверишь, с каким удовольствием я бы выхлебал сейчас касушечку сладкой бараньей шурпы!.. М-м-м-м-м!.. Да где там!.. – Он горестно развел руками. – На всем базаре только Толстый Касым работает! Да еще эти пеньки с огурцами сидят… деревенщина! Все закрыто… представляешь?
– Хорошо! – ответил Фарход, быстрыми шлепками охаживая тесто. – Весь клиент наш будет! Сколько тебе?
Нури Красавчик зажмурился.
– Сто? Нет, двести! Нет, Фарход!!! Нет!!! Дай мне триста твоих пирожков! Триста пирожков с луком и мясом, жаренных в… – Нури повел носом и сморщился, – в трижды поганом хлопковом масле, в котором уже тридцать три раза жарили какую-то дрянь… ослиную требуху, что ли, вы в нем жарите? – спросил он, кривясь.
– Иди за шурпой, Нури, – посоветовал Фарход, пластая тесто ножом. – Тебе, правда, шурпы лучше было бы… Перегаром-то несет – хоть спичку подноси.
Нури Красавчик фыркнул.
– Ты меня поил, что ли, базарный жук, а? – он печально покачал головой. – Что ты в этом понимаешь! Вино и женщины – вот что может по-настоящему порадовать хорошего мусульманина!.. Ты знаешь, что такое сито, Фарход? А? – Нури Красавчик покачал поднятым пальцем. – Тебе, бедняге, не попадалась женщина, которая умеет делать сито?! Зачем ты живешь, Фарход? Чтобы лепить эти поганые пирожки? Сито! Понимаешь ли ты – сито! Сегодня ночью я спал с женщиной, которая делает сито как… – он зажмурился и издал такой звук, словно его облили кипятком, – как взбесившаяся бетономешалка делает она сито, вот как!..
– Сколько? – скучно спросил Фарход.
– Что – сколько? – удивился Нури Красавчик, открывая глаза.
– Пирожков, спрашиваю, сколько? Если триста, придется подождать…
– Да куда мне триста… – Нури махнул рукой. – Парочку дай, что ли… Съем парочку… хватит… Но сначала нужно выпить! Ты ведь знаешь, Фарход, – Абу-али ибн Сино учил пить вино только перед едой!.. Есть такая книга – Ал-Конун… Не читали? – спросил он, употребив нарочито вежливую формулировку вопроса и с таким выражением, словно ответ еще не был ему очевиден.
– Я букв не знаю, – ухмыльнулся Фарход.
– А-а-а! – назидательно протянул Нури Красавчик, извлекая початую бутылку водки из внутреннего кармана пиджака. – Вот видишь! А многие следуют… Также арбуз и дыня – только перед едой. Иначе – яд, а не польза. Чай – тоже перед едой. После нельзя… очень вредно… – он покачал головой и поджал губы, по-видимому, сожалея о тех безумцах, которые пьют чай после еды. – И стакан какой-никакой дай, что ли… Редька есть?







