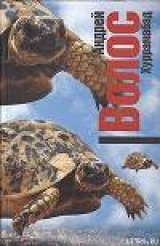
Текст книги "Хуррамабад"
Автор книги: Андрей Волос
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Андрей ВОЛОС
ХУРРАМАБАД
Роман-пунктир
ПРЕДИСЛОВИЕ
Еще в конце восьмидесятых годов все было просто и понятно. Огромный кусок планеты на политических картах однородно закрашивался красным. Это была монолитная «империя зла», единый и неделимый Советский Союз.
И вдруг страна победившего социализма стала расползаться на разноцветные лоскуты. Армения! Азербайджан! Казахстан! Узбекистан! Киргизия! Таджикистан! И еще! И еще!..
Западный мир пришел в замешательство. Была одна страна – стало много. И в каждой, оказывается, – своя история и культура, свои собственные надежды и претензии, свои разочарования, беды и кровь… Как к ним относиться? Чего от них ждать? Что они несут миру?
Если бы где-нибудь на территории бывшего Советского Союза и впрямь существовал город Хуррамабад, то, несомненно, обозначающий его кружочек можно было бы отыскать на карте Таджикистана…
Бывшая Советская Социалистическая, а ныне просто Республика Таджикистан – одна из самых южных территорий распавшегося СССР, непосредственно граничащая с Афганистаном. Это горная страна, в которой живет около четырех миллионов человек. Большая часть населения – таджики, древний народ арийского происхождения, говорящий на окающем диалекте фарси – персидского языка. До завоевания арабами в VIII веке предки современных таджиков были приверженны зороастризму – огнепоклонничеству, на их территориях развивалось интенсивное орошаемое земледелие, процветали различные искусства и ремесла. Вторжение войск Арабского халифата в Иран и в Среднюю Азию, насильственное насаждение ислама и арабского языка нанесло сокрушительный удар по древней иранской культуре. По выражению летописца, наступили «века молчания». Однако к IX веку иранская традиция смогла перебороть, словно растворяя в себе, грубую культуру пришельцев. Выступая поначалу в арабоязычном облачении, она не только подняла на новую высоту арабскую литературу, но и подготовила предпосылки для последующего возникновения богатейшей литературы уже на родном языке иранцев (таджиков и персов).
Таджикистан в его современных границах – это не однородная глыба. При внимательном рассмотрении становится понятно, что таджики делятся на несколько территориальных общностей. (Примерно так Германия делится на разные земли.) Все они говорят, вроде бы, на одном языке – да в каждой земле все-таки по-своему. Песни не те. Одежда отличается. Танцы другие. Свойства национального характера разнятся…
Земли, слагающие современный Таджикистан – это Ходжент, Куляб, Гиссар, Гарм и Памир.
Памир больше всех не похож на собратьев. Языки памирцев (на некоторых из них говорит не больше двух сотен человек), имея один исторический корень, сильно отличаются от среднего таджикского. Шугнанский, бартангский, орошорский, хуфзский, сарыкольский, язгулемский, ваханский, ишкашимский… Благодаря труднодоступности и удаленности Памира, все они сохранили черты, позволяющие возводить их к эпохам Бактрии и Согдианы – древним государствам Средней Азии.
Худжанд – город, история которого насчитывает более чем две с половиной тысячи лет. Возникнув на пересечении торговых путей, он являлся центром власти и культуры. Худжандец склонен к разумным компромиссам, к политическим способам разрешения конфликтов, в какой-то степени – к конформизму.
Кулябец – человек гораздо более жесткий, решительный. Это вспыльчивый горец, малообразованные предки которого веками боролись с самой природой, а не с ее тайнами. Он решителен, всегда готов к столкновению, не склонен прощать обид и полагает кровную месть разумным и справедливым делом.
Гарм гордится чистотой снегов, рек, языка и веры.
Гиссар – плодородная и густонаселенная долина, где расположилась, в частности, столица Таджикистана – Душанбе, город, построенный в 30-х годах.
Исторически Таджикистану принадлежали также Бухара и Самарканд, и по сей день заселенные преимущественно таджиками. Однако в 1929 году, когда советская власть принялась по своему разумению проводить справедливые территориальные границы между разными народами, эти города оказались на территории тюркоязычного Узбекистана. Так и хочется вспомнить, как неосмотрительно Хафиз несколько веков назад пропел в любовной горячке, что, мол, оба славных города готов отдать за одну только родинку некоей смазливой тюрчанки! – вот и пробросался Бухарой и Самаркандом…
До революции, до прихода Советской власти никто не пытался слепить из всех этих земель единое государство. Каждой из них управлял бек – ставленник Бухарского эмира. В свою очередь, весь Бухарский эмират с 1868 года находился в вассальной зависимости от России.
В 1929 году слияние произошло – была создана Таджикская ССР. Само объединение разных земель в единое государство определило и причины будущих конфликтов и возможного распада: силой содвинули вместе несколько частей, превозмогая сопротивление пружин. Так взводят курок, который потом ударит по бойку.
У кормила власти встали представители Худжанда – поскольку первыми восприняли революционную волну, катившуюся с севера.
Худжандцы правили больше шестидесяти лет, проводя ту политику, которую им позволяли проводить из Центра, – политику партии. На их веку Таджикистан стал индустриальной республикой с развитым сельским хозяйством, заплатив за это тем же, чем платили все другие республики – сначала гражданской войной, погромыхивавшей здесь до конца тридцатых годов, затем репрессиями, истреблением старой национальной интеллигенции, насильственными переселениями и, в конце концов, многочисленными и неизбежными при плановой экономике перекосами развития.
Советский Союз прекратил свое существование в 1991 году. Как только исчезла сила власти союзного центра, появилась возможность попытаться сделать жизнь лучше.
Всем было ясно, что для этого в первую очередь следует отогнать от власти представителей Худжанда – надоели хуже горькой редьки. Однако худжандцы придерживались диаметрально противоположной точки зрения. Поэтому «зеленая» исламская оппозиция принялась вразумлять их самыми жесткими методами. В итоге началась гражданская война, в которой часть населения, возмущенная зверствами оппозиции, выступила на защиту советской власти, то есть на стороне «красных». Однако при этом, как ни странно, «красными» были только представители Куляба и Гиссара. А «зелеными» – люди из Гарма и Вахшской долины. Удивительным было и то, что к «зеленым» почему-то присоединились памирцы-исмаилиты – народ вовсе не чрезмерно религиозный. Короче говоря, противников узнавали не по убеждениям, не по партийной принадлежности, а по тому, откуда человек родом. Республика стала распадаться на те самые куски, из которых была в свое время слеплена. Границы раздора, как встарь, пролегли между землями. По сути дела, это была феодальная междоусобица, в которой победило Средневековье.
Вот такая история – очень короткая в моем изложении, а на самом деле бесконечная, как история любого народа.
Выходцы из России занимают в ней свое место. В конце двадцатых годов они двинулись сюда вслед за Советской властью, чтобы строить электростанции, выращивать тонковолокнистый хлопок, лечить людей, добывать уран и золото, заседать в парткомах и рыть каналы в качестве ссыльных. А в наши дни, гонимые войной и голодом, еще более массово откатились назад, на родину, навсегда оставив за спиной этот удивительную страну – Таджикистан.
Глава 1. Восхождение
Автобус вырулил на площадь и подвалил к остановке. Внук спрыгнул на асфальт и обернулся, чтобы помочь бабушке сойти по ступеням. Потоптавшись у самого края и выставив вперед угрожающе подвижную палку, бабушка наклонилась, чертыхнулась и стала рушиться наподобие гипсовой скульптуры, неловко шагнувшей с постамента. Внук растопырил руки, увернулся от нацеленной ему в правый глаз клюки, подставил плечо, подхватил, поддержал – и вот уже она оказалась стоящей рядом с ним на земле. Стояла она, конечно же, не так, как он, – ухватила рукоять обеими руками, выставила палку, уперла, сама наклонилась и так, полуглаголем, отдыхала, тяжело дыша и повторяя:
– Уф! Уф!..
У кирпичного забора смотрели из цинковых ведер яркие цветы. Он выбрал четыре тугих сиреневых бутона, расплатился. Розы нежно пахли.
– Сколько? – строго спросила бабушка, кивнув на букет.
– Два рубля.
Она ужаснулась, закачала головой.
– Пойдем, – сказал он и взял ее под руку.
Они прошли в распахнутые ворота. Там он вынул из матерчатой сумки эмалированный бидон и налил его торопливой водой дополна, заранее представляя, как всю дорогу она будет плескаться. Цветы пристроил на место бидона, и они весело выглядывали из сумки, как щенки из корзины. На всякий случай напился, несколько раз укусив твердую струю, бившую из крана.
Потом утер губы и спросил:
– Ну что, пойдем помаленьку?
– Помнешь цветы, – ворчливо сказала бабушка. – Дай сюда.
– Ничего им не будет, – сказал он, вздохнув. – Все равно увянут.
Солнце неумолимо вскатывалось вверх по небосклону. Сейчас воздух был душистым и свежим, потому что нес в невидимых порах микроскопические частицы росы. Но скоро станет мутнеть и слоиться и гнать пот из тела, оставляя на коже липкую соль.
– Пойдем, – сказала бабушка. – Пойдем. Ноги мои, ноги. Отрезать вас и собакам бросить.
Закусив губу, она цепко схватилась за его предплечье, оперлась, изготовила палку, перехватив ее и выставив вперед, вообще вся воинственно напряглась – и шагнула.
На глаз дорожка забирала вверх не очень круто, но даже его здоровые ноги чувствовали этот обман. Бабушка же шла мучительно, тяжело – каждый шаг давался ей с усилием, специально направленным на этот шаг. Она торопливо ковыляла, широко и поспешно переваливаясь с боку на бок, так припадая и клонясь, словно хотела перенести в конце концов тяжесть тела вперед – туда, где под ней не окажется ног. Низ темно-коричневого мятого платья плясал и закидывался. И все равно они шли очень медленно, потому что шаги ее были при всем этом по-детски коротки. Помочь он мало чем мог, но с удовлетворением чувствовал, как сильно она на него опирается – до боли.
– Подожди… Ноги мои, ноги. Уф…
Они остановились. Клюка была воинственно выставлена вперед и уперта в землю. Бабушка, тяжело постанывая при каждом выдохе, стояла, навалившись на рукоять, и смотрела вперед. Там дорожка задиралась все выше и выше, а идти по ней нужно было до самого конца.
– Сейчас, передохнем немного… – сказала она.
Он терпеливо ждал. По сторонам, разнообразно кренясь, торчали пики оград и верхушки памятников. С обелисков смотрели запыленные фотографические лица в овальных или круглых ячеях медальонов. Кое-где они были расколоты, а содержимое выковырено чьей-то злой рукой; провалы оставляли неприятное впечатление пустых глазниц. Крашеная бумага венков выцвела на солнце и поблекла, но то же солнце золотило ее сейчас лучами, и бумага казалась совсем свежей.
– Устала?
– Что?
– Устала, говорю?
– Уже довольно много прошли, – неуверенно ответила она.
Внук чувствовал, как подрагивает ладонь, сжимающая предплечье. Он кивнул. В действительности прошли совсем немного. Дорожка ползла вверх. Казалось, даже ей самой, дорожке то есть, это не нравится. Вниз она бежала куда веселее. Внизу была видна торчавшая из зелени шиферная крыша конторы. Ворота уже спрятались. Сразу за крышей в пыльном жарком тумане разбредался косыми улицами город Хуррамабад. Туман был сизого жемчужного оттенка – должно быть, от выхлопных газов. Еще дальше, довольно высоко над противоположным бортом долины, на черте, отделяющей видимое от прозреваемого, недостижимо голубели заснеженные вершины. Они были так далеки и прозрачны, что прохлада их казалась нарисованной на кисее.
Он отвернулся и подумал, что серебряной краски может не хватить. Бронзовой было достаточно – целая баночка. Ее и нужно-то было совсем немного – подновить шары на углах. Они будут бронзового цвета, а вся ограда – серебряного. Серебряной краски было пять пузырьков, а в прошлый раз он извел шесть, если ему не изменяет память. Подчистую. Придется экономить. Правда, сейчас у него тонкая кисть, а в прошлый раз была довольно широкая, круглая, он это отчетливо помнил. А ведь прошло три года. Если не четыре. Черт, как летит время!
Он взглянул на солнце. Оно висело примерно в первой трети. Было без нескольких минут одиннадцать, а у них еще и конь не валялся.
– Ну что, двинем? – спросил он.
– Что? – переспросила бабушка.
– Я говорю – пойдем?
– Пойдем. Ноги мои, ноги. Что?
– Ничего, я молчу.
– Ты погромче говори.
Она оперлась на него, напряглась и пошла вверх, торопливо раскачиваясь. Седая прядь выбилась из пучка и щекотала влажную от пота шею. Она хорошо отдохнула. Надо чаще отдыхать. Если не делать этого, ноги совсем не идут. А постоишь – вроде легче. Ох! Вот ведь иногда ничего, а иногда ступишь – хоть плачь! Коленки горят. Снегу бы приложить…
Когда стояли, отдыхая, она проследила его взгляд. Внук смотрел на горы. Отчего-то у всех, кто смотрит на заснеженные вершины, лица становятся печальными. Такие красивые эти вершины – просто не верится. Выдумка, мираж.
Сама она, подумав об этом, вспомнила почему-то, как лениво, словно масло, расходилась вода из-под жестяных скул пограничного катера. Катер стучал несильным мотором, скребся вверх по Амударье.
Почему вдруг вспомнилось?
Ах да, горы. Была самая жара, конец июля или начало августа. Лето тридцатого года. Катер жался влево, к своему берегу, порой на раскаленную палубу падали клочковатые тени деревьев, из последних сил цепляющихся за уступы обрыва волосатыми корнями. Промыло их, должно быть, весенней водой.
Да, горы. Справа и слева. С той стороны (с чужой, с неприятельской, с с обманчиво тихой вражеской стороны) они были точно такими же, как с этой, – серые, безжизненные… Какой снег!.. Еще бы, конец июля. Или начало августа. Какой тогда мог быть снег? Господи, да она бы засмеялась, если бы кто-нибудь ей сказал, что здесь может идти снег. Если бы, конечно, не заплакала. Горы стояли словно вырезанные из огромных кусков пыльного папье-маше. Или из затхлой серой ваты, пролежавшей до весны между рамами. Ненастоящие. Она потом много всяких видела, но такого чувства не возникало. Невсамделишные.
Она смотрела из-под навеса, как ближе к вечеру кулем валилось на них чудовищно большое, отвратительно жаркое солнце. Вода розовела, и чешуйчато золотилась кильватерная струя. Катер стучал мотором – что-то у него внутри фыркало, он ни с того ни с сего начинал иногда раскачиваться. Палубные доски понемногу стыли, с воды долетало веяние если не прохладного, то хотя бы чуть влажного воздуха. Ей было все нипочем. Впрочем, в девятнадцать лет все нипочем…
– Стой! – хрипло скомандовала бабушка. – Постоим немного…
Она тяжело дышала и оттого, что стояла оперевшись о палку и наклонившись, казалась совсем маленького роста. Смуглый морщинистый лоб покрылся мелкими каплями пота.
– Постоим, – с готовностью согласился он. – Куда нам спешить.
Она явно не расслышала, но переспрашивать не стала, только механически кивнула – должно быть, по выражению лица поняла, что фраза носит риторический характер.
Что-то зашуршало над их головами, пырхнуло. Внук взглянул туда и увидел веселого скворца, залихватски качающегося на тонкой ветви иудина дерева. Взгляд произвел на скворца действие, сравнимое с действием камня или пули, – он шумно взорвался и исчез, оставив после себя только спиральную раковину завихренного воздуха, но и она тут же рассосалась.
– Осторожная птица, – удивленно сказал внук, все еще глядя вверх, и вдруг зажмурился, заморгал и стал тереть глаз кулаком.
– Какая, какая птица? – забеспокоилась она. – Что такое?
– Соринка, – проскрипел он.
Глазу было больно.
– Сорока? – удивилась она. – Их тут отродясь не было.
– Соринка, говорю! – закричал он. – Соринка в глаз!
– Что ты кричишь! – обиделась бабушка. – Я и так все хорошо слышу. Дай сюда!
– Что я тебе могу дать, – буркнул он. – Глаз ведь не вынешь.
– Что? Говори погромче.
– Но я ведь не могу орать на все кладбище! – закричал он, закрыв ладонью один глаз и вытаращив другой. – Мы с тобой всех покойников расшугаем!
– Тьфу! – плюнула бабушка на землю. – Типун тебе на язык! Что говоришь! Дай сюда! Дай!
Кряхтя и морщась, он в конце концов согласился подставить судорожный слезящийся глаз, стараясь раскрыть его как можно шире – вопреки конвульсиям сопротивляющихся век. Ему пришлось согнуть ноги в коленях. Стоять так было неудобно, зато бабушка имела теперь возможность нависнуть над его запрокинутым лицом. Он едва не вырвался, когда она неожиданно грубо растопырила ему глаз пальцами и резким коршуньим движением сунула туда, в плоть, привыкшую лишь к нежным касаниям невесомой слезы, дерюжный угол носового платка. Он дернулся было и через мгновение уже свободно моргал, а бабушка совала ему в нос чернеющую на ткани платка соринку:
– Видишь? Видишь?..
– Прямо бревно какое-то, – кивнул он. – Вижу. Пошли, что ли?
– Промой водичкой, – посоветовала она.
– Уже все прошло. Берись.
– Что?
– Берись, говорю! – громко повторил он. – Пойдем. Все в порядке.
– Пойдем, – согласилась она. – Отдохнули.
Она крепко держалась за его руку – даже крепче, чем это ей нужно было. В действительности возможность опереться не избавляла ее даже от части тех тягот, которыми сопровождалась так называемая ходьба. Разве морально было легче. Но ему лучше, разумеется, быть уверенным в том, что его помощь крайне необходима. Да и в самом деле – без него она бы не рискнула идти. Не больно-то с такими ногами походишь…
Еще вот глухота. Одно ухо почти совсем не слышит. Другое – с грехом пополам. Хорошо еще, когда с одним человеком разговариваешь. Пристроишься кое-как, подсядешь к нему под нужным углом, сосредоточишься – и все хорошо. А когда он еще чуть погромче говорит, то и совсем прелесть. Но вот если сразу несколько – ни черта не понять. Голоса перепутываются, гул, звон – будто под колоколами сидишь. Вот и на скамейке во дворе она разлюбила бывать из-за этого. Соберутся бабки – чуть ли не вдесятером – и галдят каждая свое. Хорошо, если хоть одна замолчит на минуту. Прежде она тоже пыталась наугад вставить словечко, ведь говорят-то все всегда об одном и том же, можно даже и не слушать – большей частью о детях, потом о болезнях, вот и все, пожалуй. Редко-редко кто о жизни что-нибудь вспомнит, это она одна такая вспоминальщица, вся жизнь – будто кино перед глазами, только рассказывай… Да, так вот, пыталась наугад вставлять свое, и обычно получалось, но несколько раз оплошала и перестала с тех пор. Все-таки не совсем об одном и том же говорят. У кого сын, а у кого и дочь. У кого жив, у кого помер. Брякнешь так что попало и обидишь человека. Нехорошо.
Она покосилась на внука. Из бидона поплескивала водичка. Хотела ведь ему посоветовать с самого начала полный не наливать – да передумала. На советы все только обижаются. Думают, бабка совсем из ума выжила. А она еще ничего. Хотя время, конечно, страх как бежит. Вот уже внук в том возрасте, в каком был муж, когда она ехала к нему сюда.
Она снова вспомнила, как стучал и подрагивал катеришка, поднимаясь все выше и выше по ослепительной золотой реке. На корме стоял деревянный ящик с помидорами, и они эти помидоры ели. Даже и не мыли. А что их мыть, когда все было чистым – никакой химии. А может быть, и мыли. Да, наверное, мыли. А Шура, с которой они двое суток просидели на одном тюке, оказалась болтушкой. Все время говорила о муже. Прямо без конца. Ей уже стало казаться, что она о Шурином муже все знает, не меньше, чем сама Шура. И что он курит папиросы, а махорку не курит. И что он младший командир, и все его уважают. И что он в Айвадже уже три года, а Шура к нему приехала два года назад – так же, как едет сейчас она сама. И что Айвадж – самая маленькая погранзастава. И что потолок в кибитке затянут ситцем. Чтобы всякая нечисть на голову не падала – скорпионы, например.
Она слушала, улыбаясь в тех местах, которые вызывали у нее сомнение в достоверности. Вот про ситец на потолке. Где это такое видано, чтобы с потолка скорпионы падали! Должно быть, Шура привирала. Что такое кибитка, она тоже не знала, но легко догадалась. Шура была годом старше. Впрочем, она и сама в свои годы много чего повидала. Однако помалкивала – ее слова были приехавшими издалека, пришедшими из другой жизни, выглядели новичками здесь и к этим шершавым серым склонам, страшным в своем жарком однообразии, никакого отношения пока не имели. Потому она и помалкивала.
Шура на каждом втором слове расширяла глаза. Будто именно это слово было самым важным. Глаза на ее худом скуластом лице казались очень большими. И блестели. Шура вся была худенькая, даже слишком, пожалуй. Уже не Амударья, а Пяндж шипел, расходясь крутыми струями из-под форштевня. Шура смотрела на тот берег. Она сказала, что оттуда раньше часто налетали отряды басмачей. И еще совсем недавно. Сказала, что у ее мужа есть орден. И опять заговорила о своем муже, а она не могла в ответ почти ничего рассказать, потому что со своим собственным и знакома была совсем недолго, и теперь уже давно не видела, и сейчас, думая о том, как он ее встретит, с робостью понимала, что почти забыла, какой он. Они сидели на тюке, смеркалось, зудели москиты. Шура сказала вдруг: «Наверное, он тебя очень любит. Ты красивая».
И неожиданно заплакала, негромко всхлипывая, но скоро успокоилась…
Рассказ этот он слышал далеко не впервые, наперед знал, что будет дальше и чем все кончится, и мог бы сам продолжить с любого места или просто пропускать мимо ушей, сосредоточившись, например, на том, чтобы идти по петляющей между оградами тропе именно с той очень небольшой скоростью, которая нужна опирающейся на его руку старухе. Ему казалось, что он и пропускает мимо ушей; в действительности же он, сам того не замечая, внимательно и ревниво следил за тем, правильно ли будут соединены все элементы рассказа. Пока дело шло без сучка и задоринки.
Бабушка сильно опиралась на его руку и ступала мелкими, вынужденно торопливыми шагами. Все вверх и вверх.
Ему тоже стало жарко. Солнце лупило прямо в глаза, жарило кожу, и уже несло по склону тем сухим и трепещущим воздухом, который скоро начнет переливаться и дрожать.
Старуха втыкала клюку в землю и опиралась, и гравий поскрипывал, словно в него вкручивали сверло. Ей было тяжело идти и говорить одновременно, она придыхала на каждом слове, слова выпадали скомканными, недопроизнесенными, и тем не менее она продолжала говорить, а он, слыхавший эту чужую историю столько раз, что она успела стать своей, не смел ее остановить. Подол коричневого платья все так же плясал и закидывался. Он чувствовал, что предплечье начинает неметь, а она все шла – припадая, переваливаясь, орудуя клюкой, закусывая от боли губу и пересказывая ему давнюю страницу своей долгой жизни с таким упорством, словно от того, как он ее поймет и запомнит, что-то зависело.
Он подумал, что она сейчас похожа на мамонта – да, на одного из тех последних мамонтов, что всходили некогда на великие холмы, покрывающиеся льдом и тьмой; они шли и, должно быть, трубили в темное небо, и гул разносился далеко по испуганной величиною их слов земле. Так же вот и она трубила сейчас, ковыляя по разбитой тропе вверх, и капельки пота соединялись в капельки побольше, усеивая лоб и щеки.
– Фу, стой, – сказала она из последних сил, тяжело и прерывисто дыша и морщась от боли. – Подожди, постоим… Фу. Устала.
Он стоял и силился представить ту воду, ту давно утекшую воду Амударьи или Пянджа, темную, тяжелую, несущую в себе песок и глину дальних предгорий. Она хлюпала под днищем, катер стоял у берега, потому что была ночь, а плыть можно было только днем – фарватер то и дело менялся, как объяснила Шура, того и гляди угодишь в темноте на мель. На носу маячил красноармеец, и винтовка у него на плече казалась одной из веток, что отделялась от черных тел бесшумных деревьев. Иногда он прохаживался по палубе, и палуба отзывалась негромким гулом. Чуть позже оранжевая и кривобокая луна вылезла из-за горы и повисла косым плодом над причудливой линией вершин, река засеребрилась и потекла, выступили деревья, листва на них обрела форму; тогда и часовой на носу тоже стал виден весь, и ветка за его спиной превратилась в поблескивающую сталь. Сверчки и цикады гремели многоголосым хором, похожим на визг деревообделочной мастерской. Что-то пощелкивало в кронах. В конце концов она уснула и уже ничего этого не слышала.
Не слышала и того, как в зеленоватом зареве зябкого рассвета катер молчком отвалил от берега, покачался, потом фыркнул и застучал. Они, угревшись под откуда-то взявшимся среди ночи бушлатом, проснулись через час. Выползало солнце, палуба подрагивала, шипели волны. По берегу к серо-желтой воде сбегали корявые кусты. Из-за камней между валунами торчала стеклистая мертвая трава, дальше поднимался безжизненный бурый склон, а еще дальше лежал и уже начинал пошевеливаться в первом мареве великанский язык километровой осыпи. Катер шел к Айваджу, и Шура стала молчаливой, словно проснулась другим человеком…
– Фу, ноги мои, ноги. Собакам вас бросить…
Она стояла, уперев клюку в землю. На руке, сжимавшей рукоять, резко пульсировала неровная толстая жила.
– Может, попьешь? – спросил он. – Вода еще не согрелась.
Она отрицательно покачала головой, потом отпустила его руку и провела ладонью по лбу. Она смотрела вперед с какой-то безнадежностью во взгляде. Тропа тянулась вверх, вокруг них стояли ограды, покачивались высокие стебли травы, тени перемещались по плоскостям памятников. Листва на урючинах была сплошь дырявой, словно по каждому листу стреляли дробью. А сами урючины стояли криво, и корявые их стволы казались вырезанными из горелой пробки. Но под ними лежали осыпавшиеся плоды – довольно крупные темно-оранжевые абрикосы. Этот подъем никогда не кончится. Угораздило их сюда забраться. Есть же места, где хоть кладбища на равнине. А тут погост и тот на горе. Ноги, проклятые ноги.
– Уже недалеко, – сказала она неуверенно.
Внук с сомнением посмотрел вперед и кивнул. Они двинулись дальше. Вся лишняя вода из бидона уже повыплескивалась, и теперь по крайней мере не брызгало на ноги. Покатый холм вздымался перед ними. Он был сложен светлой глиной, лессом. Там, где каблук попадал на комок, глина крошилась и хрустела. Земля была бугристой и большой. Солнце висело над плечом. Этот холм был похож на огромную волну, вздыбившуюся и застывшую. «И общей не уйдет судьбы», – подумал он с непонятным для самого себя ожесточением. Рассказ следовало довести до конца, и поэтому он крикнул:
– Так что Айвадж?
Айвадж? Там была маленькая пристань. Невдалеке стояли какие-то бараки. Правее из пологого, заросшего кустами сая выбегала речушка. Пыльные деревья, площадка за жердевой оградой – плац, должно быть. Вот и весь Айвадж. Шура простилась и ушла. Было очень жарко. Потом с заставы пришли двое – командир и красноармеец. Командир был молодым и загорелым. Он помог красноармейцу взвалить на спину тюк, на котором они с Шурой сидели двое суток. Красноармеец потащил его к баракам. Тень его сжалась под ним небольшим пятном.
Командир должен был попасть на другую заставу. Откуда-то снизу, из люка, он принес скамейку и предложил ей сесть. Она села. На тюке было мягче, но на чем-то сидеть все равно нужно было. Катер уже отваливал. Айвадж спрятался за поворотом и пропал, словно и не было этих деревьев, бараков. Они разговорились. Если бы не смутное чувство тревоги, которое не покидало ее вот уже несколько дней, она бы с удовольствием немножко пококетничала с ним. Он был разговорчив и чуточку рисовался. Ее тревога была объяснимой – слишком много неизвестного вокруг. Ко всему ей предстояло привыкать.
У них была одна общая знакомая – Шура, и на третьей фразе они неизбежно заговорили о ней. «Она часто ездит в Термез», – сказал он. Она в ответ заметила, что Шура, по всему видно, очень любит мужа, а он, надо полагать, того заслуживает. «Да, – согласился он. – Это был человек что надо». Она машинально кивнула, недоумевая. Катер стучал мимо каких-то глыб на берегу, и командир, указав на них пальцем, сказал, что это соль. «Почему „был“?» – спросила она удивленно. И узнала, что мужа у Шуры давно нет – он был убит еще весной в перестрелке с бандой, переправившейся с того берега.
– Вон, я уже вижу! – перебила она сама себя, останавливаясь и тыча палкой куда-то вперед. – Давай передохнем, а потом уж… Постой.
– Давай, – согласился внук, вглядываясь туда, куда она показывала. Но ничего нового не увидел – по склону все выше и выше встекало все то же зеленое и пестрое переплетение древесных стволов, металла и гранита. Лично ему казалось, что еще долго придется топать. Может быть, он забыл. Дай бог, чтобы ошибся. Бабушка дышала громко, хрипло, пот струился по лицу, кривясь в морщинах. Непонятно, что она там смогла разглядеть. Впрочем, ей виднее. Она здесь вообще, должно быть, лучше видит.
Он оглянулся.
Горбатая земля была сухой и звонкой. Сюда, на эти криволинейные, взметенные к вечно ясному небу пространства они отправлялись когда-то, на эту желтую звонкую землю, – и упрямо жили на ней, треща своими тракторами, царапая плугами ее грудь, чувствуя при каждом шаге, как тянет ремень кобура, и получали порой пулю в лоб или темное лезвие уратюбинского ножа в загорелый бок. И, принимая в себя их мертвых, эта желтая земля, прежде чужая, мало-помалу становилась родной.
– Сейчас… – повторила она. – Уже близко. Вон, видно. Сейчас.
История не была закончена. Оставалось всего несколько десятков слов, но их нужно было произнести и связать, и она начинала было говорить, но сбивалась на фырканье, на лепет и повторяла снова: «Сейчас… уф… сейчас…».
Он мог представить себе тревогу, охватившую ее на катере. Мотор постукивал, катер упрямо скребся к самой дальней заставе, и все, кажется, было как и прежде, а она сидела под навесом, ошеломленная тем, что было сказано загорелым командиром лет двадцати пяти, не верить которому у нее не было ровно никаких оснований. Она не понимала, зачем этой несчастливой Шуре нужно было ее обманывать. Да, наверное, она и сама виновата, что не расслышала чего-то в ее словах. Наверное, можно было расслышать. Зато она вдруг отчетливо поняла, что тревога, не покидавшая ее несколько дней, имеет простое и ясное объяснение – ее никто не встретит, там тоже случилось какое-то несчастье, он тоже погиб или умер, она теперь снова одна и может, в сущности, даже не продолжать свой путь, а вернуться.
Катер стучал, командир, заметив, что она перестала вдруг отвечать на вопросы, пожал плечами, обиделся, скрутил папиросу и оставил ее, спустившись вниз, в чрево фанерного корабля. Там он разговорился со знакомыми, и было слышно, как они хохочут. Она сидела на жесткой качающейся скамье, кусала губы, смотрела на скользившие мимо берега, столь ярко освещенные бешеным солнцем, что изобилие света рождало в глазах рябь, похожую на рябь реки.







