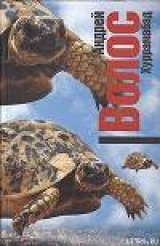
Текст книги "Хуррамабад"
Автор книги: Андрей Волос
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
Улыбка еще блуждала на губах, когда кто-то легонько потряс его за плечо.
– М-м-м… – сказал он, вздрогнув, и раскрыл глаза: к нему склонился Сафар, подручный повара Кулмурода.
– Сансаныч! Мархамат!.. – сказал он, прижимая правую руку к груди и извинительно улыбаясь. – Кулмурод-ака присылал, кушать просил…
– Чего? – настороженно спросил Дубровин, садясь прямо.
– Я вас будил, извините, – сказал Сафар. – Кулмурод-ака просил… пожалуйста…
И он показал на поднос, где стоял чайник, пиала и тарелка плова, прикрытая лепешкой.
3
Когда вернулся Муслим, Дубровин, подложив ватник под голову, валялся в тенечке на гравии, ковыряя в зубах сухой травинкой.
Муслим подошел и молча сел рядом, держа в левой руке тюбетейку, а правой вытирая потную плешь какой-то нечистой тряпицей.
– К начальнику заходил? – лениво спросил Дубровин, хотя и знал: конечно, заходил и, если бы узнал что-нибудь утешительное, уже бы восторженно рассказывал.
– А ну его, – сказал Муслим и вслед за тем длинно и не вполне по-русски выругался.
– Ясно, – вздохнул Дубровин. – Возьми вон, я тебе плова оставил, поешь…
– Нет, не хочу, – отмахнулся Муслим. – Сестра покормила.
Они помолчали. Дубровин хотел было спросить, не дала ли сестра хоть немного денег, но сдержался.
Муслим надрывно вздохнул и сказал:
– Денег опять дала. Сижу у нее на шее…
– С деньгами – совсем беда, – согласился Дубровин. – Надо бы подработать как-то, что ли… Я вон предлагал Кулмуроду – давай, мол, за харчи-то тебе поделаем что-нибудь… нет, говорит, какой с вас толк… Вот тебе и вся работа. Хоть контейнер взламывай…
– О-о-о, контейнер! – мечтательно протянул Муслим. – Если бы пломбы не висели, я бы знаешь сколько оттуда продать мог? Смотри! – он растопырил ладонь, приготовившись, видимо, загибать пальцы. – Коврик у меня там один есть… ну, не очень нужный коврик, потертый немного… и угол чуть-чуть прожжен…
– Да, ты говорил, – невольно поторопил его Дубровин.
– Во-о-о-от, этот коврик… так? Это уж точно не меньше семисот, а?
– Не знаю, – уклончиво сказал Дубровин. – По теперешним-то временам…
– Хорошо! Пусть пятьсот! Пусть! Это раз! – Муслим загнул мизинец. – Гахвора у меня там старая… целая совсем гахвора… а? Триста!
– Кому сейчас нужна гахвора? – пожал плечами Дубровин. – Какой дурак станет новых детей лепить? Старых-то девать некуда!..
– Э-э-э-э! – Муслим осуждающе сморщился и закачал головой. – Наши люди всегда рожают! Им хоть хлеба не давай, хоть в тюрьму сажай – все равно десять человек будут рожать!.. Триста, триста, не меньше! Так? Это уже восемьсот, брат!..
Дубровин перестал слушать. Он давно уже знал наизусть перечень того хлама, который Муслим волок с собой в Россию. Да и его собственный был не лучше – старый трельяж… шкаф, стол… три пары ношеных брюк…
Братом Муслим называл его с тех пор, как довелось им оказаться рядом в строю отряда самообороны – горстки испуганных людей, намертво вставших в погромную февральскую ночь на перекрестке. Распятый город выл от ужаса и боли; казалось, сам воздух полон насилия, издевательств, грабежа; лучше бы телефоны не работали совсем, потому что слухи о том, что творилось на окраинах Хуррамабада, могли свести с ума… Их тогда собралось человек двадцать или двадцать пять. Муслим был вооружен черенком от лопаты. Сам Дубровин держал в руках какой-то случайный дрын – но, правда, уверенности ему придавал нож, сунутый за голенище: по такому случаю он специально обулся в кирзовые сапоги, прежде используемые исключительно для выходов на субботники.
В деле они побывали единожды – в ту самую первую ночь. С гиканьем шла на них темная толпа, Дубровина трясло, и он мечтал только об одном – скорее! скорее бы сойтись! не стоять в ожидании, а бить, резать!.. «Товсь!» – гаркнул толстяк Горенко из второго подъезда, беря наизготовку что-то вроде гарпуна, наспех сооруженного из палки и стальной заточки, и все они подобрались, и Дубровин на всякий случай пощупал рукоять ножа – на месте ли… Но шпана, разочарованно и злобно повыв, разноголосо поматерив их, выставив на некоторое время вперед предводителя, который пытался приободрить свое войско какой-то заунывной песнью, швырнув несколько комков глины, все же не решилась на бой, а трусливо обтекла отряд справа и двинулась на Испечак…
Дубровин поднялся на ноги и огляделся. Собственно говоря, ни черта не изменилось, только солнце проползло еще примерно шестую часть своего пути.
– Значит, сегодня опять никуда не едем, – пробормотал он, глядя в ту сторону, куда в один прекрасный день должен был покатиться поезд. Там струилось желтое марево, в котором пошатывались и дрожали пирамидальные тополя вдоль дувалов ближнего кишлака. Он на мгновение вообразил, как состав двинется и пойдет – вагон за вагоном, цистерна за цистерной, платформа за платформой, – пойдет, тяжело погромыхивая на стыках, набирая ход, чтобы раствориться в мареве, унося Дубровина навсегда отсюда, где он был теперь чужим, в края, где он тоже был пока чужим и где ему еще предстояло стать кем-то, – и тут же схватило сердце, словно чья-то ладонь сжала его так грубо, как если бы это не сердце было, а рукоять метлы.
Дубровин отвел взгляд, отвернулся, отогнал от себя образ уходящего в марево состава – и боль тут же отпустила его.
– Ну вот что, Муслим… – сказал он. – Давай, заступай на вахту. Надо за хлебом идти. Третий день ни куска… На хлеб-то хватит денег, а?
– На хлеб-то хватит, – заворчал Муслим. – Может, вместе пойдем, а, Сансаныч? Что тут сидеть!
– Сидеть тут нужно! – отрезал Дубровин. – Вернешься потом – ни пломб, ни вещей! Как мы потом без пломб через четыре государства поедем?!
– А что пломбы! что пломбы! – возразил Муслим, поднимаясь на ноги. – Это же для тебя пломбы! Что все цело, никто не вскрывал!
– Опять! А для пограничников? Если без пломб – так, может, туда наркотики положили или оружие!.. Не дай бог, обыскивать начнут – половины не досчитаешься!
– Ну, а буду я тут сидеть! – упрямился Муслим. – Что толку! Придут, автомат покажут – я сопротивляться, что ли, стану?
Дубровин вздохнул.
– Тем, у кого автомат, твой контейнер не нужен, – рассудительно ответил он. – У них поважнее дела есть. Твой контейнер нужен тому, кто может из него украсть. У кого даже дырявого коврика нет, – пояснил он язвительно, однако Муслим не обратил на шпильку внимания. – Украсть, понимаешь? Украсть, а не ограбить! А если человек хочет красть и не умеет грабить, он к тебе не подойдет! Он увидит: сидит Муслим, стережет свои дырки… Значит, ему тут делать нечего. Понимаешь?
– Ну, хорошо, – нехотя согласился Муслим, – пусть не автомат… Подумаешь! Палкой по башке – большое дело! А потом бери сколько хочешь!
– Опять за свое! Опять палкой по башке! Я же тебе толкую – это грабеж! До этого дорасти надо! Мы не от грабителей свое барахло охраняем! Успокойся!
– Грабеж, не грабеж… – проворчал Муслим. – Не чувствую разницы…
– В марте на сортировочной сорок пятитонников сгорели – слышал? А почему? Что, вот они просто так взяли и заполыхали, что ли? Фигня! Не охраняли их, вот в чем дело! А раз не охраняли, значит, охотников много нашлось – повскрывали, повытаскивали самое ценное, а потом красного петушка, чтоб концы в воду!
– Петушки какие-то… – безнадежно ворчал Муслим. – Концы…
– Сиди, Муслим, сиди… Я же не могу тут один целыми днями торчать! Ты вон к сестре сегодня ходил, – мягко сказал Дубровин. – Посиди! Я только за хлебом – и обратно. Ну, может, к Васильичу забегу на минутку. Пойди вон у Кулмурода чайничек чаю купи да отдыхай… – он помолчал секунду и закончил, глядя в сторону: – Деньги давай.
Муслим протянул ему несколько мятых бумажек и повалился на ватник.
4
Дубровину стукнуло тридцать девять лет, и еще год назад он был сложения если и не борцовского, то уж, во всяком случае, и на легкоатлета не больно-то походил. Потом началась эта катавасия… нервотрепка… страх… А за этот месяц и вовсе высох, почернел от солнца и превратился в марафонца без возраста и национальности.
Он шагал, насвистывая и отчужденно посматривая по сторонам.
Дети сидели на тротуарах через каждые пять или десять метров: постарше, лет двенадцати, раскладывали на газете семь-восемь предметов, младшие, еще совсем сопливые, довольствовались одним – пачкой сигарет или пакетиком концентрированного сока. У него не было лишних денег, и потому было легко глядеть поверх голов, отвергая настойчивые попытки продать ему жвачку или вафли в красивой иранской упаковке.
На углах улиц сидели русские старухи. У этих все было загадочно штучное – вилка, рюмка, книжка без обложки, ботинок без шнурков, порванный ремешок от часов, сами часы, надежно испорченные много лет назад, – и было очевидно, что, даже если собрать их со всего города, все равно не удастся обнаружить хотя бы двух парных предметов. Они не пытались нахваливать свой товар, а тихо перемолвливались друг с другом или просто тяжело смотрели сквозь пыльный воздух в темноту будущего, и Дубровин знал, что многих из них, когда умрут, некому будет хоронить, – да и сами они отлично это знали.
Он бездумно шагал по раскаленному тротуару, не отмечая, поскольку это было в высшей степени привычно, ни знобящей атмосферы несчастья, голода и беды, ни странного наслаждения, испытываемого оттого, что он погружался в город не просто знакомый, но оставляющий ощущение чего-то вроде материнской утробы, где не бывает ни голода, ни несчастий, где нельзя назвать что-либо своим или чужим, поскольку все существует ради тебя.
Пройдя двором старой школы, он миновал знойный сквер, до верхушек помертвелых чинар залитый недвижным горячим воздухом. Под деревьями неподвижно лежали какие-то люди, и он не знал, зачем они лежат там, и хорошо ли, что они лежат под деревьями в сквере, но не стал задумываться над этим, поскольку и это тоже было давно знакомо и привычно. На перекрестке возле остановленной машины стояли, лениво перебрасываясь незначащими фразами, два одетых в выгорелый камуфляж автоматчика, третий брезгливо рылся в багажнике. Бледный водитель, услужливо согнувшись, стоял рядом, что-то лепеча, и проходя мимо, Дубровин поймал его взгляд, исполненный ужаса.
Базар был немноголюден. Дубровин прошелся по рядам, изредка прицениваясь. Он задумчиво тронул мизинцем синевато-белую гору чакки в эмалированном тазу, под неодобрительным взглядом укутанной в белую марлю торговки с наслаждением облизал палец и спросил:
– Чанд?
– Бист, – неприветливо ответила она.
– Э, апа! – попытался он ее урезонить. – Ты что! Дах меравад?
– Бист! – отрезала торговка.
– Падарланат, – пробормотал он, отходя.
Ничего не купив, он вышел из северных ворот и двинул напрямки к хлебозаводу.
Здесь, в переулках старого города, было безлюдно и тихо. Он шагал вдоль кирпичных и бетонных заборов, за которыми, судя по звукам, шла не видная ему, но понятная тихая деятельность – смеялись или плакали дети, покрикивали женщины, скулили собаки, выпрашивая подачку со стола, однообразно гулили горлицы, наливался виноград на деревянных шпалерах, струилась вода, и вообще все шло по тому раз и навсегда заведенному кругу, который единственно и может называться жизнью. Он шел, невольно замедляя шаг у ворот, и, если калитка была приотворена, успевал жадно схватить, словно сфотографировать, четвертьсекундный клочок этой жизни – вот парень возле полуразобранного мотоцикла… вот белобородый старик в чалме… радужный веер воды, выплескиваемой под деревья… бледное пламя под казаном…
Дубровин пересек небольшую открытую площадь между зданием милиции и детским садом, через минуту снова оказался на большой улице и пошел налево.
Сегодня он уже был здесь часов в шесть утра, и с тех пор народу сильно прибавилось – толпа сгустилась. Мужчины в халатах и тюбетейках толклись на тротуаре, стояли кучками, толкуя о чем-то, многие сидели, свесив ноги в сухой арык. Женщины в длинных бесформенных платьях, из-под которых выглядывали кончики шаровар, сбившись в группы человек по десять, сидели прямо на земле под деревьями. Дети жались к ним. Ворота хлебозавода, справа от которых народ стоял черной стеной, были наглухо закрыты. Слева, возле дверей проходной, маячил человек, в экипировке которого ничто, кроме автомата, не говорило о том, что он относится к вооруженным силам.
Дубровин постоял в некотором отдалении, присматриваясь. Дело было безнадежное. Он уж собрался было сесть, свесив ноги в арык, когда его окликнули.
– Эй! Слышите! Идите сюда!
Дубровин оглянулся. С этим мужиком в синей кепке они разговорились давеча утром. Теперь он грузно сидел на складной брезентовой табуреточке, опершись на палку.
– Ага, – сказал Дубровин, подходя. – Я вас не заметил.
– Это всегда так, – сказал тот, улыбаясь одной стороной лица. – Когда приходишь – никого не видишь. А тебя все видят. Нет, это я вам точно говорю…
– Ясно, – вздохнул Дубровин, присаживаясь рядом с ним на корточки. – Я тоже замечал… Ну что, идет дело-то?
– О-о-о-о! Иде-е-е-т! – с преувеличенной бодростью сказал мужик и тут же безнадежно махнул рукой, тем самым перечеркивая сказанное. – Как не идти! Пекут, должно быть! Если мука есть…
– Вообще не продавали? – спросил Дубровин.
– Не, не продавали, – вздохнул тот. – Зато раздали одну машину. Часов в двенадцать.
– Без денег, что ли? – не поверил Дубровин. – Почему?
– Хрен его знает! – Мужик полез в карман и вытащил мятую пачку «Памира»; покопавшись в ней неловкими пальцами, извлек-таки окурок. Потом, зажав палку между ног, долго сопел, чиркая спичками, тяжело дышал, налаживаясь прикурить, и вот, наконец, пустил клуб сизого дыма, на жаре казавшегося особенно едким. – Их ведь не разберешь! – сказал наконец он брюзгливо и сплюнул табачинку. – Это же мудрецы! Взяли вот машину хлеба раздали – и денег не спросили… Правда, орали чего-то – может, детям, что ли, я не понял… Я по-ихнему не понимаю. Ну а потом как навалились! – Он снова махнул рукой, глубоко затянулся и стал кашлять.
Дубровин ждал, насвистывая.
– Я так думаю, – сказал мужик, сопя. – Если бесплатно раздавать начали – совсем хреново дело. Это уж я знаю! Как до коммунизма доходит – пиши пропало! – Он снова попытался сплюнуть табачинку, потом снял ее с губы пальцами. – Голодом уморят! Нет, а вот скажите, – оживился вдруг он. – У них понятие очереди вообще есть? У таджиков-то? Вот мне кажется – нету!
За воротами хлебозавода послышался звук заводящейся машины, и тут же толпа, на мгновение оцепенев и напрягшись, словно препарированный мускул под действием тока, мощно качнулась к воротам и загудела. Дальние торопливо сходились. Женщины повскакивали, оглушительно галдя. Детей они тащили за руки.
Часовой, умиротворяюще подняв вверх левую ладонь, повторял какую-то отрывистую фразу, но за ревом Дубровин не мог разобрать слов.
Грузовик газанул и несколько раз стрельнул выхлопной трубой.
Ворота лязгнули и стали отъезжать в сторону.
Толпа завыла и поперла в пространство раскрывающихся ворот.
– Назад! – яростно орал теперь часовой, размахивая автоматом. – Назад, говорю! Только женщинам с детьми! Женщинам с детьми по вчерашнему списку!
– Говорит, женщинам только… – сказал Дубровин. – Список какой-то…
– А! Список! Знаю я эти списки! Они там понапишут! – мужик перехватил палку и гневно потряс ею в воздухе. – Хлеба давай!
У ворот кто-то дико завизжал – должно быть, придавили к железу. Между тем створка, напугавшись напора, уже торопливо ехала обратно – пусть рывками, но ворота поспешно закрывались, так и не выпустив машину с хлебом.
– А-а-а-а-а!.. – утробно прошло по толпе, и тогда еще наперли, отчаянно пробиваясь ближе к воротам. Женский визг захлебывался – казалось, там убивают, да не одну – нескольких.
– В бога-душу-мать! – переходя на русский, завопил часовой, оскалился, вскинул автомат (он сам был уже почти затерт, и только за спиной у него, между ним и дверью проходной, оставался метр пространства) и разорвал воздух дымной очередью.
– А-а-а-а-а!.. – люди шатнулись назад; задние бежали опрометью, согнувшись, закрывая голову руками; затертые у ворот бились, словно рыба в переполненной сети, в конце концов вырывались, падали на землю, в ужасе ползли, вскакивали; по кому-то бежали, через кого-то перепрыгивали. Спустя несколько секунд пространство у выезда опустело.
Часовой снова стал что-то выкрикивать, потрясая автоматом. Вопили в ответ, возмущенно размахивая руками, тряся сведенными в щепоть пальцами, показывая на испуганных плачущих детей.
– Вот орут-то, вот орут… – безрадостно сказал мужик. – Тут разве пробьешься!.. Тьфу! Знаете анекдот-то? Один пошел в булочную, ему ноги-то и отрезало трамваем… Ни фига себе, говорит, сходил за хлебушком!
Он безнадежно махнул рукой и полез в карман за сигаретами.
5
– О! Молодец! Хорошо, что зашел! Умница! Старика-то грех забывать! – толковал говорливый Васильич, запирая за ним дверь. – На лоджу, на лоджу сразу пошли… Сейчас чайку вздую… У нас ведь теперь как? Как в пещере! – Он захохотал, толкая его кулаком в спину. – Ни помыться, ни побриться! Чайку захочешь – давай костер разводи! Вот, видишь, приспособился!
В лоджии натурально был сложен из нескольких ломаных кирпичей небольшой очажок, на котором стоял смертельно грязный чайник.
– Эти-то курицы – видишь? – Васильич показал вниз, во двор. – Печки сложили, во дворе готовят… А я уж тут, по-стариковски… – Он хлопнул в ладони и потер ими с таким довольным видом, будто рассказывал о каких-то замечательных удобствах. – Молодчага, молодчага, что зашел!
– А я иду к подъезду – ну, думаю, не иначе как свадьба, – усмехнулся Дубровин. – Казаны на улице шкворчат. Ну, думаю, погуляем!..
– Как же! – Васильич помрачнел. – Свадьба! Черта на кривой козе женим. Ни света, ни газа вторую неделю!
Не переставая говорить, он кухонным ножом ловко нащепал от какой-то доски несколько палочек и развел под чайником небольшой огонь.
– В общем – пещера она и есть пещера! Сегодня хоть воду дали, а то два дня ни газа, ни света, ни попить, ни…
– Да что же ты молчишь! – закричал Дубровин, срывая рубашку. – Подожди!
Холодная вода текла жидкой мутной струйкой, и, чтобы набрать полные горсти, приходилось довольно долго ждать. Зато дождавшись, можно было вылить ее на голову или на спину, что Дубровин и делал, счастливо фыркая. Он намылил голову стиральным порошком из мятой коробки, смыл и через десять минут уже снова сидел в лоджии, вздыхая от удовольствия.
– Ну, молодчага! Чистый – просто сияешь! – сказал Васильич. – Знаешь что… – Он задумчиво потер себя ладонью по щеке, на которой курчавилась седая борода. – Сегодня сорок дней, как сосед мой один перекинулся… Есть у меня в заначке двадцать капель… Теплая только, наверное, зараза! Я ведь холодильник-то выключил, чтобы денег не платить… ну, теперь-то, впрочем, и света нет… – Он махнул рукой, ушел и вернулся с бутылкой, на дне которой действительно болталось граммов сто прозрачной влаги.
– Давай, – предложил Васильич, разлив водку по рюмкам. – На помин души Николая Ивановича, соседа моего… Прямо в сберкассе и сковырнулся… Сидел там, сидел… пенсии ждал – ну, ты знаешь… Как слух пройдет, что будут деньги давать, так неделю в кассу не ходи – не протолкнешься!.. Потом, конечно, помаленьку рассасывается… что там без толку сидеть. Вот, значит, я и говорю… Сидел, сидел… А потом трах – повалился, и готово. То ли сердце, то ли чего – неизвестно… Тут не до вскрытий! Только б закопать!
– Пойди еще закопай, – мрачно сказал Дубровин, в свою очередь занюхивая глоток противной горячей водки яблоком. – Три шкуры сдерут. А вот в России…
– Да ладно, что там в России! – отмахнулся Васильич. – Тоже мне – в России! Думаешь, там все кругом медом намазано? А уж похоронить!.. – он покачал головой.
– Нет, ну все-таки в России-то лучше, – не очень уверенно возразил Дубровин. – Не скажи, Васильич! По русскому-то обычаю…
– Ага, по русскому обычаю, – кивнул Васильич. – Знаю я, как там у них по русскому обычаю… Насмотрелся… Озверели – хуже наших…
– Не знаю, Васильич! – помолчав, сказал Дубровин. – Все равно! Если бы у меня была родная сестра под Воронежем, я бы уже сто раз уехал!..
– А! – тот резко отмахнулся. – Перестань ерунду говорить! Что же ты раньше не уехал? Тоже мне – уезжальщик!
– Я? – удивился Дубровин. – Уезжаю ведь! Все!
– Ну и дурак, что уезжаешь! – вспыхнул Васильич. – Все равно тебе нигде лучше не будет! Еще локти-то покусаешь!.. Не-е-е-ет, – он замотал головой. – Я не поеду! Черт с вами! Езжайте! А я – не-е-е-е-ет!
Дубровин вздохнул. Его не переупрямишь. Развелся с женой, расстался с дочерью на старости лет… Они уехали – а он остался, старый болван.
Васильич снял с огня закипевший чайник, вместо него положил на угли стальную пластинку, а поверх нее пристроил баклажан.
– Сейчас испечется, поедим, – сказал он, наливая Дубровину в чашку, где лежало несколько листьев мяты, кипяток. – Я приспособился… Напечешь их, посолишь… м-м-м!
Они помолчали.
– А то оставайся!.. – с тоской сказал Васильич. – Оставайся, правда! Ну ведь не все уезжают! Кольку Ямнинова знаешь? ну, неважно… так он вовсе наоборот – дом достраивает!.. Ты пойми! – Васильич коснулся пальцами его плеча. – Ты приедешь – там все чужое! Понимаешь? Ты ведь даже представить себе не можешь, насколько там все чужое! Воздух! Трава! Небо! Люди! Все!.. Пойми! Там у воды другой вкус, у земли другой запах! Ты там сойдешь с ума, вот что я тебе скажу… Я тебе точно говорю! Пойми, здесь все кругом – свое, родное!.. А там кем будешь?! Оставайся, пока не поздно!
– Что-то я не пойму, Васильич… – сдержанно сказал Дубровин, отстраняясь. – Толкую тебе, толкую… – Усмехнувшись, он потянулся к чашке, но вдруг побледнел и закричал, стуча кулаком по столу: – Ты смеешься, что ли! Я зачем, по-твоему, месяц на платформе торчу?! Из удовольствия?! Думаешь, я люблю на вокзалах сидеть?! Ты что! Ты хоть понимаешь, что все уже, все, все! – он перевел дыхание. – Все уже! Квартиру продал! Машину продал! Деньги отправил! С работы ушел! Барахло собрал! Все! Под корень!.. И он мне говорит – оставайся! Да ты сам сошел с ума! И вообще – при чем тут Ямнинов?!..
Задыхаясь, Дубровин замолчал, припал к чашке, обжегся, расплескал, невнятно выругался.
– Ну, извини, извини меня, дурака старого… – мягко сказал Васильич. Он отхлебнул чаю, почмокал губами, потом произнес задумчиво: – А квартира… что ж… можешь пока у меня жить, пожалуйста!..
Дубровин поперхнулся, вскочил, с грохотом отодвинув стул, и стал, от спешки ошибаясь петлями, застегивать рубашку.
6
Сухая жаркая ночь лежала над землей, залитой желтоватым светом большой пятнистой луны.
Дубровин не спал, а вместо того зачем-то вспоминал свою жизнь, и она лежала перед ним как на ладони.
Прошлое было открыто и понятно. А будущего почему-то не было – вместо живых картинок мечтаний перед глазами телепалась серая пелена, в которой ему, похоже, вовсе не было места. Он ворочался на тряпье, вздыхал, чертыхался, но спроецировать себя через пространство двух-трех недель, через пространство переезда никак не выходило – не воображалось это, хоть тресни, не мог он разглядеть там свою, пусть бы неясную, тень… И в какой-то момент ему стало страшно – да есть ли оно вообще, это будущее?
Он думал, думал, думал не только о себе, и в конце концов тихо сел и стал смотреть на серые тени вагонов, цистерн, телеграфных столбов и приземистых станционных строений.
Стояла сухая жара, но все равно он поежился, представив, что к декабрю похолодает и тогда без света, без газа, в нетопленых квартирах, превращенных в сырые черные норы… «Вот уж запоем!» – пробормотал он, осекся и поправился про себя на «запоете» с таким сожалением, словно было бы лучше и ему остаться тут горевать горе.
Ему вспомнилось утро, когда Вера вернулась с работы и он в первую секунду ее не узнал – в дверях, бессильно привалившись к косяку, стояла седая черная старуха с воспаленными слезящимися глазами. Немного придя в себя, она рассказала, что произошло ночью, и у Дубровина не было никаких причин ей не верить, но все равно в его сознание все сказанное ею ложилось каким-то неживым пунктиром: в родильное отделение ворвались вооруженные люди – – люди в масках – – человек шесть – – стали требовать спирт – – спирт!!! морфий!!! – – вонь, грязь, оружие – – и роды – – она-то ничего не слышит – – роды были тяжелые – – и вот наконец – – ребенок закричал – – закричал! – – один из них подошел и стал спрашивать, не кулябка ли родила? не памирка ли? – – все молчат в оторопи – – кто такая она?! кто?! – – все молчат – – роженица в полуобмороке – – тогда он схватил ребенка – – с размаху шваркнул головой об угол операционного стола – – бросил на пол – -… – -…
Дубровин зажмурился, закрыл лицо руками.
Оглушительным хором звенели сверчки.
– Не спишь? – спросил Муслим.
– Жарко, – хрипло сказал Дубровин, отнимая ладони от лица. – Прямо сил нет.
– Жарко, – вздохнул Муслим, сладко потягиваясь. – Сейчас бы в хауз – бултых! А? Сансаныч! А потом какую-нибудь такую молоденькую!..
Дубровин не ответил, и Муслим замолчал.
– Слушай, – через несколько минут сказал Дубровин. – А я вот, знаешь, что вдруг подумал – ну почему он отрекся?
– Кто? – удивился Муслим и тоже сел.
– Да президент же! – с досадой пояснил Дубровин. – Помнишь? Ну, в аэропорту-то его догнали? Когда он хотел в Ходжент улететь, чтобы там правительство организовывать! Помнишь?
– А, это… – без интереса сказал Муслим. – Помню…
– Зачем он отрекся? А? Вот никак не могу понять!.. Ведь последний шанс был у мужика, последний! Ну мог же он их послать куда подальше! Сказал бы себе – да, пускай, я говно, я поганец, я всю свою жизнь лез наверх по головам, я жрал, воровал, жировал, прикрываясь именем народа! Всю жизнь обманывал, изворачивался, греб к себе, топил других, шел на все, только бы хапнуть – и все со словами о народном благе на устах! – но теперь, у черты, я не сделаю ни шага назад! Вы заставляете меня отречься? Хрен вам, а не отречение! Меня выбрал народ, и только народ может мне дать по шапке! А пока он меня не сместил, я буду со своим народом! И хоть режьте меня на куски! Пулю хотите предложить? – приму и пулю! Петлю? – давайте петлю! Ему ведь все равно только два месяца жизни оставалось! Пожил уже, за шестьдесят мужику было, – какая, в сущности, разница – месяцем больше, месяцем меньше! Он бы героем стал! На него бы молились! Его именем детей бы называли, – помни, малыш, этот человек погиб, но не отрекся, остался со своим народом!.. А он что? а он подписал, что просили… предал… снова выжил… снова выкрутился… ведь какая смута началась после этого отречения!.. какая война, какая беда пришла!.. и все равно через пару месяцев от инфаркта… вот так, брат! Зачем?
– Жить-то хочется… – сказал Муслим. – Это легко сказать – пуля… А как пальнут в брюхо – так другое запоешь, пожалуй!
Невдалеке с грохотом раскатилась автоматная очередь. Вздрогнув и невольно пригнувшись, Дубровин напряженно всматривался поверх железного борта платформы в залитое золотистым лунным светом рябое, расчерченное тенями пространство, в котором три тусклых фонаря ближе к вокзалу выглядели желтыми кляксами. Громыхнула вторая очередь, потом полопались, словно пустые стеклянные банки, пистолетные выстрелы, и все затихло, только в соседнем кишлаке еще долго брехали встревоженные собаки.
– Где-то рядышком, – сказал Дубровин, переводя дыхание. – Не жалеют патронов, черти…
– У них патронов много, – ответил Муслим.
Они помолчали.
– Хоть бы уже пути починили, что ли… – без выражения сказал Муслим.
Он нашарил бутылку с водой и сделал несколько глотков.
– А почему ты уезжаешь, Муслим? – спросил Дубровин через минуту.
– А ты? – усмехнулся тот.
– Я-то здесь вообще чужой, – с некоторым усилием выговорил Дубровин, пожимая плечами. Он зажмурился, повторяя про себя это слово – чужой, чужой! – и оно оказалось бессмысленным набором звуков, потому что все вокруг противоречило ему: два поколения предков, лежащих в освещенной рыжей луной холмистой некруглой земле, горячее фиолетовое небо, на котором влажно поблескивали чистые звезды, запах прожаренной пыли и верблюжьей колючки, стрекотание сверчков, редкое взлаивание кишлачных собак…
– Чужой! – Муслим насмешливо фыркнул. – Какая разница! А я здесь свой? Кого они вообще своим считают? Слышал про такого человека – Сафои?
– Врач, что ли? – неуверенно спросил Дубровин.
– Ну да, хирург… Он мне два года назад почку оперировал. Никто не брался. А он сделал! Он ведь всем был нужен! Сколько народу спас!.. А потом знаешь, что с ним было? Однажды утром какие-то люди посадили в машину, отвезли за Испечак и расстреляли… Патроны! Патронов у них навалом!..
Дубровин покачал головой.
– Да, я слышал…
– А к нам на автобазу… я же рассказывал тебе… пришли люди с автоматами, говорят – соберите всех! Мы собрались… Старший показал автомат и говорит: вы знаете, что это такое? Мы говорим: знаем, уважаемый! Он говорит: хорошо! Тогда давайте без неприятностей! Вы тут бездельничали, а мы воевали за правду. Теперь пишите заявления, собирайтесь, уходите подобру-поздорову, и больше сюда приходить не надо – на ваших местах будут работать другие люди! Им ваша работа нужнее!.. А ты говоришь – почему я уезжаю!.. Ведь семьями люди пропадают! Вечером соседи смотрят – есть, живут люди… а утром приходят – никого нет… а если есть – мертвые! Что же, сидеть тут, ждать, когда и за тобой явятся? Сначала работу отняли, потом скажут – иди сюда, нам мало твоей работы, теперь нам нужна твоя жизнь!.. Нет уж!.. Брат-то мой давно уехал… еще при Брежневе… уже дом давно построил… Калининская область – знаешь?
Дубровин кивнул. Во рту у него было горько и сухо.
– Ну, вот… Я же инженер! Я и шофером могу, и механиком… Могу на тракторе – пожалуйста!
Он помолчал, потом сказал со вздохом:
– Свой, чужой… Тут, знаешь, как в той поговорке… – он пошевелил пальцами. – Ну, помнишь, ты говорил? Как это?
– Бей своих, чтоб чужие боялись… – сказал Дубровин.
– Вот-вот, – обрадовался Муслим. – Именно своих… чтоб чужие…
Луна постепенно забиралась выше и уже не была такой большой и желтой – светлела, серебрилась.
– Ладно… – хмуро сказал Дубровин. – Попробовать вздремнуть, что ли…
7
Он уснул, и ему стало сниться почти то же самое, что было на самом деле, – будто он сидит на платформе, но ждет не отправления, а, наоборот, прибытия поезда, которым сегодня должны вернуться жена и сын. И будто бы он жадно смотрит, приложив руку ко лбу, туда, где мерцает марево жары, и видит, как из расплава степи постепенно возникает, как будто кристаллизуясь, долгожданный поезд. Слезы щекочут ему горло; он понимает, что теперь все будет хорошо – все наладится, все станет на свои места… Он видит смеющееся, счастливое Верино лицо… все вокруг шумят, машут платками… а Сашок кричит почему-то не «папа!», а «Сансаныч!»…







