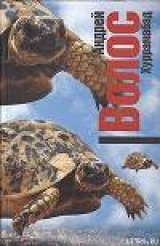
Текст книги "Хуррамабад"
Автор книги: Андрей Волос
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
– В Воссию? – испугался садовник. – Ц-ц-ц-ц-ц!
– А что? Подумаешь… Ничего. Можно было бы к брату, конечно… Да они сами там воют – их мальчишек оппозиция забривает… У них в селе оппозиция стоит. Тоже хороши… Слышал, какая штука недавно была? Пригнали два грузовика с той стороны. Через все посты… понял?
– С какой стовоны?
– Ну, со стороны оппозиции же! Понимаешь? Прямо через все посты. А что им посты? У кого деньги есть, тому посты не помеха. Дал кому надо – и пропустят за милую душу.
– Жачем? – спросил Рахматулло.
– Как зачем! Им же тоже солдаты нужны. По кишлакам много не наскребешь… А здесь раздолье – вон сколько парней по улицам шатается. Бери не хочу. Говорят, нахватали, сколько могли. Без разбору. Есть паспорт, нет паспорта, тот возраст, не тот, – полезай в кузов, и дело с концом. Понял? И обратно уехали. Вот так. Правительство не поймало – эти подоспели. А какая разница? Пулю-то получать все равно где – что в правительственных войсках, что в оппозиции…
Сморщившись, Рахматулло длинным зеленым плевком избавился наконец от зеленой гущи насвоя и пошел к водопроводному крану. Прополоскав рот, сказал, наслаждаясь свободой произнесения звуков:
– Нет, я своего младшего из дома не выпускаю. Сидит как пришитый. Повестку приносят, мать говорит – к тетке уехал. Три раза приходили. Что дальше будет? Не дай бог, обыщут.
– А, ничего хорошего не будет… – вздохнул Хуршед. – Ладно, надо ему свежий чай заварить. Утром-то… слышал? – спросил он, понижая голос до шепота. – Молоко я, видишь ли, ему перегрел… обжегся. С градусником мне молоко греть, что ли? Ладно, иди, постой рядом, чтоб хоть чай хорошо заварился. У тебя рука легкая.
– У меня правда легкая рука, – горделиво согласился Рахматулло. – Я же тебе рассказывал. Я даже на базаре денег почти никогда не плачу. Зачем? Меня там знают. Я говорю: брат, давай я рядом с тобой посижу, у тебя все быстро-быстро купят, а ты за это мне немного своего товару дашь. Ну, лука там… или моркови… или вот есть еще такой Мирзо-татарин, он зеленью торгует. Ну и вот. С базара иду – с полной сумкой, а ни за что не платил…
– В общем, побираешься, – уточнил Хуршед.
– Почему – побираюсь? – удивился Рахматулло. – Мне за легкую руку дают. Сам же говоришь: пойди рядом постой… я же не сам к тебе прихожу: ты меня зовешь. Это разве – побираться?
– Нет, все равно не честно. Честно, когда своими руками. Заработал – твое.
– Э-э-э, честно! Что такое честно, скажи мне? Торговать – честно? Или сыновьями нашими командовать, если их, не дай бог, в армию загребут, – честно? Не скажи, не скажи, Хуршедик… Тут даже ангел не может честным быть.
– Ангел! – фыркнул Хуршед, выплескивая горячую воду, которой ополаскивал чайник. – При чем тут ангел?
– А ты про Харута и Марута слышал? Вот видишь… Короче, однажды люди взмолились: Боже, говорят, Ты смотришь с неба, как мы живем на земле в нечестии и пороке, но сам-то Ты не спускаешься на землю и не знаешь, что невозможно здесь остаться чистым! Ну, Господь и послал трех своих лучших ангелов проверить, так ли тяжело на земле удержаться от соблазнов. Первый только ступил, только два шага сделал, только оглянулся – и тут же сказал Аллаху, что не выдержит испытания. Попросился назад. А два других – Харут и Марут – остались. Ну и вот… Тут же им повстречалась одна разбитная бабенка. То-се, пятое-десятое – в общем, так они с ней загуляли, что спьяну даже выболтали заветное Божье слово, с помощью которого можно было попасть на небо. Вот так… Ну, ей-то чего? Она их тут же кинула, сказала заветное слово, взлетела на небо и стала звездой. А Господь как увидел своих порученцев – грязных, пьяных, заблеванных, обманутых обманщиков, падших ангелов своих, – тут же велел заковать и подвесить на цепях вниз головой до скончания времен… Так и висят с тех пор… кто знает ту пещеру, приходит к ним колдовству учиться. Это мне дедушка Назри рассказывал. А ты говоришь – ангел.
– Это ты говоришь – ангел, – возразил Хуршед. – Сказочки мне плетешь.
Он щелкнул крышкой жестяной банки.
– Ц-ц-ц-ц, – восхитился Рахматулло. – Смотри-ка ты, какой все-таки крупный чай хозяин пьет!
– Да уж: китайский, английского развесу, – пояснил Хуршед. – Тот еще чаек. Мы с тобой такого не купим.
– А зачем покупать, он мне и так предлагал, – безразлично пожал плечами садовник. – Да я отказался, – когда мне с ним чай распивать, дел полно… И с тобой вот засиделся. Ладно, пойду.
– Давай, давай… И впрямь, чем языком-то чесать. Не знаешь, Ориф приедет сегодня?
– Кто его знает… наверное.
– Наверное! Ничего не наверное… На прошлой неделе не приезжал. И в позапрошлую пятницу не было. То-то и оно… Музафара нет. А у него я боюсь спрашивать, – Хуршед кивнул в сторону виноградника. – Как глянет – у меня кровь останавливается. Ладно, буду на двоих готовить…
Хуршед постелил на поднос полотенце, поставил чайник, свежую пиалу и блюдечко с изюмом. Внимательно оглядел. На всякий случай несколько раз дунул, устраняя невидимые мусоринки. Потер ладони, как будто мерзли. Потом воздел поднос на растопыренные пальцы правой руки, немного согнул свой полный стан и пошел по дорожке к виноградному навесу, аккуратно виляя широким задом. Чем ближе подходил, тем меньше ростом становился.
– Пожалуйста, хозяин, – сказал он, останавливаясь в нескольких шагах от топчана и кланяясь. – Свежий чай. Позволите?
Карим вздрогнул.
– А-а-а… Спасибо. Поставь.
Протянул руку к телефону, потыркал клавиши. Заранее хмурясь, дождался ответа.
– Убайдулла? Здравствуй, дорогой. Хорошо, хорошо, благодарю… Сам как?.. Ну-ну… Почему вчера в мачлисе не был? Что за болезни еще? Смотри, Убайдулла, душа моя, я могу рассердиться… тогда твое здоровье и вовсе пошатнется. Ты что, урод, придуриваться решил?.. Ты должен сидеть там как пришитый!.. Я зачем тебя в депутаты сунул? Чтобы по ресторанам мандатом махать?! Твое дело выступать, ты понял? Ты должен маячить! Чтобы люди видели, чтобы знали, кто борется за их благо!.. Я плачу деньги не за то, чтобы ты прохлаждался по бардакам… Ладно, верю, верю, успокойся… Второе: ты нашел Муслима?
Некоторое время слушал сбивчивый рассказ о трудностях дела.
Тяжело вздохул.
– Я понял тебя. Слушай, Убайдулла, дорогой… Ты, наверное, никак не разберешься, что к чему. Хорошо, я объясню снова. Если Муслима первым найдет Яздон-разумник, он его как пить дать пришьет. Следовательно, плакали мои четыреста тысяч. Ты понимаешь, душа моя? – четыреста тысяч! Я стрелки на тебя переведу, Убайдулла. А ты со всеми своими пропитыми потрохами, – брезгливо щурясь, сказал Карим, – не стоишь и половины этой суммы! Не боишься? Ведь долг есть долг, Убайдулла. Хорошо, если есть чем отдавать. А если нету?.. Говорят, у тебя дочери красавицы. Это тоже капитал, Убайдулла, кто спорит. Ты на него рассчитываешь? Его будешь в дело пускать… а?
Он сухо рассмеялся и замолчал. Убайдулла нашелся-таки, ответил шуткой.
– Ладно, ладно… действуй.
Показалось, что даже по телефону можно было почувствовать горячую волну от вскипевшего мозга Убайдуллы, услышавшего ленивое предположение Карима… Нашелся… отшутился… молодец. Ничего, ничего. Пусть ненавидит. Это нормально. Но пусть, ненавидя, боится. Главное, чтобы страх был больше ненависти. Тогда, милый мой друг Убайдулла, даже исходя черной ненавистью, ты будешь лепетать вежливые слова… Будешь находить новые шутки. Это хорошо. Веселая вежливая речь нежит слух.
Он-то знал, что такое ненависть… Любовь? Любовь тоже знал. Мать, когда он был маленьким… Еще, пожалуй, та женщина, которая… она тоже его любила… господи, да как же ее звали? Дильбар, вот. Да, Дильбар. Ему пришлось от нее отказаться, но… А главное – Ориф. Сын. Да, он знал ненависть. Но знал и любовь. Только никогда не думал, что придется взвешивать их на одних весах…
Если бы с Халилом не случилось этого несчастья… В свое время Карим не раз пытался приблизить к себе брата: забрать из кишлака, устроить возле себя, под боком. С тех самых пор, как к нему перешло дело Ислома (старик скоропостижно скончался лет через пять после того, как Карим Бухоро начал на него работать), он нуждался в близком человеке. Ему нужен был верный человек – верный до конца, до последнего предела, за которым уже только смерть и небытие. Таким человеком мог быть только брат, и глуп тот, кто поверит кому-нибудь другому. Карим не собирался брать никого со стороны, как сделал в свое время Ислом, приблизив его, введя в тонкости дела и передав бесценные связи и ниточки, записанные в заветной тетрадке. Правильно говорил Ислом-паук – десять дураков все равно глупее одного умного человека. Карим не хотел повторять его ошибок.
Предлагая Халилу другую жизнь, Карим отчетливо понимал, что Халил к этой жизни не готов. При всей любви к брату – любви немного испуганной, боязливой: должно быть, не мог он забыть судьбу своей первой жены, – при всей готовности помочь, Халил оставался все тем же самым колхозным трактористом: жил как колхозный тракторист, мечтал о вещах, интересных только колхозному трактористу, – и выбить из него этого колхозного тракториста Кариму не представлялось возможным…
Он и погиб по-дурацки.
Спешил домой из соседнего кишлака. Хлестал ливень, ватное небо ползло на скалы. Безобидный прежде ручей превратился в нешуточный поток – ревел, катил валуны, тащил вырванные кусты, хлеща ветвями по камням. В горах человек должен быть готов ко всяким неожиданностям. Наверное, Халил решил, что он готов. Халил не стал дожидаться, пока ручей успокоится и войдет в прежнее русло. Должно быть, потом он пытался спасти застрявший в потоке грязи и камней трактор, будь он трижды проклят… Следующей волной селя машину перевернуло и поволокло вниз. Халил смог выбраться из кабины. А может быть, его выбросило одним из ударов… Избитое камнями, изуродованное тело обнаружили через день далеко внизу, при впадении ручья в Варздарью. Если бы у селя хватило сил протащить его еще несколько сотен метров, уже никто и никогда не нашел бы Халила. Река, грохочущая в тесных скалах, полная, словно гюрза, злой весенней силы, в крошку размалывает камень, а не то что человеческую плоть…
Он помнил, как ехал в Кухинур на сороковины. Дорога серой лентой набегала под колеса. Вот и нет Халила. Нет брата… Потом стал думать о себе. Похоже, у него, как у покойного Ислома, тоже не будет детей. Зато вот у Халила четыре дочери и сын, потому что он был беден и ничем не управлял. Власть и богатство не оставляют времени для семьи. Разумеется, женщина способна найти щелку в самой прочной броне: сначала пролезть тишком, по-кошачьи, а потом упрямо отжимать себе все больше и больше места. Он тоже однажды собрался было жениться. Ах, Дильбар, Дильбар… Нет, не ошибка… Был уже к тому времени достаточно умудрен. Своими руками рушить собственную же неуязвимость? – это неправильно. Зажал сердце в кулак… вырвал с корнем. Чтобы замять скандал, снабдил избранницу соответствующей суммой отступного. И выпроводил к родителям. С тех пор предпочитал содержать двух-трех некрасивых женщин, которых посещал по очереди…
Они свернули с трассы и через час подъезжали к месту по разбитой каменистой дороге.
День клонился к вечеру. Недавние бури миновали, небо светилось яркой синевой, и заснеженные пики хребта Сангикабуд празднично сияли над прилепившимся к западному склону кишлаком – молчаливым, примятым случившимся несчастьем.
К дому Халила тянулись старики. Поначалу вечером каждого дня, а потом два раза в неделю их ждет поминальный плов.
Гафур раскрыл багажник, вынул по очереди две завернутые в мешковину бараньи туши, отнес в дом. Вернулся за рисом.
– Тяжело, – говорил Карим, обнимая плачущую невестку, – ой как тяжело, Хафиза! Что делать будем, Хафиза!..
Когда старики разошлись, за окном мехмонхоны уже висели вязкие синие сумерки. Они наконец-то сидели за дастарханом втроем – ставшая за эти дни темнолицей старухой Хафиза, молчаливый Ориф, не отрывающий взгляда от дяди, и сам Карим Бухоро – плотный коренастый человек с широкими волосатыми кистями рук и плоскими ногтями, властное лицо которого производило впечатление тяжелой силы.
– Что за история с этим учителем? – негромко спросил Карим, наминая пальцами горку остывшего плова. – Почему меня позоришь?
Теперь он молча жевал, холодно глядя на племянника.
– Он сам виноват, дядя Карим, – буркнул Ориф, поднял было глаза, но тут же потупился. – Я же знаю, что отвечал на пятерку… А он меня перед всем классом начал стыдить – мол, ты не выучил… И поставил три… разве я виноват?
– Ну, – поторопил Карим.
– Ну, а потом я дождался, когда он выходил из школы…
– Ну!
– Он выходил из школы… а я подошел и говорю: муаллим!..
– И что?
– Говорю: чего тебе надо, муаллим? Чего ты хочешь, муаллим? Зачем поставил мне тройку, когда я знаю на пять? А?! – Ориф все же поднял глаза, сощуренные гневом воспоминания. – А потом он пришел и стал скандалить… говорит, я его избил. Дядя, я его не избивал. Я только ударил два раза, как вы учили – один раз с левой под дых, а второй – правой в челюсть… Он же сам виноват!
Карим молчал, размышляя.
– Понятно, – вздохнул он. – А скажи-ка, Ориф, почему мне говорят, будто тебя часто видят с этой девочкой, как ее…
– Сабзина… – проговорил Ориф, пунцовея.
– Вот-вот, Сабзина… Я слушаю тебя.
– Мы решили пожениться… – прошептал Ориф. – Я и отцу сказал… он обещал поговорить с ее родителями. Он сказал: ничего страшного, сынок, я тоже женился в семнадцать лет!
– Вот как, – протянул Карим. – Понятно. И что же? Женишься, что потом будешь делать? Ты ее, по крайней мере, не трогал?
– Что вы, дядя!
– Хорошо, хорошо… Так что потом?
– Не знаю… – Ориф пожал плечами. – Можно много что делать…
– Например, работать трактористом, – предположил Карим.
– Например… – согласился мальчик, не уловив издевки в словах дяди. – Или вот еще в техникум…
Они помолчали.
– Ориф, – негромко сказал Карим, одновременно дожевывая кусок жилистой баранины. – Будь добр, отложи немного плова в тарелку, отнеси Гафуру, пусть поест.
– Может быть, сюда позвать? Неудобно как-то… – робко спросила Хафиза.
– Нечего ему здесь делать, – ответил Карим.
Когда Ориф вышел, он вытер руки о дастархан и сказал:
– Вот что, сестра… Орифа возьму с собой. Он мне нужен.
– Что вы, Карим-ака! – прошептала она. – Как можно! С кем я останусь!
– Э, много не говори! – грубо оборвал он. – У тебя дочери! Парень тут пропадет, не понимаешь? Что ему в кишлаке киснуть?
Хафиза, не поднимая глаз, перебирала пальцами краешек скатерти.
– Буду помогать тебе, – отрывисто продолжил Карим. – Недостатка ни в чем не будет. Не переживай, сделаю из него человека, через десяток лет сама к нему приедешь. Договорились?
Хафиза кивнула, вытирая слезы.
За окном совсем стемнело. Звезды мерцали, словно подмигивая друг другу.
3
Кто знает, может быть, в этом и была ошибка. Может быть, если бы Карим не забрал его от матери, то… Что тогда? Он бы вырос в родных горах, стал трактористом, как отец… женился на своей Сабзине… она родила бы ему детей… что в этом плохого? Конечно, он никогда не смог бы, как не смог его отец, войти с Каримом Бухоро в партнерские отношения, не смог бы окунуться в тот океан страстей, который уготовил ему дядя… Ну и что? Может быть, и лучше? Может быть, именно потому, что Ориф взрослел рядом с ним, с человеком, слишком рано и слишком определенно познавшим простое устройство жизни, понявшим ее, как другие понимают разные ученые слова, – да, может быть, от этого и зачерствело его сердце.
Карим сощурился на солнце. Время текло медленно, очень медленно. Телефон молчал – значит, еще не поздно позвонить самому. Но стоит ли менять решения? Да и что потом? Что будет потом?..
А ведь как он был доволен, когда забрал Орифа к себе, чтобы воспитывать как сына… Поселил в своем доме, снабдил всем необходимым, нанял учителей. Вот, пожалуйста, на: живи, смотри, учись. Ему было приятно чувствовать, что здесь, рядом, в соседней комнате, находится близкая душа.
Люди к нему заходили часто. По своим делам, то есть тех, кому платил деньги и строго спрашивал, принимал в рабочей комнате. Она единственная в доме была обставлена по-европейски – старомодный и старый кожаный диван с деревянным резным верхом спинки и цилиндрическими валиками по бокам, письменный стол, секретер, три стула у стены. В середине лежал хороший туркменский ковер. Тут ему отчитывалась разного рода мелкая сошка из правлений колхозов, за небольшую мзду снабжавшая его всей необходимой информацией. Как правило, это были усатые, загорелые до черноты люди в серых френчах полувоенного кроя, в пыльных брезентовых сапогах, вытиравшие пот, струившийся из-под тюбетеек, большими красными платками. Робея и приниженно улыбаясь, они торопливо вынимали из карманов скомканные бумажки, на которых были записаны цифры планов, реальных площадей посевов, пересевов, количества техники, фактических показателей уборки, хлопкоочистки… Орифа Карим сажал рядом – пусть слушает взрослые разговоры, пусть вникает.
По другим – не денежным – делам Карим принимал во дворе. Ближе к вечеру к нему часто приходили за советом, за помощью. Заявлялись повздорившие с просьбой рассудить и решить спор, дожидались очереди пожаловаться на обидчика… По большей части это были совершенно незнакомые ему люди, обычно из далеких кишлаков, робко объяснявшие свой визит тем, что они слышали, будто такому-то и такому-то уважаемый Карим-ака помог в похожей ситуации. Карим Бухоро терпеливо вникал в чужие дела. «Чужие» – слово неточное, поскольку чужих дел для него не существовало: ведь всякое чужое дело при удобном случае может обернуться своим и принести пользу. Он раскидывал на пальцах, как разумнее поступить в том или ином случае, мог даже ссудить деньгами, если прозревал в будущем возможность использовать способности или связи должника. Жалобы слушал с плохо скрытым недовольством – считал, что, если человека обижают, он должен сам за себя постоять, а не жевать сопли. Впрочем, и тут иногда снисходил, обещал при случае замолвить словечко кому надо. Всякий пришедший навечно попадал в сеть его интереса. Проходило время – месяц или год, может быть даже несколько лет, – но когда-нибудь Карим-ака непременно вспоминал о каждом… Ориф сидел рядом на кате. Карим посматривал на племянника – не зевает ли? мотает ли на ус? Он показывал ему жизнь как она есть – настоящей, а не такой, какой существует в нетрезвых головах разнообразных глупцов. Мир полон людей, но кто из них разбирается в жизни? Кто из них знает, какова она на самом деле? Только тот, кто сидит выше, кому первому приносят баранью голову… а как иначе?
Через год отправил Орифа в Хуррамабад, в Высшее училище МВД. Тот долго сопротивлялся: как же, дядя, они вас двенадцать лет за решеткой мариновали, а теперь я к ним в компанию?! Не хочу! Карим спокойно объяснял: человеком всюду можно быть, а кроме того, сынок, говорю тебе честно, охранять все же лучше, чем быть охраняемым. Однако Ориф упирался до последнего. Карим даже подозревал, что он рассчитывает провалиться на экзаменах – только бы не учиться. Фокус не прошел: нашлось кому позаботиться, чтобы парень получал одни пятерки.
Когда зимой приехал на короткие каникулы, Карим обнял его, потом отстранил, разглядывая.
– Ну, совсем командиром стал… Парочки орденов не хватает. Ладно, пойдем, покажу кое-что.
Вывел племянника во двор, протянул ключи.
– Держи, твое.
Сдержанно улыбался, глядя, как ошеломленный счастьем Ориф недоверчиво обходит сияющую машину.
Между тем прошлое начинало стремительно и, похоже, безвозвратно разваливаться. Перемены принесли ощущение неустойчивости. Прежде довольно было договориться с секретарем обкома, чтобы девяносто процентов проблем ушли с горизонта. Теперь началась какая-то чехарда. Зачастили из России, из Москвы, бригады следователей. Стали трясти уважаемых людей. Только и слышно – приписки! приписки! приписки! Опомнились… Хлопковый бизнес не то что б совсем увял, но сильно похилился. С приезжими найти общий язык было невозможно: бригадами их присылали неспроста: чтобы прислеживали друг за другом. И в средствах они, поганцы, не стеснялись. Карим присматривался, на рожон не лез. Ему казалось, что нужно потихоньку менять направление деятельности. Совсем хлопок не бросать, конечно. Хлопок есть хлопок. Пока светит солнце и течет вода, его коробочки будут приносить свои барыши… Вообще-то, он мечтал о честном владении землей. Что в этом плохого? Люди на полях всегда работали за кусок хлеба. Они и будут работать за кусок хлеба, кому бы ни принадлежала земля – колхозу или Кариму Бухоро. Что такое колхоз? Это председатель, присматривающий человек. Ему только свой карман набить, дальше трава не расти…
Эх, Карим был бы хозяином!.. Все бы взял в свой кулак: своя земля – не чужая, за своей глаз да глаз!
За Орифом в Хуррамабаде приглядывали верные люди. Доносили: оперился, верховодит кулябцами, твердой рукой держит шишку, нагличает, сбивает своих в стаю, чтобы противостоять ленинабадцам и памирцам, сам же и участвует в коллективных драках; нашел себе дружка, зовут Зафар, зачем-то угнали машину (своей ему не хватает!), были пьяные, разбили; откупился деньгами, откуда деньги – неизвестно. Карим в глубине души посмеивался: как же, неизвестно! отлично все известно, он сам и дал… Потом история с этой девкой. Отец ее работал в ЦК и пер как сумасшедший – мол, пусть садится, и дело с концом! Едва замяли. Карим не верил ни в какое изнасилование… ну, подвыпили ребята, с кем не бывает… не надо было крутить хвостом… шлюха – она и есть шлюха, прости, господи!
Но все же несколько раз толковал с племянником. Ориф, не лезь на рожон. Ориф, будь осторожней. Ориф, жизнь сегодня не кончается, оставь что-нибудь на потом. Смотри сюда, Ориф. Например, есть такая-то проблема. Что бы ты предпринял на моем месте? И все? Понятно. А я – то-то, то-то, то-то и то-то. Вот что такое настоящая осторожность. Ты понял? Теперь вот что. Как ты знаешь, хлопок подвял. Поэтому мы начинаем совершенно новое дело. Оно опаснее прежнего. Смотри сюда: если оно опаснее вдвое, нужно быть осторожнее вчетверо. Если в десять – будем предусмотрительнее в сто. Ты понял меня? Ладно, иди… утром еще поговорим.
А дело пока прибирал к рукам. Оно интересовало его всегда, еще со времен зоны, где он брезгливо разглядывал конченых, готовых на все за щепотку анаши, за несколько порошинок маковой соломки. Уже тогда Карим, присматриваясь, сделал вывод, что не может быть ничего более выгодного и простого, чем брать деньги с человека, неспособного управлять собой. Конечно, смотреть на них одновременно противно и жалко – но люди сами выбирают свою судьбу…
Уже несколько лет тайно платил некоторым людям Фазлиддина, Салима Клоуна, Фархода Маленького и еще нескольких мелких торговцев. За это они исправно снабжали его кое-какими сведениями, благодаря чему Карим знал о делах их хозяев не меньше, чем сами хозяева. Наиболее крупным и удачливым дельцом был Фазлиддин, однако и его обороты являлись сущей мелочью в сравнении с тем предприятием, что задумывал Карим.
Когда Союз рухнул и республики принялись торопливо и неряшливо обзаводиться громоздкими причиндалами поддержания независимости – границами, таможнями, спецслужбами, – Карим понял, что пришло его время. Именно в этой неразберихе можно было сделать мощный рывок вперед и охватить новые территории, выйдя далеко за границы тех традиционных районов сбыта, где в советское время был налажен по мелочи более или менее надежный механизм распространения товара.
Однажды на исходе теплого апрельского дня стали съезжаться машины к воротам спортивной базы «Динамо» в нескольких километрах от города.
Никто не знал, по какому поводу именно его Карим-ака просил о встрече. Теперь, по мере того как прибывал народ, это понемногу становилось понятно. В конце концов в просторном помещении столовой собралось человек пятнадцать. Почти все были знакомы. Здоровались по большей части сквозь зубы. Сделать окончательный вывод не составляло труда: Карим Бухоро решил зачем-то собрать всех кулябских торговцев наркотиками.
– Карим-ака, а милиция на автобусе приедет? – спросил Салим Клоун, вечно косивший под дурачка, что не мешало ему при случае показать совсем не дурашливые клыки. – А то в воронок-то мы все не поместимся…
Его шутка имела успех – многие рассмеялись, напряжение спало.
– Тихо, тихо, – сказал Карим, поднимая руки.
Он сидел во главе большого стола, празднично застеленного красным сукном. На столе стояли тарелочки со сластями, лепешки, слоеные пирожки с медом и орехами, стопки чистых пиалок. Мальчишка в белом фартуке торопливо разносил чайники.
– Такие уважаемые люди обычно начинают застолье с коньяку, – улыбнулся Карим, – но сегодня мы начнем с чаю. Сначала поговорим на трезвую голову.
Кто-то неодобрительно хмыкнул.
Ему стоило большого труда улыбаться, произнося шутливым тоном шутливые, необязательные фразы, призванные лишь расположить присутствующих к доверительной беседе. Перед ним сидели, недоверчиво щурясь, не люди, а крысы – хищные, злобные существа, накачавшие нечеловечески упругие мускулы в бесконечных и безжалостных подземных побоищах. Каждый из них, минуту назад поклявшись в вечной дружбе, при удобном случае без раздумий вцепится в глотку, если поймет, что это выгоднее. Их нужно давить, давить как вшей! Не давать глотнуть воздуху! Только тогда будут послушны!.. Карим почувствовал, как что-то заклокотало под сердцем, – но сейчас он не мог позволить себе погрузиться в розовый туман ярости, в котором можно различить только силуэт врага, похожий на мишень.
– Повара уже стоят над казанами, не беспокойтесь… – добавил он.
– А в трубочку дуть не будем? – озабоченно спросил Салим Клоун. – А то я вчера выпил две кружки пива… может быть, я не гожусь сегодня?
Хмыкнув, Карим налил в пиалу чай из стоявшего возле него чайника, снял крышечку, вылил обратно в чайник, высоко поднимая пиалу. Повторил свои действия. И еще раз. Все выжидающе молчали.
– Давайте не будем говорить обиняками, по-таджикски. – негромко сказал он, закрывая чайник крышечкой. – Давайте говорить хоть и на родном языке, но прямо, по-русски. Ну-ка, Низом, скажи, ты сколько лет отсидел?
– Четыре года, – пожал плечами Низом Барышник. – А что?
– А ты, Фарход?
– Сколько ни отсидел, все мои, – буркнул Фарход. – Ну, шесть…
– А ты, Насрулло?
– Четыре… и год на химии…
– Вот, – сказал Карим. – Я могу задать этот вопрос любому, и никто не ответит мне, что обошел тюрьму стороной. И у каждого могу спросить, хорошо ли ему там было, и каждый скажет, что ему там было плохо. Верно говорю?
– Э, Карим-ака, бывает такая воля, что хуже тюрьмы! – горько пожаловался Салим Клоун. – Я иногда думаю: эх, чем тут в нищете биться, лучше бы уж на второй срок поскорее!
– Так и будет, уважаемый Салим, душа моя, – пообещал Карим. – Так и будет. Никому из вас не миновать второго срока, а кто уже отмотал, так и третьего… А знаете, почему?
– Уважаемый Карим Бухоро, – гулко сказал Фазлиддин. По-видимому, это мрачное предсказание возмутило его до самой глубины души, глубоко запрятанной в большое рыхлое тело. Он со скрежетом отодвинул стул, поднялся и навис над столом, уперевшись в него руками. – Карим-ака, может быть, вы и вправду являетесь представителем детской комнаты отделения милиции? Что за лекцию вы нам, малолетним преступникам, хотите прочитать? Мы вас уважаем, Карим-ака, но нельзя же отнимать у занятых людей столько времени!
Торговцы одобрительно зашумели.
Карим напрягся, но все же сладил с собой.
– Ладно, ладно, – примирительно сказал он, помолчав. – Сядьте, уважаемый Фазлиддин, прошу вас… Много времени я у вас не отниму, честное слово… Итак, все мы заняты одним делом и находимся примерно в одинаковом положении…
– Разве Карим-ака тоже занялся травяным бизнесом? – спросил Салим, наивно округляя глаза. – Тогда с вас, как с новичка, причитается…
– Я не новичок, – возразил Карим и продолжил, повышая голос: – Если хочешь, душа моя, я расскажу тебе, сколько килограммов конопли ты в этом году собрал, сколько сумел переправить, сколько – продать!.. сколько раздал взяток, сколько заплатил перевозчикам!.. Я не новичок, – он покачал головой. – Я знаю, что говорю: все мы заняты одним делом и находимся в одинаковом положении. Ты все остришь, Салим… Это хорошо. Лучше быть веселым, чем грустным. Но скажи: почему тебя – такого веселого парня – кинули на кичу, когда взяли в Хуррамабаде с пакетом маковой соломки?
– Кодекс такой, Карим-ака, – явно не напуганный его напором, пожал плечами Салим Клоун. – Закон есть закон, как говорится…
– Нет, дорогой, не поэтому… А потому, что за тебя некому было похлопотать. И не было денег, чтобы заплатить тем людям, которые управляют исполнением закона. Вот ты и оттрубил свое! И скажи еще спасибо, что здесь, а не в России… Короче, нужны деньги. Если мы сложим общак, тогда…
Фазлиддин захохотал – гулко, будто из бочки, – и вскинул ладони так, словно приглашал к своему веселью всех присутствующих, включая Карима.
– Я понял вас, уважаемый Карим! Я понял вас! – добродушно повторял он, цепляя лица настороженным взглядом заплывших глаз. – Вам деньги нужны! Вот в чем дело! Все понятно! Только зачем такой шум? Такие хлопоты? Да вы бы сказали сразу – мол, так и так, затруднения… не ссудите ли под приемлемый процент? Неужели бы никто из ваших друзей не откликнулся? – Он тяжело поднялся и махнул рукой. – Все, пошли! Нечего тут разговаривать! Слышите? Что расселись? Хотите, чтоб вас и дальше лечили?
Дельцы зашумели. Кое-кто загремел стульями, поднимаясь вслед за Фазлиддином.
– От меня так не уходят, Фазлиддин, – с облегчением высвобождающейся ярости сказал Карим. – Тебе лучше сесть.
– В следующий раз договорим, Карим-ака! – похохатывал тот. – Не последний раз видимся. Я сегодня все равно без копейки, так что о займе…
Карим вскочил и шагнул к нему в багровом от ненависти воздухе, – и, как всегда, через мгновение уже не смог бы объяснить, что именно сделал. Фазлиддин ухнул и с грохотом повалился на пол, ткнувшись напоследок лицом в ножку стола. Кто-то за его спиной кинулся к дверям.
– Стоять! – крикнул Карим, оборачиваясь. – На место!
С топотом влетел на шум Гафур Мясник – рука под полой пиджака. Оценив ситуацию, встал у притолоки, следя за сидящими.
– Спокойно, – сказал Карим. – Этого убрать. Очухается, скажи, что завтра его жду. Договорим… Садитесь, друзья, садитесь. Не будем обращать внимания на это недоразумение.
Сел сам, переводя взгляд с одного на другого: тяжело упирался в зрачки и ждал, когда они скользнут в сторону. Кто не уступит? Понятно… Никто.







