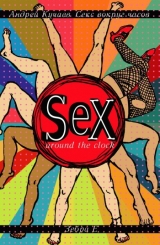
Текст книги "Sex Around The Clock. Секс вокруг часов"
Автор книги: Андрей Кучаев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
Сам этот необычный ребенок никогда не выражал никакого желания сыграть еще на чем-нибудь, – будь то губная гармошка, подаренная сестре другим дядей, со стороны отца, потомком южных славян. Оба брата – дядя Маэстро и его отец – были женаты на сестрах, тех самых несостоявшхся при новой власти барынях, предков которых вывезли после Франко-Прусской войны из распавшихся, некогда гордых Империй – Райха Бисмарка и Империи Габсбургов. В общем, у малыша кровей набиралось много, и все – не те с пролетарской точки зрения.
Сестра его получилась, напротив, самым «обычным ребенком», он ее по-своему любил. Во всяком случае, терпел и даже иной раз вступал с ней в потасовку. Представить его дерущимся или просто ругающимся с другими детьми, а позже – подростками, было невозможно. Вокруг него словно существовало поле, наткнувшись на которое, человек испытывает сначала недоумение, потом неловкость, а потом некую тяжесть, бремя, которое хочется скорее сбросить: лучше держаться на расстоянии, нейтрально.
Самые отпетые хулиганы, задев его, тут же вставали, как вкопанные, потом отступали на шаг, вглядывались и отходили, говоря другим: «С этим не стоит связываться… Все слышали? С этим – никаких!»
Он сам ничего не делал, чтоб выделяться, скорее, наоборот, он как-то неистово старался быть похожим на других: он говорил подчеркнуто просто, держался запросто, участвовал в спортивных играх всегда с блеском и умением, но от этого его неистового желания быть таким же, как все, всем и делалось неуютно, неловко, при чем почему-то неловко не за него, а за себя. Проще было как-то отделаться от этого странного подростка. Он, заметим, на всю жизнь сохранил любовь к спорту, но коллектив выталкивал его, и он легко соглашался на роль судьи, чтобы быть рядом с игрой.
Семья была с достатком, на всякий случай пригласили для сестры учителя музыки и французского, когда сестре стукнуло шесть, а ему – четыре с половиной. Он долгое время во всем подражал сестре, (а тогда еще принято было до шестилетнего почти возраста одевать детей – мальчиков и девочек – без разницы – одинаково, в длинные рубашки), и его не стали прогонять с занятий. Французский он незаметно выучил на слух, не затрудняя себя упражнениями, а на уроках музыки с неожиданным усердием списывал с образчиков ноты, как иные дети рисуют свои каляки-маляки, слушал игру учителя на старинном немецком фортепьяно, смотрел, как тычет пальцами в клавиши сестра, и улыбался, но сам по-прежнему не прикасался к инструменту. Никто не заметил, как он выучился читать…
После занятий учитель иногда играл для себя. Мальчик слушал и хмурил брови. Ночью мать застала его за чтением учебника по сольфеджио, – заметим, он только-только выучился читать! – так что наутро состоялся разговор.
– Тебя что, все это серьезно интересует?
– Наверное. Наверное, интересует. Даже очень интересует. – На этот раз мальчик вдруг оказался непривычно разговорчивым.
– В таком случае придется отвести тебя в музыкальную школу, пусть они определят, есть ли у тебя способности. Чтобы не швырять деньги на ветер. И время.
– А учитель? Что говорит учитель? Ведь учитель что-то говорит? – мальчик смотрел на мать и краснел отчего-то. – Я пел ноты. Он играл их, а я пел. Он ничего не говорит?
– Учитель готов заниматься с вами двоими, но за двойную плату. Мы не такие богатые. Пусть установят, есть ли смысл. Какому учителю не нужны деньги? Он-то был бы, конечно, рад.
Когда пришли в музыкальную школу, чтоб показать мальчика, он потребовал, чтобы никто из близких не присутствовал при испытании.
– Нет, пожалуйста, не надо. Не надо, пожалуйста. Вы мне помешаете. Очень сильно мне помешаете. Я тогда провалюсь. Провалюсь тогда. Пожалуйста, не ходите со мной. Подождите в коридоре.
Минут через пятнадцать мальчик вышел. За ним шел преподаватель, к которому допустили его для испытания через влиятельное знакомство с большими хлопотами – педагог был знаменит. Опытный наставник, хороший когда-то музыкант, чья карьера съехала из-за травмы руки, полученной при игре в лаун-теннис, который он не хотел бросать, вопреки советам. «Нехорошо иметь много талантов», – сказал тогда его профессор ядовито. Он делал на воспитанника ставку, а теннис считал варварством, если ты исполнитель. Тем не менее, бывший воспитанник прославился как педагог сам, вопреки. Сейчас педагог был серьезен.
– Ваш мальчик? – спросил он мать.
– Да. А в чем дело? Не подходит? Я так и думала, он очень серьезен для музыки.
– Я готов сам с ним заниматься…
– Ну, что вы! Боюсь, для вас это будет очень обременительно. Потом – так ли необходимо? Да и потом еще – деньги…
– Необходимо. Я не буду брать с вас денег.
– Ты слышал? – спросила мать. – Ты будешь стараться?
– Да, мама, – сказал мальчик серьезно.
Он уже в этом возрасте иной раз отвечал с таким видом и таким тоном, что у родителей кровь стыла в жилах: смесь трагической серьезности и глубочайшей издевательской иронии. Он был пылким, но не был нежным сыном.
Нам трудно восстановить последовательность событий, но отчетливо прозвучал выстрел. У самого виска. Запомним этот момент!
* * *
Ударил в этот момент колокол. Как на ипподроме. И вся жизнь выстелилась перед будущим композитором: вместо славы и триумфов – потери, потери, потери – на пути к главному испытанию – расставанию с музыкой навсегда. Вот что ждало его впереди.
Молчание. Великое молчание, которое и есть Главная Музыка. И смерть. Он знал, что на том свете есть только такая музыка. Он и дальше всегда все ясно видел и все принимал… Смерти нет, есть Музыка, которая создается вопреки суетной, «неглавной» сиюминутности, называемой жизнью.
Он принимал крест на плечи без восторга, но и без жалоб. Потому что этот крест и был для него его тайным, мучительным, единственным счастьем. Кроме…
Вот об этом «кроме» наш рассказ: о любви. И о «сексе». Чувственной стороне любви.
И еще – об изнанке «секса».
Поначалу он перепутал направление вектора любви. Он считал любовь однородной и слепой. Главное, ее нужно было обязательно к кому-нибудь испытывать – сердце, не наполненное любовью, пусто, напрасно бьется. Музыка начинала чахнуть в нем без любви. То есть он допускал музыку, рожденную одиночеством, но это одиночество должно было быть разлукой. Надо потерять любовь, жестоко и безвозвратно, тогда придет боль, окрашенная памятью о любви. Он торопился и попытался влюбиться в сестру. Но сестра оказалась слишком близкой, в ней не было чуждости, точнее – «чужести». Как в вещах, которые они носили до поры одинаковые, так что менялись или путали и ругались из-за них – в них не было тайны «разности». «Разность», «чужесть» – это и есть главный, роковой признак пола.
Вот если бы расстаться с сестрой и встретить ее взрослой и печальной! Такую бы ее он любил. А к вещам прикасался бы благоговейно.
Надо сказать, нежность неразделенной любви сохранил он к сестре на всю жизнь. Это помогло ему потом, и не раз: во льду одиночества она всегда вытаивала для него лунку. Он тянулся к ее красоте, хотел видеть в ней собирательный образ женщины. Но всегда его ждало «очаровательное разочарование»! Слишком она была родной, своей, продолжением его. А к себе он относился суховато. Трезво. Можно предположить, что люди незаурядные, большие (не хочется часто произносить эпитет «великие») относятся к себе так, словно боятся тратить на себя драгоценный жар сердца, назначение которого – любовь: к Богу или Природе. Небесам. Художник бережет и любит краски и кисть, но понимает, что они – только средства, материя, вещи… Мертвые вещи. Жив лишь художник и та его часть, что он вложил в творение. Недосуг относиться к себе – кисти – с повышенным вниманием. Вот откуда порывистость Маэстро, доходящая до абсурда: он не замечал, что ест, минуты лишней не сидел за столом, в гамаке, без дела. Карты, игры, зевающий без дела меланхолик – нет ничего дальше от образа Маэстро. Нет ничего немыслимей. Несоединимые вещи: вялая праздность, азарт служения пустому – и напряженный, всегда отданный внутренней работе, сухой и порывастый Жданович. Если он следил за чем-то обыденным, то с тем же пылом превращал это суетное занятие в серьезный долг, выполняемый в паузе, потому что пауза в жизни и в музыке – часть Звука, Звучания, Музыки и требует всей серьезности отношения. Также относился к отдыху, лечению, забавам-скерцо!
Какие-то хрустальные отзвуки подобного чувства он испытал к Герде, вообразив себя Каем. «Снежная Королева» – так он назвал несколько криво исписанных страниц нотными знаками. Но запись показала, что горяча и удачна только тема самой Снежной Королевы. Он ночами долго лежал с этой музыкальной фразой из четырех нот: фа, соль, ми, до, заставляя ее звучать, эту фразу, украшая ее вариациями, пока не засыпал. Никаких иллюстраций к детским книжкам, никаких «сю-сю», вроде «Пети и волка» он не признавал и позже. Он использует найденную музыкальную фразу в опере о вероломной женщине, погубившей и себя, и любовника. Натолкнула на «роковой» сюжет, (вообще-то ему противно было все ходульно-роковое), новелла-сказка: возлюбленная требует от влюбленного юноши сердце его матери для своего пса. Он несет его, вырвав из материнской груди, роняет, спотыкается об него, падает и слышит голос матери: «Тебе не больно, дитя мое?» Известный сюжет. Не очень и детский – он стал быстро отбрасывать детские книжки. С тех пор, кстати сказать, он ненавидел собак, они отвечали ему взаимностью…
Он позже все-таки написал оперу, изменив слегка фабулу – заменил сердце матери на сердце сестры и назвал опус – «Собачье сердце». Но дело испортило одно сочинение популярного автора, нашумевшее и наделавшее скандал, он отказался от авторства, хотя музыка какое-то время звучала там-сям, растащенная плагиаторами или невольными подражателями. Слава досталась другим, ему было неинтересно. Да и сюжет показался излишне мелодраматическим. Как у Лескова. Хотя по лесковской новелле сделана была другая опера, молодым Ш., снискавшим и хвалу и хулу за знаменитое сочинение.
В общем, он разорвал свое сочинение. Память у него была хорошая, запись с нотами он разорвал без раздумий, боясь, что ее обнаружат и будут за спиной насмехаться. Да, видно, черновики какие-то случайно остались; дети, кстати, не сберегли его «бумажный мусор», быстро ставший бесценным.
Раз-другой он играл темы арий из своей оперы коллегам-музыкантам – все они были всегда значительными, а впоследствии выдающимися людьми – не исключено, что кому-то иная тема и запала в душу. Такое в музыкальном мире – рядовая вещь, мир полон звучания – раз разбуженное одним гением, гармоническое созвучие долго бродит многократным эхом среди людей. Иногда – века. Имеющий уши да слышит.
Тут ведь и такая опасность: заимствованная у пространства мелодия может навлечь на голову услыхавшего ее муки и испытания, адресованные другому.
Его оперу, чтобы, возможно, даже помочь композитору, один хороший режиссер использовал для придворного концерта-представления. Вошедший к этому времени в грозную силу Вождь, дремавший на концерте, в этом месте проснулся и вопросил: «А это что за Собачий вальс „профундо“?» Когда ему сказали, чья музыка использовалась, он буркнул: «Надеюсь, ему не платят денег за этот сумбур?» И композитор, сам того не зная, попал в долговременную опалу.
Хотя, конечно, он допустил, что был услышан со своей музыкой.
Он же сам считал, что язык музыки настолько ясен, выпукл, даже кричащ, что его и другие могут услышать, едва взглянув на запись. Могут услышать сквозь бумагу, потому что бумага с нотами звучит сама по себе, как звучит каждая вещь в пространстве, само пространство, вызванное к звучанию Размышлением и Волей. Поиском. Возбуждением и Посягательством. На извлечение из него сиюминутного настроения, потом – смысла. Так за закрывшейся после ухода матери дверью образуется лакуна, которая оформляется в рыдание ее ребенка.
Вселенная звала его.
Зов шел отовсюду, никаких космических тайн – не зов, а призыв.
Он не формулировал подобные призывы, как мы это делаем, он действовал, как слышащий. Чувствовал и жил. Не теряя связи с единственным своим на то время музыкальным «инструментом», который состоял из темной стороны души внутри и раковины мира снаружи. Конечно, мы сами далеки от такого простого чувства гармонического восприятия всего в мире через мелодический, богатый и теплый мгновенный отклик. А именно таков был его знаменитый «абсолютный слух». Посылал ли он какой-то «запрос»? Этим запросом был он сам, его взыскующая душа. Иногда отклик был совсем не теплый, не очень богатый, но всегда мгновенный.
Однажды у него заболело ухо. Он пошел к врачу, никогда с этим не тянул. От второстепенного надо избавляться, пока оно – второстепенное. А то станет роковым. Он был трезвый человек.
Врач осмотрел его ухо, потом попросил раздеться.
– Вы что, думаете, у меня и на животе уши?
– Да. Думаю, – сказал без улыбки врач.
– Нет у меня там никаких ушей! Честное слово!
Тем не менее композитор разделся, врач долго его выслушивал и выщупывал.
– Поразительно, – сказал доктор. – Такой диафрагмы я еще не видел! Какая-то мембрана! Лежит прямо на всех ваших, извините, источниках гормонов и прочего!
– Это очень опасно? Что надо делать? Что вы рекомендуете?
– Ничего. Капли в ухо три раза в день. А ваш слуховой аппарат не в ушах, а в животе и чуть ниже… Поразительно!
«Так что слушай брюхом, а не ухом! – засмеялся потом гений, идя по улице, чем удивил пешехода. – Выходит, душа тут не при чем. Я слышу то, что слышат такие же, у кого есть мембрана, остальное – от лукавого: мозги и вся эта „литература"! Выходит, надо слушать, как велел врач! Как я всегда и слушал!»
Но впечатление, что он не такой, как все, осталось в глубине. Мы говорим – «Гений», а он сказал себе: «Я-то как раз нормальный».
Живота как такового у композитора никогда не было.
Прислушиваться приходилось постоянно. Это отнимало все силы и не позволяло сосредоточиться на постороннем, которое, увы, тоже требовало к себе внимания: люди, занятия, процедуры и ритуалы, называемые жизнью. (Есть ли что короче?!)
Для общения с внешним годился принятый там язык: чаще всего это были готовые штампы. Вроде тех, что передают по радио или печатают в газетах. Они были чужими, на них не надо было тратить энергию души – чем казеннее, тем лучше. Ни грамма чувства из своих запасов не тратилось. Кощунством было бы фразу вроде «передайте, пожалуйста, соль» или «примите паспорт на прописку, согласно действующим правилам проживания в городах СССР» – тогда еще был СССР – окрашивать красками, хранящимися в «санто санториум» – святая святых. Он с восторгом использовал готовый язык, прозванный остроумцами «новоязом», потому что он был стерилен, безопасен, функционален и неотразим. Его понимали все. Шаг в сторону был бы нелеп, не говоря об упомянутом кощунстве. Другим такая его манера речи казалась глумливой. Возможно. Если учесть, что глумление над людьми и лежит в основе всех инструкций, правил и уложений, – от Кодекса Юстиниана до Сталинской Конституции. Сам он не был склонен к анализу и усложнению, найденный им раз и навсегда музыкальный язык был, в противовес новоязу, герметичен, как всякое тайное знание, исчерпывающ, всемогущ.
Последнее его качество вытекало из потенциальной возможности выразить на этом языке все, – от призыва к бунту до интимной исповеди, которая на обычном языке звучала бы нескромно или бесстыдно.
Так вышло, что он со своей гениальностью был замечен другими великими или просто крупными творческими личностями, среди которых были и не чуждые поэзии. Но он долгое время поэзии не признавал – там, по его мнению, было много пропусков и совсем отсутствовал милый сердцу новояз. А как прелестно звучал новояз в переводе на музыку, когда музыкальная задача требовала иронической краски, на грани насмешки над общественным вкусом, обществом, общественной моралью! Позже он обнаружил и такие стихи – издевательские в своей казенной невинности – у того же Саши Черного.
Слово – синкретический знак. Сумма слов – набор синкретических импульсов. Промежутки между ними не заполнены. Их-то и заполняет музыка. Дмитрий Быков в рассуждении о побудительных мотивах творчества Пастернака пишет, что Пастернак шел от музыки к слову, противопоставляя Бориса Леонидовича Осипу Мандельштаму, который шел от слова к музыке. Разумеется, это неверно, но если нет ничего кроме музыки, то движение в поэзии может быть только от слова – к музыке! – но и тогда цель не бывает достигнута: музыка мира не возникает. Хотя случайные попадания возможны. Музыка – абсолютное искусство. Как скульптура.
Главное – нигде нет пересечения! Текст нигде не пересекается с музыкой. Когда он находил в этом главном пункте понимание, он успокаивался, – здесь он готов был заключать союзы. В том числе с поэтами, авторами текстов. Он, как Малер, писал симфонические поэмы, даже симфонии, сопрягая их с текстами. Он очень рано попробовал сам соединить – во Второй – показалось нарочито, литературно. Опыт был принят, и он больше не пробовал до поздних вещей. Когда он хотел не только выразить, но и прокричать.
Тексты носили в его опусах, как и у Малера, прикладной характер. Скажем, как в «Песнях о Земле» китайские старые стихи срастаются с музыкой только там, где они до наивности непонятны европейцу. Если взять «Песни об умерших детях» – магия названия завораживает, а текст на немецком раздражает. Но тенор на фоне струнных и деревянных спасает положение. «Песни странствующего подмастерья» – тайна из тайн, которую гений любил, как мы любим «Футбольный марш».
Тексты у Ждановича нигде не пересекались с музыкой и, тем более, не дополняли друг друга. Они даже уводили от основной задачи! Это нужно было только для того, чтобы музыка еще более обособилась. Вот земные чувства – они в словах. Вот небесные – они поднялись из огорода глупой моркови слов и умчались в небо.
Тексты всегда носят служебный характер. Как Евангелие.
Рассудите сами: Евангелие не требовало перевода в музыкальный ряд. То, что великие предшественники называли духовной музыкой, например, «Страсти по Матфею» Генделя, на самом деле было путешествием в иной мир, но уж никак не иллюстрация к какой-нибудь заповеди или своду их. Думать иначе, хуже того – действовать – означало кощунствовать. Более того – хулиганить, глумиться, не понимая. «Иисус Христос – суперстар», например.
Лучшие стихи, он считал, остаются в смыслах, никто не слышал, чтобы они звучали, как музыка! Петь их – для гения означает то, что для нас – читать наизусть. Делиться впечатлением. Отделенное от смысла пение – глупость. Как колоратура. Скажем, «Соловей» Алябьева.
Шутить, проказничать и хулиганить даже он уходил в свой космос, результаты можно было без страха предъявить публике – она слышала свое. Ровно настолько постигая ей вручаемое, насколько он планировал. Писал для себя, но хватало и тем, кто умел слушать. Многие, особенно теоретики, историки, «умники» слышали примерно четверть. Если домысливали остальное в правильном направлении, их он использовал как переводчиков. Они почитали за честь. Все знать не мог никто, не должен был знать и не знал.
«Слышу!» «Чувствую!» «Понимаю!». Он отвечал: «Спасибо, спасибо, спасибо!»
Вообще, он очень рано понял, что другие-то как раз почти ничего не понимают в волшебном языке музыки, а лишь делают вид. Или понимают его после упрощения, сведения к чувственной азбуке, из которой не составляются ни оттенки, ни полутона. Он часто пользовался этим в своих сочинениях для крамольных реплик или целых памфлетов, как писатели пользуются шифровками «между строк». С той только разницей, что он мог на своем языке говорить прямо, не таясь – никто не был в состоянии взять его за руку, а кто мог бы – не взял бы ни за что – это были свои, посвященные. Вот и летели порой в зал прямые обвинения, насмешки, изощренный вызов невежеству толпы, а толпа вставала и аплодировала. Ему порой бывало неловко, но никогда – стыдно. Чаще – уморительно смешно. Но с годами это ушло. Он стал строже, проще, больше стал походить на монаха. Это уже после всех встрясок, которые «устроила» ему жизнь.
Первые потрясения испытал он от своего целомудрия, которое являлось неотъемлемой частью рано испытанной потребности не засорять душу никакой грязью. Раз душа – рабочий инструмент, она должна содержаться в стерильной чистоте. Воспитанную в такой строгости душу можно погружать в любую грязь жизни – она не запачкается, к ней уже не пристанет, а опыт погружения будет переплавлен в оплакивание участи тех, кто беззащитен перед тяжелой мерзостью Бытия. Превращен в суровый приговор носителям этой мерзости, палачам – не жертвам. Но, Ради Бога, без риторики, дидактики, которым место в новоязе, а не в храме, где куется оружие и звучат молитвы.
Долой, кстати, выспренность, раз пишешь о таком человеке, как Владислав Жданович.
Все сказанное не означает, что от Владислава (ударение на втором слоге, – на «и») укрылось чувственное начало, которое гнет ось мира не слабее, чем ее вертит мускул Духа. Боже, как пригодился в минуты искушения ему не экстаз Святого Антония, а юмор Зощенко! Склонность к высмеиванию себя самого, стоящего с расстегнутыми штанами перед опереточной самкой: «Иначе!» «Это, но иначе!» – шептал он, потирая сухие крепкие ладони и улыбаясь прямо в небеса! Никаких глаз, опущенных стыдливо долу!
Его мир позволял находить рецепты: влюбиться в госпожу Самари, найти ее в подпольном борделе, спеть ей канкан, куплеты вроде: «Я матчиш танцевала с одним нахалом…» – и удрать к нотному листу. Пасть так, чтобы и не заметить! Закалиться и пасть, чтобы выскользнуть, не измаравшись.
Его незаурядные друзья были скроены по той же мерке, так что рецепты вырабатывались негласно и вместе, подруги роем вились той же породы – блестящие бабочки и эфирные мотыльки, умевшие распалять желание, но умевшие и поднять себя и партнера до белоснежного мимолетного романа, от которого всегда можно отречься, сославшись на ходульность процедуры дарения белых орхидей, а «белых лилий» – и подавно.
Конечно, «Дело корнета Елагина» ставило предел легкомыслию, но у всех у них были слишком высоки главные задачи, чтобы ломать голову по пустякам на пути к достижению намеченных вершин.
Есенин и Мейерхольд, каждый по-своему, плохо кончили, но держались великолепно, никто лица не потерял, что бы ни злословили пошляки. Главный враг – пошлость. А путь к ней – лицемерие, серафическая проповедь, ханжество, мелкость притязания, грязца неталантливого прозябания вне. Вне Поэзии. Духа. Музыки.
Что же требования плоти?
Блок? Секс отдельно, Прекрасная Дама – отдельно?
Что-то от обета. Потому и нарушается… Проще. Проще!
А если подойти к избраннице и сказать просто, честно, как в новоязе: «Я хочу связать себя с вами узами брака!»?
Но сначала надо найти.
Дело за малым.
Можно поймать автора этих строк, этого словесного портрета как раз на слове: не было ли сказано, что в каждом обожании провидел наш герой потерю и разрыв? Было сказано. Но предчувствие, провидение не избавляют от необходимости жить. Мало что кому чудится? И Гений имеет право считать себя простым смертным. Он даже обязан таковым считать себя. Он и считает. Как раз не считает он себя Гением! Только посредственность мыслит себя исключением. Или безумец. «Председатель земного шара» Велемир Хлебников, «гений Игорь Северянин». Безумства на грани гения. Гений прост. Видит все и ничего не видит. Он живет только настоящей минутой, иначе он не гений, а гениальный начальник планового отдела. Бухгалтер.
Главная тайна – гений был закрыт от самого себя.
Такое не просто дается. Воля, воля и еще раз воля. Ничего, что принято считать самоанализом.
Он сам с собой говорил на новоязе!
Здесь надо отречься от всего сказанного, потому что он сам не подписался бы ни под одним словом, что подобраны в «синкретические» ряды, приведенные выше, но мы рисуем портрет, и, отбросив попытки уловить сходство и проникнуть в тайну музыки, займемся чистой фотографией – нынче в моде коллажи и фотоинсталляции, всякая такая эффектная «наглядная агитация» в духе Уорхолла и его далеко убежавших китайских и французских последователей.
К сожалению, Россия уже тогда переставала быть культурной страной в европейском понимании, поэтому лучше отнести первое серьезное событие в его жизни, связанное с сексом, в пору, когда Россия еще была похожа на культурную страну, по инерции – примерно, в начале двадцатых годов. Ему потому и пришлось обитать и в двадцатые, и в тридцатые, и далее – ущемленно, – только сейчас ему не осталось места, – потому, забегая вперед, скажем: он жил между началом прошлого века в России и его концом, то есть концом России. Если кто-то считает, что Россия жива, то можно сказать иначе: Владислав Жданович жил между началом последнего века России и его концом. То есть он жил с 22-го года прошлого уже века в полном и абсолютном одиночестве. Можно сказать, он вовсе и не жил!
Гибнуть, точнее, издыхать культура начала незадолго до 17-го. Можно было бы с натяжкой назвать это охранительным самоубийством. Инерция длилась до 22-го – ведь художник – еще и провидец поневоле. Потом была инерция инерции. Пир во время чумы. Невероятная смесь дикости и драгоценных обломков. Погибли сначала литература и поэзия, потом живопись и театр. Выдержала музыка. Настоящая. Такая, какую он писал. Не прицепишься. Она исчезда последней. У нас на глазах.
Попутно исчезла философия, но он и так ее не замечал. Вера же его заключалась в прописях новояза, доступного деревенской женщине, что приходила убираться.
Веру в Бога привила мать: нестрогую, обязательную, без рассуждений, но что делать с верой абсолютно чистому в помыслах человеку – ему не было ясно. Не в церковь же ходить! На исповедь, например! Боже сохрани! Надеть штиблеты и галстук и потопать в храм! В конце концов, можно прочесть по штампованной псалтири полагающийся отрывок. Коротко, ясно, про себя. Но не креститься – получится внешне, для других. Если в темноте, когда загадаешь что-то: чтоб не умирали бабушка и мать, например.
Короче, он и тогда-то, в ранней юности был одинок, ну а уж с гибелью всего и всех – и подавно остался один!
Можете представить, какие трудности предстояло ему преодолеть, чтобы найти себе подругу, жену или даже сексуальную партнершу?
Для простоты он хотел найти единственную, назвать ее женой, родить детей и, отдавая долг всем радостям семьи и заботам по ее защите и сохранению, двигаться дальше. Он рассчитывал написать десять симфоний. (Лучше пятнадцать, тихо смеялся он. Главное, не умереть после девятой, как Бетховен и Малер.)
Он играл на рояле в «синема» для денег, – сопровождение немых картин – так многие подрабатывали, включая и великого Ш., причем каждый развлекался, как мог. Счастливцы, кому довелось присутствовать на таких сеансах! Да отдавали ли они отчет, что слышат их уши!? Глухие – что они слышали? Фокстрот и польку-кокетку, канкан и пародию на известный реквием…
Иногда на экране появлялись ослепительные красавицы, на первом же сеансе наш гений их «приканчивал» самой жестокой иронией, изобразив сначала страсть, потом падение и, наконец, позор!
Первую «свою» женщину он увидел случайно, в большой компании новых друзей: они вместе делали балет. Декорации писал художник из «Мира Искусства», но не одиозный, он больше пропадал в Париже. Композитора сразу поразила красавица-жена художника. Она была младше мужа, но старше Владислава на пять лет. Главное же не это, а то, что жена. Это обстоятельство делало ее более недоступной, чем для композитора была бы японская принцесса.
Женщина сразу угадала, какое действие оказывает на молодого гения, ей это льстило. Муж был очень хорошим художником, но он все же не был гением, а у Жда-новича это было написано крупными буквами на лбу. Да так к нему все и относились, кто понимал. А тогда еще понимали, подлецы ходили тише воды, ниже травы, копили только силы. Над бездарями и подлецами еще можно было смеяться, не пускать их в свой круг, а монархисты еще ходили в ореоле и кидали монокли в непустые пока глазницы.
Хотя и в революционера с красным бантом в иных салонах еще кидали не камни, а «черные розы» и «голубые хризантемы».
Здесь уместно спросить автора: почему же слава композитора Ждановича, его известность не дожили до наших дней? Почему мы о нем сегодня ничего почти не знаем? Ну, кое-кто знает, это во-первых. Во-вторых, есть и более веские причины для такого забвения великого человека. Об этих причинах позже. Может быть, в самом конце истории. Самой трагической любовной истории XX века. Вспомним хотя бы, как был забыт у себя на родине, в Австрии Шенберг. А ведь он сам и его поклонники были уверены, что он останется в веках! Слишком высоко залетать так же опасно, как ползать среди серой массы обычных тварей.
Вернемся к его «роману». Эта женщина, жена художника, легко свела композитора с ума.
Высокая, красивая, с тонкой талией и большой грудью, с крепким крупом, крутыми бедрами и нежной белой кожей на розовой шелковой подкладке. Яркие синие глаза – художники, как правило, берут в жены только очень красивых женщин с такими именно глазами – излучали свет.
Беда композитора заключалась в том, что больше всего на свете он боялся себя. Потому что всякий гений познает себя до дна постепенно, оттягивая момент, когда в себя придется заглянуть так глубоко, чтобы стало видно дно.
К кольчатым спущусь и усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.
То есть жизнь художника – это путь к себе: если заглянуть слишком быстро, погибнешь или сойдешь с ума. Если не тянет заглядывать – ты не гений. Растянуть этот процесс на длину отпущенной жизни – смысл и содержание гениального художника.
Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.
И путь композитора в этих стихах Мандельштама, которые он хорошо знал, был пророчески начертан:
Он сказал: довольно полнозвучья.
Ты напрасно Моцарта любил.
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.
Ее звали Катя, как у Блока в «Двенадцати» зовут уличную девку. Это первое, что пришло Владиславу в голову. Потом захотелось увидеть и «шрам от ножа».
Она сама пожелала уложить его в постель. Была шумная вечеринка в мастерской в Петрограде. На верхнем этаже исторического театрального здания. Оттуда поехали на моторах в Гатчину. Потом в Павловск, на дачу к богатому меценату М… Тут уже оставались избранные. Муж-художник где-то отстал. Женщина увела Владислава на антресоли, под самый потолок, расписанный Судейкиным. Перила, баллюстрада – все в стиле модерн, из красного и черного дерева, с инкрустациями из перламутра и слоновой кости. Несколько тяжеловесно, на грани аляповатости.








