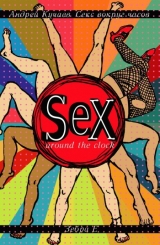
Текст книги "Sex Around The Clock. Секс вокруг часов"
Автор книги: Андрей Кучаев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
Таких Центров построили в столице чьей-то родины ровно двенадцать. По числу стульев в известном романе, как сказала мне знакомая архитекторша. И каждый такой Центр был «посвящен» актеру или режиссеру двух-трех фильмов, снятых по этому роману. Это были известные комики, в том числе из бывших республик бывшего Союза будущих независимых держав, едва держащихся на ногах с помощью костыля дяди Сэма или камчи потомков Чингиз-Ира.
Этот центр был посвящен артисту, который не снялся, а пробовался на роль в одну из экранизаций двенадцати кресел, подаренных автором Гаврика «брату Пете».
Коробки этих центров новой цивилизации и культуры были похожи друг на друга, как близнецы. Порой я по рассеянности, идя в один, попадал в другой. Шел к Шуре Балаганову а попадал к Кисе Воробьянинову Шел к Бендеру номер один, а попадал к Бендеру номер четыре. Сегодня, например, попал вообще к артисту, которого не взяли после проб… Потому я не каждый раз встречал там свою суженую, иногда просто сидел. Потом звонил и предупреждал о задержке. Раза два-три я встречал других знакомых дам в летах, которые готовы были примерить тогу повелительницы одинокой заблудшей души с предполагаемыми «киндер-сюрпризами» в брюках, но я всегда храню верность, когда в ней не нуждаются, или верным быть по сути нечему… Потому брел к тому центру, где была назначена встреча.
Центр организовал и построил один известный меценат в честь, как я уже упомянул, известного актера, иногда выступавшего в роли комика, эксцентричного паяца. Маленькое пояснение: комик был един в трех лицах. Как всякий живой бог.
В советское время ерник и кинозвезда универсально пришелся по сердцу народу как коверный Рыжий. Он получал по наклеенной лысине и брызгал в партер двумя фонтанами слез. Пристальные умели различать в них следы крови. Потом всякий намек на кровь запретили. Правда, на знаменах она долго не отстирывалась. Интеллигенция выкинула белый флаг, и наш кумир стал, вопреки окрикам, появляться в качестве Белого клоуна, Пьеро из снов уснувшего летаргическим сном Китежа. Призрак Утопии в белых одеждах с кроваво-красным подбоем шута, с пумпонами на колпачке и балахоне. Всякая мечта родит экзальтацию: он возник в третьей ипостаси – скомороха в пыльном шлеме буденовца. Всякая экзальтация заканчивается прозой наживы: в конце карьеры Печальный мим превратился в обезьянку на чернильнице Ленина. Как известно, в руках она держит человеческий череп. Роняя слезы, мим вписался в нео-НЭП.
Нет, все три ипостаси-маски работали. Белый и Рыжий – эти амплуа трактуются современниками широко. А затесавшийся между ними бес-резонер всегда подразумевается в российском райке. Отыскался Крестный отец, вызвавший к жизни эти маски. Кто не помнит историю на Нечистых прудах? Там до сих пор ошивается призрак гигантского кота Бегемота, который выхватывает у запозднившихся барсетки.
Хвала подземным силам, Идеал удалось похоронить, но икона осталась. И паяц, наряду со всеми антигероями, стал кумиром на все времена. Его земная личина почила в бозе, но его воплощения стали расхожими брэндами в культуре и… торговле!
С нелегкой руки изображенного на иконе идола пришли новые ценности, иные мерила Прекрасного и, как следствие, Вечного.
Если красота нисходит с неба, то уродство – порождение геенны, камина под земной мантией, перед которым дремлет Мефистофель, скрестив ноги, протянутые на шкуре убитого дракона. Красоту предали анафеме.
Эталоном внешности стала личина оборотня в дырках от пуль китайской Цензуры. Общество по этому принципу выделило, как каракатица – чернила, элиту. Уже из нее выделился особый слой носителей такой печати в облике, это качество назвали «медийностью». Отмеченные этой печатью имеют формально очень разную внешность, но что-то их неуловимо объединяет. Если это мужики, то они смахивают на женщин. Если это женщины, то они смахивают на ведьм, страдающих базеткой. Пригожесть стала проклятием. Разве что нимфеткам и некстам до 15-ти позволяется блистать на эстраде и в дискомире «лолитной» внешностью по типу «вамп». Молодые ведьмочки и смазливые чертенята ворожат перед вашим лицом, и вы теряете свою тень. Почивший Комик был на удивление некрасив.
Народившиеся толстосумы, и непотопляемые диспетчеры госбюджета скинулись на всеобщего любимца, и стеклянный ящик вырос в баснословно короткий срок. Он отражается в не очень чистом здешнем пруду – в нем по верхним этажам плавают лебеди и утки. Король умер, да здравствует он в наших сердцах: мы навсегда запомнили эксцентричного актера, ожидая, когда его воскресит факир на час Виталий Вульф.
Фальшь как понятие исчезла из обихода. Она стала основой любого, вытканного на этой основе, тезиса-заповеди, какие вешали на стенку раньше в мещанских домах, крестьянских избах, в купеческих покоях и обителях святош. «Отче наш», вышитый купно и в разбивку поцитатно бисером, потеснил календари с Наоми Кэмпбелл.
Современные купцы и святоши косятся на красно-бело-голубой угол и крестят пузо с невиданным доселе усердием. Современные паяцы стали креститься в церкви и крестить детенышей. Комики и пожилые эстрадные скоморохи идут в пресс-секретари духовных лиц, авторы конферансов – в семинарию, чтобы потом получить приход.
В этом ничего бы не было плохого, если бы это был только духовный порыв обновившейся нации. Но нация если и обновилась, то только за счет свежих и не очень мерзавцев, потому духовный порыв напоминает боярский кислый бздех.
«Иже на небеси еси, а мы – внутри бульварного кольца уси!» «Аэробика – Аевропика – Ахамерика! Глобал-вест!» «Краткий курс доллара». «История Подбрюшья в картинках». «Кабы-не-20-й съест». «Августовский Птюч в массы!» «Решения ноябрьского Пленума в жизнь!». «Гербалайф для похудения Сибири!». «Даешь коту Бегемоту масленницу!» «Нехай живе наша хата с украю!» «На то и НАТО, чтобы караул не уставал!» «Белые братья – вашему столу!» «От нашего стола – Белой матери с Украины!» «Красного кобеля не отмоешь добела!» «Россия с возу, ковбою легче!» «Заставь дурака богу молиться!» «С вами – бог, с нами – порок!»
Откуда же нахлынула такая праведность и праведники?
Ответ дает случай с покойным кумиром и его фондом: они оставили после себя Храм и Символ веры.
Бесспорность Идеи Бога отныне не отстаивается и не опровергается: она является a priori оправданием любого существования и любой деятельности, ибо эта Идея по-прежнему универсальна и широка!
Трагический мим незадолго до смерти тоже «пришел» к вере, наполняя свой порыв той же одержимостью, с какой когда-то играл скомороха-богохульника. Он был создан для одержимости, без которой нет таких художников. Такая одержимость редка в банкирах, политиках и капиталистах. Там даже простой азарт – помеха. Расчет и ледяное равнодушие – оружие пролетариата от наживы. После того, как красный угол стал разноцветным и из него убрали Ленина, там пришлось опять вешать икону. Никто не заметил, что за ней прячется наш оборотень! Вот почему я уделяю этому собирательному образу столько места в повествовании – не ищите реальный прообраз, их было много, не уцелел почти никто.
И я приплелся сюда, чтобы соблазнить служительницу этого храма. Она была созданием почившего кумира. Теперь она служила его культу. В самом расширительном смысле: весталка издавала глянцевый журнал-катехизис непорочного порока, библию безгрешного греха, завет возлюбления ближнего, как чужого! Поваренная книга Людоеда и его жены, где главное лакомство – Красные Шапочки под майонезом и дамские Мальчики-Спальчики в кляре!
В ее речи постоянно слышалось: «О! Мне так легко здесь работать – намоленное место! Обязательно пойду завтра и помолюсь за него!»
«Помолись за мою потенцию лучше!» – подмывало меня брякнуть, но я молчал.
Братки строят церкви в наивной вере, что будут прощены за отнюдь не праведные жизни, их хозяева дают на церковь, потому что ни во что не верят, а без «крыши» работать неуютно. Тем более, что и власть «подписалась на Бога»!
Сейчас я сижу в этом храме, построенном на деньги равнодушных, освященном эстрадниками-святошами, рядом с алтарем, посвященном комику. В центре зала в пол впечатан искусственный водоем. В него спускается с потолка слоновая нога-колонна, по ней вниз, в капище струится вода.
Хочешь-не хочешь, как во всяком храме, здесь тоже надо «верить», или хотя бы соблюдать приличия – не произносить имени покойного идола.
Особенность здешнего храма – все его святые апостолы живы! И его Августин, его Фома, его Феофан, его Серафим и его Фекла… Их всех вы могли видеть вчера в санпропускнике у Андрея Максимова. Это – удобно.
Колонна крадет пространство, вода наводит на мысли о туалете. За столиками сидят «прихожане»-завсегдатаи – сотрудники Фонда, их гости да сливки персонала других офисов, квартирующих здесь. Кроме Фонда тут арендуют помещения еще два десятка контор, в числе которых гламурное детище моей новой подруги. Место престижное, и народ здесь «не с улицы», хотя вахты и охраны нет. Присматривают секьюрити неизвестного происхождения. Сквозь стекло внештатно таращится швейцар дорогущего кабака, расположенного в цоколе. Там совсем другой народ.
Мне кажется, я сижу в центре многослойной сферы. Роятся миры, спрятанные один в другой, как китайские яйца: в пряничный мир Москвы упрятан мир теремов и офисных аквариумов, между ними – улицы в пятнах лиц, площади и патио с улетевшими в небо крышами… В центровом стеклянном яйце Большого Кащея – обжорки и кабаки. В игольном ушке размером со слоновое ухо – вход в пещеры элитных клубов.
И нигде не пахнет никакой верой! Сто пудов притворства! Нет, не так – везде наебон по принципу: ты – меня, я – тебя!
И слава Богу! Но зачем так-то притворяться? Бог может всерьез обидеться.
На улице просматриваются еще несколько миров: сигарный мир, запечатанный в иномарки, что текут по бульвару со скоростью пешеходов; ползучий мир пахучих террариумов общественного транспорта, включая вон тот трамвай-трактир «Аннушка».
Мы наш, мы новый мир построили вопреки и на горе босякам и нищим, сегодня вечером он выглядит, как расползшийся от дождя муравейник, промокший мир шаркающих по апрельской слякоти муравьев-пешеходов… В спальных районах, в вагонах метро под землей – мерлоки-муравьи. В голубой далекой спаленке опочил ребенок, у которого есть шанс встретить 2105-й год. Под совсем дешевым гобеленом с нарисованными лебедями на пруду и бомжами на лавках, мимо них сейчас собачники тянут недоссавших блутхаундов с бассетами на живодерню, в квартиры, похожие на отдельные номера в Сандунах.
Гобелен бульвара старый и грязный. Все грязное – машины, собаки, лебеди, обувь и даже скамейки – сидящие садятся на спинки, и сиденья в следах от их обуви.
Свет снаружи серый, предвечерний, но фонари еще не горят, только реклама. Кабак сдержанно намекает на свою элитность короткой надписью из неоновых трубок, налитых синим нашатырем. Почему нашатырь? Не знаю, но что-то шибает в нос, приходишь в себя от обморока, когда смотришь на такую голубую змею: «Синяя Птица». Название должно вызывать ностальгию.
У меня никакой ностальгии нет и, надеюсь, никогда не будет. Она бывает, если осталось за плечами то, что вытягивает из души длинную голубую жилу, которая пружинисто сворачивается в слово «ностальгия».
Я просто несчастен. Это означает, что, будь я кабаком, надо мной горела бы надпись из красных трубок: «Здесь несчастны!» Это даже не красный цвет, скорее, это цвет капилляра с раствором, который стекает в иголку катетера, воткнутого в вену: раствор слегка подкрашен встречной кровью из вены. Вырви трубку – человек мертв. Отними у меня мое несчастье, я лишусь подпитки и перестану существовать. Мне не место в любом храме.
В детстве человек бывает так же, примерно, счастлив, как я несчастлив – протяженно и незаметно. Счастье, как и несчастье, не имеет цвета, запаха, вкуса, зримой формы. Это один вакуум, влитый в другой вакуум. Вакуум нехватки – в пустоту отсутствия.
Большинство людей наполнены ожиданием. Они ждут решительных и важных событий, которые восполнят нехватку того, чего им не хватит для полного счастья. Я ничего не жду.
В моем положении ждать чего-либо – это тоже самое, что ожидать появления третьих зубов: выпали молочные, потом – обычные: «А вдруг вырастут следующие?» Бывает иногда, тогда это приводит к болезни, уродству. Бред.
В детстве счастливыми вас, при условии, что вы более или менее здоровы, делает невидимая забота. Нормальный ребенок окружен заботой. Во всяком случае во времена моего детства случалось это чудо: те, кто родил, опекали чадо.
Скажем, я стою во дворе своего дома (он снесен в результате реконструкции Большой Полянки пятнадцать лет тому назад), в руке у меня яблоко. Красное, мытое, вытертое насухо и блестящее. На улице стоит (в отличие от того, что «стоит» за окном сегодня) ясное майское утро. Чуть прохладно, но день обещает быть теплым, почти жарким и солнечным. Прохлада сейчас – это серебряная рамка для восхитительного пейзажа предстоящего дня. Яблоко – знак. Самый яркий среди многих других. Знак того, что я стою в центре многих невидимых стрел заботы. Вот отец где-то расписывается в ведомости, получает деньги – заработок, на нем военная форма, но он без сапог – ботинки штатского, таков его статус. Вот мать с косой на затылке, свернутой в «корзинку», получает от почтальона перевод – «алименты» от отца на нас, двоих детей. Вот дед покупает яблоки в овощном магазине, пересчитывает сдачу. Вот бабушка моет яблоко и дает его мне с собой в школу. Вот Бог раздвигает занавес бархатных туч и освещает солнцем весь центр Москвы – купола Кремля, Ордынку, Полянку, наш двор, меня. Я вижу только результат – яблоко. Оно сияет своими глянцевыми боками. Все, упомянутые выше, будут не покладая рук и дальше работать, чтобы я легко плыл по солнечной пыли, голубому воздуху.
В темно-серой кепке из толстого драпа, костюмчике с короткими штанишками на помочах, белой рубашке и пестром галстуке. Мать надела на меня «взрослый» галстук, она не понимает нелепости галстука в замоскворецкой начальной школе, где сын уборщицы Рогов ворует на Даниловском рынке те же яблоки: антоновку, белую, восковую, с зеленоватым трупным отливом. Допущенная нелепость туманит радость легкой досадой, на солнце набегает кисейная тучка. Я поворачиваю галстук «хвостом» назад, под курточку и выхожу на ослепительно освещенный сухой асфальт улицы, по которой идет одновагонный трамвай номер 19. Бог дует на тучку, она отлетает паутинкой. Тени отодвигаются, как мебель при перестановке перед празником. Это и есть счастье, если вы помните.
Гораздо позже я понял, что счастье мое тогда создавалось «моими» женщинами. Мамой, бабушкой, единоутробной сестрой. Конечно, если не считать алиментщиков: Бога и отца.
Нет, запах у счастья все-таки есть, оно пахнет сухим асфальтом и майской погодой, тополиными почками и прохладой серебряных трамвайных рельсов. Дыханием застав и предместий – далеким приветом дубрав…
Никто особенно не разорялся в детстве, что, дескать, вот именно он меня делает счастливым. (Училки долдонят про Ленина-Сталина, которые мне дали «счастливое детство», я снисходительно не замечаю казенной неправды).
Настоящая Забота и ее жрицы все за кулисами мира, в центре которого ты восхитительно один! От тебя и твоего одиночества разит счастьем, любой купается в этих лучах.
Это – в детстве. Надо ли говорить, что детство проходит, а одиночество остается?
Когда ты вырастаешь, тебя настигает одиночество совсем другого рода. Вокруг тебя собираются тоже женщины, которые, как учителя когда-то, долдонят про счастье: «Мы хотим, чтобы ты был счастлив!» Ты долго не понимаешь, что все они врут. Что это именно они неустанно и неусыпно отнимают у тебя счастье. Ты начинаешь сваливаться в несчастье под это вранье. Конечно, операция делается под наркозом – секс, секс, секс! Пока ты не выпит до дна. Я, кажется, выпит. Неужели на свете есть любовь? Помогите!
Уж если отыскивать запах несчастья, то это запах казенной мебели с претензией на модерн – кислый запах алюминиевых трубок, пыльный – синтетики обивки и – прелый запах пустого стула, покинутого минуту назад чьей-то прелой задницей. В этот запах, как в подушку, плюхнется через минуту женщина, которую ты не любишь. И не желаешь. Я и набираюсь «хотения», глядя по сторонам.
Вот в чем штука – любовь ушла. А с нею ушли радость и счастье. Неужели все-таки ушла?
Я готовлюсь к свиданию. К предстоящей беседе. Верчу головой во все стороны, где мелькает хоть что-то похожее на «секс-аппел». Секс-Appel. Вместо того яблока теперь вот это, Евино. Для того, чтобы просто разговаривать с женщиной, мне надо хотя бы немного ее желать. Без этого я даже говорить с бабами не могу. Меня не колышит, нравлюсь я им сам или нет. Важно хотеть женщину, чтобы воспринимать ее бред про то, как она тебе «желает добра», хочет, чтобы ты был счастлив.
В Центре почившего Комика, в этом храме равнодушия и немой молитвы, обращенной к тому, кого нет, женщины обожают вспоминать о нем, давая понять, как много они сделали, чтобы продлить его дни, как он много для них значил и значит. Обычное вранье. Он любил играть в щедрость, но этих куриц не отличал от одну от другой. Вечный озорник, насмешник он служил своему призванию не от мира сего и не разменивался ни на мелкие романы, ни на мелкую благотворительность. Мог помочь, мог послать, фальшивым он не был, непредсказуемым – всегда. Да и деньги его были не его. Он разруливал их небольшую часть. Работал Лисом в винограднике.
Чтобы осчастливить кого-нибудь, женщина приводит себя в порядок. Многие здесь одеты дорого и модно. Иные не очень дорого, но стильно – это женщины со вкусом, «продвинутые» и независимые. Надо видеть, как они заказывают официанткам кофе и легкую закуску. Они рассеянно глядят одновременно на официантку (здесь официантки похожи на путан в отпуске), на подопечного визави и в карту меню. Изготавливается коктейль из возлюбления ближнего, из заботы о содержимом портмоне и заботы о фигуре. Всегда разочарованная результатом смешивания, официантка уходит к стойке бара, где все и готовится. Сегодня в Москве в таких местах принято не допускать и тени хамства, но из казенной вежливости вынуто что-то важное, хочется, чтобы официантка больше никогда к вам не подходила – лучше голод и жажда.
Озабоченные счастьем ближнего женщины терпят, несут свой крест, лица освещаются улыбками праведно утомленных фей.
Вот из казенных рук, которые позже будут брать чаевые, тоже за кулисами мироздания из папки со счетом и переложенными туда из портмоне купюрами, выпрыгивают чашки с кофе и плошки с салатом. Маленькая казнь: официантка знает, как баснословно дорого тут стоит чашка кофе и салат. Женщина торжественно-людоедски улыбается, принося в жертву десять у.е. во имя кандидата в счастливцы. Она знает, все видели, как она зарабатывает в здешних стенах, ей такое оплатить – пустяк, не обращайте внимания. Взгляд дамы обшаривает украдкой зрителей. Зрители подчеркнуто ничего не замечают, они сами тоже на сцене, прошли или проходят тот же ритуал. Щебет, журчанье воды вдоль колонны-ноги: слон писает на все это кривлянье.
Есть бабцы, которых кормят и поят. Но они здесь «на минуточку», необходимую для их запланированного снятия владельцами гольдовых карт «типа Виза» или покруче.
Небольшая действующая модель нынешнего общества. Все мужчины желают всех женщин, то есть «счастья». Спрос рождает предложение: дамы предлагают возлюбить страждущих и сделать их счастливыми. Если простая путана дарит телесные радости и не покушается на вашу душу, то новые именно на нее и претендуют. Они пришли на смену тем, кто когда-то, в детстве хотел вам счастья бескорыстно, но ушел, скорбя о том, как вы теперь тут без них. Да вот так! О нас готовы позаботиться вот эти – продвинутые жрицы возлюбления. Они призваны заменить мужчине мать, бабушку, сестру и путану одновременно. Бабочки с панели – невинные снегурочки по сравнению с этими. Если надо, они вас съедят живьем. Особенно если вы сами – живы, то есть у вас в жилах течет настоящая горячая красная кровь.
От фонтана холодно. Все мужики выглядят бодрыми жертвами, агнцами на заклании. Потому женщины сегодня, после некоторого колебания, снисходят до участия и даже сострадания!
– Попробуй, это готовят здесь неплохо…
– Спасибо, вообще-то я сыт…
– А ты попробуй! Может быть, тебе горячее заказать?
Мужчина машет руками так, будто отказыватся не от горячего, а от ордена «Почетного легиона» ради «Заслуг перед отечеством» 3-ей степени.
– А я, пожалуй, съем что-нибудь… Я сегодня еще не обедала.
(Мужчина тоже, но это – детали). Мужчина добит добротой: теперь он будет смотреть, как будут есть тоже баснословно дорогую рыбу на вертеле, от которой он, как дурак-цирюльник у Гоголя, отказался.
Когда вас осчастливливают, вы терпите множество казней местного значения.
Днем здесь только такие дамы и только такие мужчины. Тех, кто взят под опеку и уже возлюблен, кормят в дешевых китайских ресторанах неподалеку. Те, кто ухитрился пока избежать возлюбления – едят на свои в ресторанчиках с восточной кухней в переулке через пруд. Те, кого лишили права на пребывание под дланью осчастливливания, пьют с горя водку в кафе-ресторане «Пир Оги» в старом подворье на Большой Дмитровке. Водку там закусывают селедкой и запивают пивом, там оно разливное и почти неразбавленное. «Слон», кому принадлежит слоновая нога в центре, ест ботву (сверхдорогую зелень) по часам – страдает желудком и поджелудочной, ненужное зачеркнуть. Служивый люд из контор перекусывает в арендованных помещениях на этажах принесенными с собой бутербродами или тощей пиццей, заказанной в складчину – привет «совку» в томате!
В Москве немного таких мест, как офисное здание Фонда. Как правило, это полузакрытые клубные кабаки типа «Штирлица» или «Ионыча». Там тоже фиг встретишь проститутку, не говоря уже о хорошенькой женщине. В таких заведениях любят всерьез.
Покойный Идол Центра никогда богатым не был, он стал хорошим брендом, как я уже говорил, вывеской, под которую большие люди выгодно вложили большие деньги. Он был слишком эксцентричен, непредсказуем и талантлив, чтобы жить долго и умереть богатым. Ему удалось отбить несколько атак мастериц осчастливливания, мэтресс возлюбления. Он удержался около женщины, которой было достаточно того, что ее саму любит мужик, хоть и сумасшедший.
Я когда-то с ним встречался. Моя знакомая из Питера безуспешно пыталась сама осчастливить артиста. Он не мог просто оттолкнуть женщину он разыгрывал для нее спектакли. Драмы. Мистерии. Тогда еще он выпивал. Конечно, такой человек не мог без допинга, но водка ему заменяла только горючее, пищу – он обычно ничего не ел, когда пил, как все алкоголики. В отличие от них, он был заведен всегда и без водки, но сжигать себя входит в природу любого таланта.
Мы с ним пили водку в доме карточного шулера, кагалы no-нынешнему он умел находить таких, он темпераментно рассказывал о жуликах с фабрики денег «Госзнак». Их не могли вычислить. Просто попадались в выручке магазинов очень старые, обгорелые деньги. Много. Банки сообщили, куда надо, ОБХСС заинтересовалась. После догах поисков выяснили: кочегары печей фабрики, где жгли старые деньги, увеличивали тягу, чтобы она выносила наверх часть не успевших сгореть купюр. Мужики на крыше «Госзнака» ловили непрогоревшие купюры сачком из рогожного мешка.
«Представляешь? Черные от копоти, страшные, как черти, машут сачком, гоняясь за огненными бабочками из сторублевок!? Ночь! Крыша! Внизу Москва! А те, в кочегарке, наддают! Наддают! Ад! Кромешный ад! Россия!»
Ничего не изменилось: одни внизу наддают, другие наверху ловят сачком из рогожи непрогоревший бюджет. Ад. Россия.
Он был неуемным во всем, в любви тоже. И во всех своих трех ипостасях. Схлопотал два инфаркта – по одному на каждую маску. От третьего умер, будучи почти в своем обличье – Крошка Цахес по прозвищу Циннобер, «Серый костюм».
Его разрывал темперамент. Маска трагического мима, приклеенная к черепу, точнее – к сиамским близнецам из двух черепов, в затылок один другому. Показывая сценку «Госзнак», он истратил темперамента на двух Лиров. Порвал на себе рубашку и майку, опрокинул стол, разбил вазу и насмерть перепугал хозяйскую кошку. Смеясь, он показывал редкие зубы, – тыква на праздник «Хеллоуин» со свечкой внутри. Это он сам горел внутри, но карбидным огнем, как старинная шахтерская лампа. Это горение было непрерывным. Маленькое ременное тело, которому идут вериги.
Такие люди – не совсем люди, как писал Томас Манн в «Паяце», они – из другой жизни, редкие среди простых смертных, «люди театра». Любая пьеса, включая Шекспира, ниже их неземного дарования. Они нисходят до ролей. Чтобы воплощать свою суть, свою растерзанную душу в маске паяца! Остальные в этом цеху им подражают, получается иммитация, которая требует и соответствующего театра.
И такой театр пришел: ни то, ни се, – ни театра, ни жизни. Там не горят страсти, а говорят о страстях. Орут о страстях с потухшими глазами.
Все талантливые старики умерли. Остался одаренный средний возраст и молодые, которые не знают секретов – утеряны. Они только изображают, не чувствуя. Форсируют голос и жест. Ненатуральность голоса и жеста их выдают. Медленно этот способ существования переполз в жизнь. Вот и сейчас я сижу в таком театре.
Современный актер умеет изображать хорошо играющего актера. Этим он защищается от того, что должен играть. Потому что играть он умеет, а думать и чувствовать – нет. Он – как все. Никто не умеет думать и чувствовать. Жить. Мы не умеем жить. Играем в жизнь, потому актеры играют актеров. Мы – первая производная функции, где X – утраченная жизнь, актеры – вторая производная. Жизнь моя, иль ты… не снилась мне?
Если бы Комик воскрес и явился, он бы напился в знак протеста и отчаяния, залез бы потом в бассейн в центре и разбил бы слоновую ногу. И придумал бы «гэг» – качать этому слону кое-что и показал бы всем этюд: «Слону яицца качать»!
Уходят и истинные жрицы возлюбления – «мечтательная» фракция этой возгонки женской плоти в ангельскую – в сухом остатке – дети. Дети разных народов. Отца редко можно найти поблизости от колыбели. Весьма неближнее зарубежье, оно же – «зарублежье». Сейчас уцелевшие укротительницы тигров переходят в ранг бабушек. Вот не думал, что буду добиваться права прыгнуть в постель к бабульке! Я доведен до края, мне нужны забота и тепло. Я обманываю себя. Пусть жизнь обманет меня!
Как правило, эти новые дрессировщицы не могут приручить своих собственных детей, дрожат, входя к ним в клетку. Дети позволяют себя только кормить, но не гладить. Они знают секрет своих матерей: возлюблять без любви. Тоже вторая производная. Псевдолюбовь – первая. Любви нет. Любовь, широкую, как море, не вместили жизни берега, и она вылилась через край, утекла…
Нет, жизнь когда-то здесь была. Они все сели в лодку и отчалили от этой жизни, рассчитывая после морской прогулки к ней вернуться, но забыли про течение. Оно унесло их так далеко, что потерялась надежда вернуться обратно. Теперь они живут в своем ковчеге, делая вид, что это – суша, материк. А это – корабль недоумков. Дураков то-ись…
Смешон сейчас в России человек, серьезный человек, мужчина, который хочет счастья своему народу, стране, начальнику, соседу, жене! У нынешних Промоутеев Клитормнестра отняла огонь. Тепла хватает на оговоренное бракоразводным процессом свидание на уикэнд с детишками, когда каждую минуту смотрят на часы…
Женщины – другое дело. Когда красотка из Голливуда, какая-нибудь Линн, выходит за миллиардера, она всерьез хочет осчастливить его. Кто еще может сделать счастливым стоящего на краю могилы? Сверстница? Слепая нищенка из «Огней большого города»? Такое счастье изготавливается только из материала заказчика. Если у вас есть деньги, то из них. А если их нет, подходят заменители: молодость, красота, умение обходиться без мыла, связи, наконец! Амазонка найдет, как изо всего этого сшить себе платье с правосторонним декольте.
Когда же вы бедны и немолоды, вас невозможно осчастливить, даже если вы не просто талантливы – гениальны! – к портному вы пришли без материи. Да еще хотите шить в долг!
Все это вдруг поняли в один миг. Как только с утопиями было покончено. Девять десятых талантливых мужиков оказались обреченными на гибель – у них не было ничего из перечисленного, кроме дара. Как только умирала последняя из их женщин-хранительниц колыбели, они оказывались без панциря. Их влегкую расклевывали уже не гарпии возлюбления, а вороны с ближайшей помойки чувств.
Мужчина должен поменять пол. Все равно его обойдет молодая самка. Век женщин, город женщин – мегаполис Астарты по имени «Завтра обойдемся без…!». Куда тут мне?
Лолиту угадал Набоков отнюдь не как объект страсти никчемного самца, а как новый биологический вид: молодая смазливая сила, торгующая не телом, а запретное-тью. Главный в этих булках изюм – статья за педофилию. Куда шлюхам – они излюблены до дыр, современная фемина делает ставку на уголовный кодекс и нимфоманию – цены ползут вверх! Из этих куколок выводятся гусеницы, которые объедают целые «зеленые» континенты. Из них вырастают стальные бабочки алчных и хищных медведок! Привет Набокову с его бабочками!
Собственная старость молодым кажется лишь чужой перспективой, которую избежать – раз плюнуть! Надо только быть «в курсе», опережать на такт.
Я их понимаю: надо жить. А у жизни должен быть стержень. Одержимость нужна при ловле блох.
Молодые не считают нас, тех, кому за сорок и выше, за людей. Возможно, они правы. Они набрали скорость, толкая автомобиль, у которого заглох двигатель. Автомобиль вот-вот заведется, а они не сумеют в него впрыгнуть – слишком они его разогнали! Не догнать. И тогда мы окажемся в одной упряжке. Автомобиль толкают уже другие нексты. И так без конца. Вот только кого он везет, этот «Геваген»?
Идет моя «осчастливица». Будем вместе нюхать плохой кофе. Если спросит про еду, скажу, что хочу жрать.
– Ты давно ждешь?
– Пустяки. Полчаса.
Надо было бы сказать – Всю жизнь хочу тебя любить.
– Прости, задержали спонсоры. Чай или кофе?
– Все равно. Кофе.
Надо было бы сказать – хочу тебя хотеть.
Она зовет официантку, заказывает, я сравниваю их. Официантка, как все они тут, одета в черную униформу, тесно облегающую, как ей и полагается, формы. Задница у нее блеск. От моего плеча начинаются у нее длиннющие ноги – редкость при такой лошадиной жопе. И это все при тонких лодыжках. Живот, как я люблю, не острый, а с плато на вершине Столовой горы. Прогиб спины – лук Артемиды. Груди – знак «Очень неровный участок дороги». Вероятно – горный. Уходит, играя треугольником впившихся в явно не очень мягкое место трусов.








