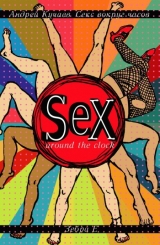
Текст книги "Sex Around The Clock. Секс вокруг часов"
Автор книги: Андрей Кучаев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
– Не самое подоходящее время для выпивки, а? – сухо съязвила она.
– Не могу заснуть, – он разозлился.
– Возьми стакан что ли, – она первый раз обратилась на «ты» и села.
– Не сердись… – он с удовольствием ощущал, что глоток сделал свое дело, он осмелел, нашел стакан с допотопным автомобилем на стекле, налил и посмотрел на хозяйку. Крепкая деваха с деревенской фигурой и личиком. Ждет, что я умаслю глаза и посягну на импортные прелести. «Ох, как ты ошибаешься, подруга!»
– Налить? – так и не выдавилось обращение «тебе», адресованное иностранной крале.
– Я не буду. Мне завтра рано на занятия.
Он выпил, закурил и взглянул на женщину, стараясь глядеть по анекдоту про солдата и бабу Ягу. Она ответила долгим взглядом. Словно изучала. Словно прикидывала его пригодность для жизни. И для секса – понял он ее взгляд.
Девушка была полная, с толстыми ногами, с небольшой грудью, совсем не в его вкусе. Очень здоровая: диэта – ди-этой, а жопу отрастила. Беда Запада – избыточный вес. Без своих «сорбоннских» очков и французских шмоток она гляделась женой зубного врача из Люберец. Ему стало неловко за свою холодность. Он нарочито окинул ее формы, нескромно разглядывая соски и темный треугольник. Она заметила и вспыхнула. Достала очки из кармана и надела.
– Хочешь поехать в Париж? – спросила она. Все-таки разговор закончился в постели. «Арманьяк» сделал свое дело. Она любила сзади, это все, что он запомнил. Гитарный зад в светлой щетинке.
Так это началось. Им нужен был человек, который отвезет всего-навсего книгу. Как он понял, редкую книгу, даже не русскую. Они отрыли какого-то редчайшего Шекспира. Ей пришло в голову, что с ним это будет надежней всего: за ним не числилось ни дессидентских связей, ни вообще связей, зафиксированных Лубянкой, его визиты сюда только ему одному казались засвеченными, он слишком недавно был сюда вхож, да и то в компании с обычной шлюшкой.
Ему быстро сделали приглашение к «дальней родственнице» через налаженный канал в ОВИРе. Книгу переплели вторично в переплет старого самоучителя английского, в ручной клади она должна была затеряться среди похожих дешевых изданий, какими пользуются студенты, изучающие язык. На всех уже были разрешительные штампы. Если не будут листать с пристрастием, должно пройти. Если нет…
Почему он согласился? Хотел отомстить? Пожалуй. За то давнее унижение. Он не предполагал, что случай подвернется, и он получит возможность вернуться туда, куда иные не могли попасть за целую жизнь.
Он, забегая вперед, отомстил, но застрял уже надолго… Вот до сего дня застрял.
А может быть, он застрял раньше? В Погорельском? Или в Александровском саду?
Главное – отомстил. За что? За свой позор. «За Родину, за…»
Когда-то, во время служебной поездки в Париж, по сути, халяве кой, его обули местные, взяли в том числе «гостиничные» деньги, это решило дело, – его вышибли из Франции уже свои, прервав командировку, не простив оплошности. Парень с серой наружностью в сером костюмчике. «Серый костюм», роман Владимира Андреева, забытого и расстрелянного писателя. «Серый», стукач, торгаш, о, если бы все забыть!
Унижение от своих мелких стукачей слилось с унижением от «ихних» мелких жуликов – и те, и те щелкнули его по носу, как дешевого пижона, теряющего голову от «прелестей» Запада. Они предполагали в нем этот комплекс, потому что всю жизнь сами и внушали Павлу этот комплекс, держа в клетке таких, как он.
Мелкая гебешная сошка, сами они унижались перед «фирмачами», ненавидя их, завидуя им, используя их, а его от них отлучали, так что непонятно было, кого следовало считать прокаженными – иностранцев или все-таки таких, как он, Павел?
Получалось, что прокаженный – он. А он хотел доказать, что это они, «серые» и есть презренные неприкасаемые. Ничуть не лучше сволочи, что его обчистила, «подставила», как теперь говорят. Он нахватался пожизненно арго трех стран. Все-таки журналист. Он им всем хотел отомстить. А для этого надо было до них добраться. Он даже в мечтах так далеко не заходил. Что у него будет случай съездить в Париж. За чей-то счет! Да еще с деньгами в кармане! И будет… Неужели будет? Возможность отомстить!
Это сейчас, после всего, легко говорить. Он выполнил все, что замышлял. Заплатил по всем счетам. И ему заплатили.
Вот почему он согласился тогда: он чувствовал, что все получится, и когда нибудь он вернется… Сколько лет прошло? Не счесть…
Перед той, второй поездкой в Лютецию он долго шатался по Москве. По любимым своим местам. У друзей была мастерская на Новокузнецкой улице, недалеко от метро Павелецкая кольцевая. Рядом с кинотеатром «Вымпел». Он зашел попрощаться, друзья не скрывали зависти: «Увидишь Париж!» (Они сами довольно скоро смотались в Германию. Начиналось время сплошных отъездов. «Полоса отъездов», если вспомнить Маканина). Они ели тогда рыбу. Хозяйка пересушила ее. Кажется, это был лосось. «Мне бы такие хоромы!» Он завидовал.
На другой стороне канала, ближе к дому Бахрушина, на набережной он занимался в мотосекции, они здесь катались на «К-125», собранных своими руками. Фамилия инструктора была Жемочкин. Он требовал собрать мотоцикл, прежде чем сесть на него. Они несколько месяцев пахли бензином. С черными ногтями. Он собрал свою «Кашку» уже в конце ноября. Было такхолодно, что колени мерзли на ветру. И он, студент первого курса, «рокер» по-нынешнему, с удовольствием надевал мамины теплые рейтузы. Супермен снаружи, маменькин сынок внутри. Интересно, как долго такая двойственность держится в мужчине? Мать обладала врожденной элегантностью, у нее он заметил как-то фото актера, игравшего Штрауса в «Большом вальсе» – «Шани», воплощение мужской силы и, как ему самому показалось, парикмахерской голливудской красоты. Он едва скрыл улыбку, когда случайно узнал, что мать так называет своего ухажера, профессора. «Шани»! Она, в свою очередь, смеялась над ним, над его изнеженностью и инфантильностью. Советовала «еще чулки надеть», как когда-то надевала ему младенцем. Он сдвигал брови. В известном смысле он так и не вырос, терпеть не мог мужчин с усиками «а ля Кларк Гейбл». Отсюда, вероятно, идея мести. А что, если пресловутая месть горцев, мусульманская хваленая мужественность – нечто иное, как маскировка? А под ней – мальчишеский комплекс подростков? Быть может, женщин они держат взаперти, чтобы скрыть сыновний комплекс? Слабость и зависимость? Он представил, как бы он разговаривал с суперменом Эженом-Эмилем Денисовым в чулках? На резинках. Вот смех – он, как фрау справа, в чулках! Правда, тогда таких не было, на нем был бы пояс с подвязками-пристежками, висящий на спинке стула в их общей комнате – холод и мать так и не заставили надеть, – но какой-то мостик вдруг перекинулся к соседке в самолетном кресле, он как будто на тысячную долю стал сам «фрау». Вспомнился Холден Колфилд из «Пропасти во ржи», в гостинице, как он видит в окне напротив фетишиста. Тот рядится в женское шмотье. «Подпорченный взрослый мир». Но он и внутри каждого подростка, поэтому подростки – будущие взрослые. И накакого подсознания нет. Есть нежелание быть взрослым и стремление вырасти поскорей. Греха не ведает безгрешный.
Сколько суровых мужчин скрывают под доспехами свою скрытую суть!
А дальше, на Малой Пионерской был корпус МИФИ, где у них были мастерские. Еще дальше, на Серпуховке, был бар, где пили пиво пьяницы его детства, их поджидали жены, уводили домой, многие были в хаки, 49-ой год! – у кого-то пустой рукав, у кого-то костыль. Позже и он сам, уже став молодым гулякой по моде 60-х, бурсако-студентом Хомой Брутом, сиживал там с друзьями, забыв про инвалидов, которые, прежде чем исчезнуть, истерли кресла до белизны, мрамор столов донцами кружек до глубоких морщин, какие сбегали у инвалидов в углы побелевших от войны губ. По праздникам водку продавали на этой же площади с грузовичков-«полуторок», откинув у них борта: водку наливали из «четвертей» в стаканы, на подносах лежали бутерброды с красной икрой, кильками и «краковской».
Демобилизованные еще какое-то время держали форс. На Полянке он вырос, его туда перевезли с Кропоткинской, ныне Пречистинки, где до сих пор стоит тот роддом…
Пройдя квартал по Ордынке, свернув налево к Полянке, попадешь в Погорельский, до которого нес его (восьмой класс) велосипед ЗИС красного цвета… Там он встретил ее… Свою первую любовь…
В Погорельском она жила, там он петлял наяву и растворялся в этой прохладной воде вечерних весенних тополей и душистого табака из палисадников, как кусок карбида в воде, дымясь, источая ацетилен, желая и страшась и зная, что она, Надя, живет для него, открыта ему, возможна! О счастье! Было?
Было!
Перед отъездом он мотался все по тем же местам, от Павелецкой до Калужской, где снесли кинотеатр «Авангард», устроенный в церкви византийского стиля, за которым сразу было нужное ему посольство Франции, где он подписал бумаги и поставил печать на приглашении. Напротив была свежеотреставрированная церковь, пряничная, он в саду при ней целовался когда-то прямо на паперти ночью… Прошел мимо, екнуло в груди.
Потом, помнится, он прошел по Якиманке, тогда Димитрова, спустился опять к Полянке, и оттуда, через мост, мимо «Ударника», мимо «Красного Октября» с трубами и ароматом какао-бобов через Большой Каменный в Александровский сад, на ту скамью, где они когда-то сидели с Надеждой… Он сел тогда, закурил, зажмурился и воззвал к канувшему, но роившемуся рядом. Вот он повернулся, потянулся губами, простер пальцы…
Он легко представил, что она рядом, и даже тихо сказал: «Люблю…» И повторил: «Люблю!» У нее была холодная щека с чуть сизым, голубиным румянцем. И белокурый золотой завиток над ухом, у виска. Краше любого «Диора» была та дешевая кофта, в которую она была закутана, она, дороже которой не будет, не было, не бывает. Которую он потерял, потому что не хранил. И жизнь не нужна. Пуста. Излишня.
Потому и уезжать не было тогда страшно.
Он не понимал, что оставляет. Словно чаял унести с собой всю эту топографию. И географию.
А как такую географию перенесешь на Запад? Болтовня все это про ностальгию. Человек сам представляет собой участок суши, где родился, жил, влюбился. Его нельзя вшить в одеяло чужой страны. Это – чужая кожа, как в нее что-то можно вшить? Только налепить, как пластырь.
Чужой край в душе – это крохотный сказочный замок в стеклянном шарике с ярмарки – потряси и любуйся стеариновыми хлопьями в глицерине, или что они там кладут… «Они»… «У них»… Никогда это не станет «у нас». «У меня».
У них, и вправду, все однотипно-комфортно. Стандартно-внешне-опрятно. Отлажено. И одинаково. Париж, Лондон, Мадрид, далее везде. Одни и те же авиакампании, одни и те же конторы проката машин, однотипные отели: от дешевых вокзальных «Ной – отелей» до Хилтонов, Аль-Хайятов и Негреско. Банки, бары, стойки, бармены и пьяницы – одни и те же в своих Редисонах: твидовый английский пиджак, дорогие парижские вельветовые брюки табачного цвета, итальянкие ботинки, блестящие нестерпимо (Катаев сравнил этот лоск с жидким стеклом). И чистые руки, и розовый маникюр, и парфьюм: «Престиж», «Аззаро», «Кензо», «Хуго»…
Их модные молодые бродяги, пилигримы воздушных дорог, волокут колоссальные мешки, запущенные и элегантные, как их хозяева. Они могут рухнуть, чтоб расслабиться, там, где стояли, и будут все равно уместны, как будто из фильма или с рекламного щита. Морды! Вот что еще важно: морды. Этот тип смотрит так, что ты понимаешь: он здесь дома, потому что это – Запад, а он – западный человек. И все, врученные ему права и свободы, у него в цвете лица, свежем, наглом, невинном и высокомерном от всего этого.
Они уверены, что все, на что они рассчитывают, будет им обеспечено, и что даже в случае забастовки работников воздушного транспорта все будет улажено так, что права работников воздушного транспорта не будут ущемлены, как и их право переместиться из пункта А в пункт Б неизвестно зачем и непонятно, на какие деньги. Они знают, что это не скифов, а их как раз «тьмы», тех, кто каждый – «неповторимая индивидуальность», личность, «западный человек», топчущий «латинские камни». Две войны, конфронтация времен «занавеса», коррупция, диффамация, инфляция и глобализация не вышибли из них этот дух, не отняли их прав. Но за всем этим – абсолютное ничтожество. Как везде! Маска. Все мы – не бог весть какие титаны. Мне, например, мало надо! Но пусть останется со мной это малое!
Почему же у меня-то это малое, да что там – все отняли! и никак не отдадут!? Я еду за всем этим назад, домой, я пытаюсь стать пацаном… Три минуты, как я стал им, несмышленым пацаном с Полянки девятнадцати лет и… схватил руками воздух!
Тогда он не понимал ничего про ту, их, западную жизнь. Чего он успел увидеть в свою первую парижскую командировку, в которой «погорел»? Гостиница, тесный номер, Монтан в телевизоре, забегаловка одна, другая… Чьи-то небритые рожи. Триумфальная арка недалеко от улицы Пуанкаре, где был отель. Потом пустой бумажник в руках у «Серого». Позор. Пинком под зад. Ром в аэропорту. Приземление в родную поземку.
Потому во второй раз все было немного нереально. Родителям он сказал, что уезжает в командировку, «как в тот раз!» Да они и не очень уже интересовались. Махнули рукой. Честолюбивая мать не представляла карьеры без постоянной солидной работы и не простила ему увольнения после Парижа.
В «тот раз» матери он не сказал, разумеется, что его вышибли, наврал, дескать – командировку сократили! Он тогда ей купил в ГУМе французские духи, потратился, подарил, как парижский сувенир, соврал – купил в «Тат-ти» – но она нюхом учуяла, что у него там был облом. Через некоторое время вернула духи со словами: «Я такими не пользуюсь, подари своим…» Она не закончила. Все-таки она знала его больше всех его женщин, считала слабаком. Да, месть – проявление слабости.
Перед своим вторым отъездом, «миссией мести», они еще с матерью не знали при прощании, что больше не увидятся. Что командировку не «сократят», а «удлиннят». На пять лет. Близости между ним и матерью особой никогда не было. Прохладные отношения женщины за пятьдесят и мужчины под тридцать. И теперь он и об этом жалел. Все гениальные люди нежно любили матерей и теряли их во младенчестве. Как Эдгар По. Но именно материнский комплекс заставил По влюбиться в мать приятеля. «Аннабель Ли». Это ей посвящены прекрасные строки! Тот же Пушкин. Тоже влюблялся в зрелых матрон, потеряв юную мать, тень Натали Гончаровой, затаившуюся в прошлом. Лев Толстой и двоюродная тетка, «женщина более всех других»!
Провожала его тогда одна очкастая Марианна из Сорбонны. Она понимала, что в случае удачи он к ней не вернется ни в каком виде. Она была лишь средством передвижения. Он ей шутя сказал, что собирается найти тех, кто его вышвырнул. Оттого и согласился на все. Она, кажется, всерьез не восприняла. На всякий случай сказала:
– Уверена, все будет хорошо. Захочешь, мы еще что-нибудь придумаем.
– Будем решать проблемы по мере поступления, – он скрыл дрожь малодушия (можно еще убежать!), чмокнул ее и зашагал к стойке таможенников, которую несколько лет назад проходил с гордо поднятой головой VIPa. И назад – с опущенной головой, с оборванной биркой липовой, как выяснилось, «важной персоны». «Неважная персона возвратилась в тот раз. Такчто, он едет мстить?» «Авдруг найдут контрабандного Шекспира? Опять облом?»
Он страшно нервничал, словно что-то предчувствовал. Он вез свои рисунки и диск со своими сатирическими текстами. Его по большому блату изготовил знакомый переводчик в закрытой лаборатории, тогда, в 89-м, еще не было возможности писать дома на своем компьютере с бреннером-«выжигателем». Переводчик перевел и записал. Он сунул от страха этот диск в плоский футляр из-под «Лебединого», в музыкальный сувенир.
Петра Ильича без футляра обернул фольгой и положил в пакет с газетами, сигаретами, плиткой шоколада и куском курицы – взял по старой привычке. Пакет нес с собой к стойке таможни. Хотел от страха по дороге его выбросить, не успел.
Таможенный осмотр в Шереметьеве поначалу шел гладко, но в какой-то момент таможенник, заметив его нервозность, пригласил за отдельный стол досмотра, потребовал вывалить все книги, стал их трясти, как в кино про шпионов, вместо того, чтобы пролистывать. Сувенирный диск с «Чайковским» он передал коллеге, та ушла с ним куда-то. «Все! – решил он. – Сейчас накроют! А ведь шутки копеечные! Постперестроечный шиш в кармане!» В сумке таможенник надорвал подкладку, выпотрошил картон, укреплявший дно. Шекспира в фальшивой обложке таможенник взял последним, из него выпала закладка с только что появившейся голографической картинкой – японка в кимоно, нагнешь – без, в одних черных чулках.
Он угодливо сказал: «Возьмите, подарок!» Таможенник чуть не швырнул ему и закладку, и книгу. Все-таки они легкомысленно придумали: инкунабула в фальшивых «досках»! Да и он с этими своими сатирами туда же…
Вернулась женщина-таможенница с диском.
– Это ваши записи?
– Да! Я еду по литературным делам! Записи для общего знакомства! Вот мой членский билет групкома драматургов!
– Уберите. Рукописи перевозить запрещено! – и она щвырнула диск в корзину с реквизированным ранее. – Так, ерунда! – бросила она сквозь зубы коллеге.
– Я был не в курсе… Мы встречаемся с работниками «Межкниги»… – он был жалок.
– Проходите. Записи, как рукописи, не положено, вам должно быть известно…
– Я не знал, нам говорили… – он пихал пакет в рамку и бормотал: «Ну, и хрен бы с ними!»
Пакет, разумеется, «зазвонил».
Таможенник брезгливо вывернул его на черный транспортер. Шоколад в надорванной обертке, две пачки «Марльборо», одна открыта. Фольга с куриной ногой, солью и хлебом, как не доел в буфете, и там внутри – «Лебединое». Он хотел в порыве холопской исполнительности сам им показать, развернуть, но его уже отмели с его скарбом:
– Проходите, не задерживайте! Еду тоже нельзя везти, бросьте вон там! – и баба отвернулась. Он сделал вид, что собирается бросить, но что-то удержало. Жест – и он шмыгнул дальше со своей курицей и шоколадом.
Летел он в туристском классе, выпивки не давали. Курицу давали на обед, так что свою он повез в пакете дальше. «Дурак, что не бросил!» Диск в фольге он положил в карман с шоколадом и сигаретами. Денег у него не было, его встречали в аэропорту. Рядом тоже сидела женщина, как сегодня, он ненароком задел ее, она полоснула его тигриным взглядом. Он был жалкий, мятый, все понял. Прилетел усталый и злой, с головной болью. Вроде как не он прилетел, а кто-то другой. Затея с местью казалась нелепой и дикой. Без языка, без связей. Да и денег – мелочь. Обещали потом заплатить. «Не бойся, много не заплатят! – подковыривал он сам себя. – А тебе надо много!»
Французская таможня не заглянула ни в чемодан, ни в пакет. Он сам выложил ключи, зажигалку, потекший шоколад, фольгу с диском и показал содержимое пакета женщине в форме. Она улыбнулась, заметив куриную ногу. Показала жестом – вперед!
Одет он был неряшливо – брюки на коленях от долгого сидения вытянулись. Вокруг шел элегантный, почти не пострадавший от перелета люд. Он еле дотерпел до зала, где тогда еще курили. К нему направился невзрачный господин, вычислив русского безошибочно. И как когда-то «Серый», господин, или «месье», не очень с ним церемонился. Он кивнул ему и взял властно из его рук сумку. «Миссия закончена!» – понял Павел. Во рту было противно от никотина и вчерашней выпивки. Хотелось кофе, но незнакомец провел его сразу к машине в многоярусную парковку. Господин быстро и умело проверил содержимое сумки.
– Больше ничего? Это все?
– Сувенир… Простите, был еще сувенир! – он подумал и не стал доставать из кармана диск в фольге и шоколад, раскисший до неприличия. – Отобрали на таможне…
Встречавший зорко «просканировал» его всего.
– «Лебединое озеро»! Конверт отобрали… Футляр в смысле… Извините.
Господин ничего не ответил. Его глаза как-то быстро окинули все вокруг, вспыхнули и погасли.
– Прошу со мной…
«Как в ментовке, когда это кончится? Нет, не по мне все эти „секретные миссии"!»
Приехали в отель, расположенный по иронии судьбы почти в том же месте, как «в тот раз», первый – от него два переулка кривым коленом приводили опять на Елисейские. Он разобрал на табличке одного из домов «Ларошфуко». Потом выяснилось, что ничего подобного, улице имя дал другой деятель, не то Фуше, не то Фош. Он не удержал в памяти. События слишком яростно исхлестали его тогда за короткое время. Он хорошо помнил: в тот, первый раз улица была названа в честь Пуанкаре. Это был главный ориентир. Там где-то – гнездо неприятеля.
Незнакомец привел его в номер, забрал книгу Шекспира, опять испытующе глянув на него, и исчез, не преддожив ни еды, ни денег… Он сидел в номере и всего опасался. Совок совком.
Стольких лет мне так и не хватило, чтобы стать «западным человеком», хотя, конечно, я теперь замечаю то, что с европейской точки зрения – дикость, называемая дискомфортом, она есть примета ущерба, который несет от варварства порядок. Порядок, установленный неимоверными историческими усилиями западным человеком для… самого себя. Одного!
Я же вижу эти нарушения, эти приметы бардака, извечного бардака! Потому что они для меня изначально узнаваемы, они для меня родные, как если бы фотографии моих родственников валялись в самых неподходящих местах, словно мусор, который «у них» не валяется, где попало.
Я вижу приметы разгрома и распада, потому что это – пароли, которые мне кричат родные души и ждут ответа! И нечего делать вид, что ты не знаешь отзыва! Пароль – «бардак»? Отзыв – «в кишлак»! «У них» я временно и случайно. «Временно» – это срок, «семь по семь» лет. «Случайно» – это сознательный побег, лишение гражданства, недолгая тюрьма за так и недоказанное уголовное преступление, больница в связи с серьезной травмой, выздоровление, реабилитация… Безумная везуха, деньги и, наконец, попытка «открутить» назад. Хоть на миг!
Ему, помнится, надоело сидеть в номере, ждать «шекспироведа». Не терпелось навестить знакомые места. Начиная с кафе, где его взяли на крючок и «повели» и потом «развели». Он встал, потянулся и пошел вниз, как когда-то, оставил ключ у такого же студенческого вида портье, вышел на улицу, прихватив машинально пакет. Внизу, как тогда, был магазинчик при отеле. В нем – ни души. Он краем глаза заметил, продавщица зевнула и ушла куда-то в дверь за прилавком. Он вошел тихо, придержал дверь одной ногой – иначе брякнет звонок на косяке – другой ногой сделал длинный шаг к стеллажам с товаром, снял с полки бутылку вина и круасаны в упаковке. Так же неторопливо выскользнул в туман улочки. Постоял, глядя сквозь заплаканное стекло витрины: через секунду мадам вернулась за прилавок.
Первая месть и первая везуха. «Мой день! – сказал он. – Моя ночь! Моя жизнь!» На вино и хлеб деньги у него какие-то были. Но он украл сейчас от азарта. Он репетировал месть! Он ликовал. Не то, что после ограбления когда-то, когда его унизили и выбросили.
Медленно он дошел до первой скамейки и сел: «Завтрак на траве. Париж стоит мессы».
«Черт! Пробка настоящая! Дорогое вино, видать!» – пользуясь старинной выучкой, он продавил пробку внутрь. Струйка вина остро брызнуло в лицо, запахло виноградным суслом. Он сделал первый глоток с трудом, потом вино полилось щедрее. «Хорошо!»
Он заглянул в пакет. Курица!
«Вот, милая, дошла очередь и до тебя!» – он достал многострадальную курицу и впился в нее зубами, рвал зубами и круасан. Закуска оказалась кстати. Рядом на скамью опустился человек со следами удаленных в детстве последствий «заячьей губы». Есть такой французский актер, вспомнил он. Играет бандитов крупного пошиба.
Незнакомец откашлялся и сказал в пространство с непонятным акцентом:
– Не помешаю, простите?
– Да нет! – машинально ответил он по-русски, ни капли сначала не удивившись.
– Простите, а диск? Неужели отобрали диск c Чайковским? Павел даже подпрыгнул. Только выпивка позволила не потерять самообладание.
– Да нет, а вы… Дело в том, что… Я чуть его не… Вот, собственно, этот диск…
– Можно взглянуть? – «заячья губа» протянул руку. Как в кино.
– Тут должен быть Чайковский… – Павел безропотно протянул пакет из фольги соседу.
– «Лебединое озеро». Это для меня, извините, что не подошел в аэропорту, – незнакомец умело скрыл возбуждение. – Задержался. Да так будет даже лучше! – Он решительно взял обернутый диск. – Вам разве не сказали? Сувенир для…?
– Нет… Но… – Павел искал способ намекнуть на свою находчивость. – Я его…
– Значит, забыли вам передать про меня. Предупредить! – перебил тип со шрамом под носом. – Ладно, я с вами еще свяжусь… – Незнакомец встал. – Пока не говорите никому, что мы виделись. Хорошо? Это ведь нетрудно. И в ваших интересах, поверьте! – он ушел, не оглядываясь. Словно боялся, что за ним следят.
«Хрен знает что! А если бы я выкинул?! Нет, дела! „Сатурн" совсем не виден! Проехали! После разберемся!»
После выпитого пришла блаженная расслабленность. Впервые за сутки.
Он бросил остатки хлеба голубям и пошел искать улицу Пуанкаре.
Прошлялся по сырым мостовым около часу и нашел. Вот они, те места, где ему пришлось пережить позор пять с чем-то лет назад. Та же по виду неказистая гостиница в том же узком доме. От гостиницы по памяти он легко нашел кафе, где его подцепили проходимцы. Кафе было открыто, несмотря на ранний час. Он вошел и сел за стол. Подошел официант, изображая любезность и радушие. Халдей, видно, плохо спал и выглядел ужасно.
Он заказал виски со льдом, как тогда – это было важно для акта мести. На виски денег могло не хватить. «В крайнем случае скажу, деньги забыл в гостинице, сейчас принесу, в залог оставлю хоть паспорт! Может быть, к тому времени кент с гонораром за Шекспира будет его ждать в отеле?»
Выпил залпом виски и быстро вышел, не дожидаясь официанта. Того все еще не было видно. Даже не ожидал от себя такой прыти!
«Вот, кафе этому отомстил. Пора в отель, почин сделан!»
«Не заплутать бы!»
Вот магазинчик.
Магазину он отомстил за то, что в прошлый раз продавщица вырвала у него бутылку вина, когда не хватило десяти сантимов. Сунула другую, дешевле. Ему тогда нужно было выпить до прихода «Серого», чтоб хватило духу признаться в краже. «Сука». Правда, магазин был при другой гостинице. Неважно. «Они все тут одна шайка!»
В стриптиз бар он пойдет вечером. Должны же ему заплатить за «операцию»! На Шекспире он мог сгореть, как пить дать. За диск тоже могли бы отдарить. «Чушь!»
В гостинице, в кафешке отеля, слава Богу, его ждал тот тип, который встречал в аэропорту. На этот раз тип улыбался.
– Бон суар! Как спалось?
– Все о кей!
– Завтракали?
– На какие шиши?
– О, надо было сказать… Позвольте, угощу вас кофе.
После кофе посланник-«шекспировед» рассчитался с ним. Тип отсчитал ему двадцать тысяч франков. Сам того не зная, тип отслюнил ему ровно столько, сколько у него вытянули прохиндеи «в тот раз»! Мелочь, по большому счету. Но у него пока другой счет. «Мистика! Звезды за меня!» Он чуть не расцеловал типа. Тот попрощался, не намекнув даже на следующую «работу».
«Один! Свободен, как ветер!»
Он проспал до вечера. Включил, проснувшись, телевизор на кронштейне. Проверил зачем-то обратный билет. «А придется ли лететь?» Почему-то сразу закралось сомнение. Приготовился всплакнуть об уже умершем Монтане. В новостях показывали Москву. Он расслабился и, действительно, заплакал.
«Пора!»
Так началась его Одиссея, которая вот аж когда подходит к концу!
Сейчас все позади. Он вот здесь, в салоне самолета «Аэрофлота» А-300, раньше таких у «Аэрофлота» не было. Он летит в Москву, чтобы прикоснуться к земле, подобно Антею. Пора восполнить запас жизненных сил. «Для чего?» «Для борьбы». «С кем?» «С Дьяволом». «Разве не с ним ты заключил договор?» «Хочу взять свою „расписку кровью" назад!»
На ракламном плакате «Аэрофлота» – девять глав Василия Блаженного.
«О, мой город, моя душа и камень его – мои мышцы, без которых не вдохнуть воздух в легкие».
Вот так я возвращаюсь – победитель на белом коне! Так они и исчезнут из моей жизни, эти чужаки – я их вычеркну дружной стайкой все преодолевших чужеземцев, гномов, немецких гипсовых газонных гномов. Амой дед, которому я тер худую спину, уже на улице купит мне тульский пряник, вкусней которого нет, но вкус этот для новых пришельцев так и останется неведомым, сколько бы они не сочинили историй про мировую несправедливость. Потому что сила идет из-под земли, и Антею достаточно дотронуться до нее, чтобы налиться силой, а в чужие души Яуза не втекает.
Нет никакого патриотизма, есть благословенное проклятие быть троянцем, или проклятая благодать принять жребий ахейца.
Я, он, мы родились там, где родились, нам выпал жребий отлить новорожденному памятник из золота воспоминаний. Неважно, что это всего-навсего воздушный замок, висящий над немецким автобаном. Женщины в платьях и париках идут к дороге…
Теперь на нем летнее пальто из кашемира, дорожный костюм от «Хуго босс» темнофиолетового оттенка, шерсть с хлопком, мнется по моде. (Выглаженный офисный смокинг-сьют в специальном чехле-сумке). Поддет под пиджак желтый шотландский легчайший пуловер из шерсти мериноса, под ним шелковая итальянская рубашка оливкового цвета. Шелковое английское белье. Шелковые, черные длинные носки. Ногти розово блестят после маникюра, свежая стрижка за сорок евро. Итальянские башмаки из тонкой кожи на ногах; в пакете из дорогого бутика – коричневые, дорогие, испанские сапоги кордовской кожи на случай слякоти. Платиновый массивный браслет на правой руке, на левой – «Шопард-хроно». Кольцо с изумрудом в белом золоте на левом мизинце. И татуировка на тыльной части ладони: «Pavel».
Он, якобы непреднамеренно, – сила приобретенной за «три минуты», (сорок сороков лет!) привычки – одет не по сезону легко, как человек, привыкший долго не ходить по холоду, вообще не ходить пешком, всюду должны прибывать вовремя заказанные машины, ждать забронированные номера-люкс.
Все-таки надо было одеться теплее. Там, небось, бардак, промокну, замерзну, простужусь, пропаду… Не притворяйся! Ты специально бросил вызов «ихним» порядкам! Ты хочешь простудиться, бормоча под нос: «Ну, вот! Бардак! Ачего еще от них ждать?» Ты отворачиваешься от собственного совкового образа, который глядит на тебя из зеркала, спрятанного внутри, от него не спрячешься. Хватит «жилить», Павел Николаевич. «Русак». «Совок». «Руссен»? «Рюс»!
Но ведь там, теперь уже «у них», в России, покончено с «совком»! Ты читаешь все газеты, в том числе русские, смотришь все новости «по Первому» и «по России», «свои» и «ихние». В тюрьме ты усовершенствовал свои лингвистические познания, научился почти сносно говорить по-немецки и по-английски. Твой усвоенный язык не выдаст «совка». Тот еще язык! Международный арго, блатная, но не музыка, лай, где английский «фак» и немецкое «шайссе» считаются достаточно бранными, а жест, комбинация из трех пальцев – наша предъявленная «фига» – верхом неприличия, наравне с большим средним пальцем, выставленным соло. Не ошибиться, не показать там второе вместо первого.








