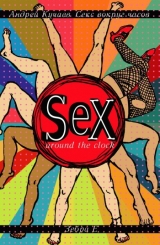
Текст книги "Sex Around The Clock. Секс вокруг часов"
Автор книги: Андрей Кучаев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
Некрасивая, с косолапой походкой, она страдал аллергией, насморком, была двоечницей и вдобавок – озлоблена на весь свет. Что за послания она ему несла? Почему он не умел их читать? Она что, намекала, что любое его счастье будет атаковано теми, кому дар счастья, удача и судьба не были вручены небом?
В чужой стране, в Берлине, она появилась также неожиданно, подошла в людном кафе с улыбкой во все свое некрасивое лицо, чуть не облобызала его и сразу сказала гадость: «Вот не ожидала, что ты окажешься тоже здесь!» Случайно увидела его с улицы, когда он сидел в «Адло-не». Он был в Берлине по делу, уже жителем Германии – доставал один русский журнал для претворения в жизнь своего дерзкого плана.
Она свалила из страны «по браку дочери с евреем», вот уже не повезло бедному, бывают у всех проколы! Он должен был где-то скоротать время до поезда и согласился придти к ней в гости. Его тянула какая-то странная нездоровая страсть, связанная, он подозревал, с ее ущербностью, которая позволяла надеяться на ее полную доступность. Хотя тогда он мог бы позволить себе любой каприз. Но посмеялась над ним она, посланница уродины-Родины. Парадокс?
Мысли такие в нем в тот вечер были очень не окончательные, скорее, из-за секс-поста, «гипотетические» поползновения. Вышло же еще хуже: она отомстила – ровно без пяти одиннадцать выперла его из квартиры в районе Шарлоттенбурга в темноту чужого незнакомого района. Он тогда шел и плевался. Отомстила за то, что поняла его намерения – его расчет на безотказность уродины, ненужной никому. Больше того – за то, что он был из «армии любовников», а она из «армии отверженных». Своим существованием она вносила сомнения в замысел Творца создать для каждого Петрарки его Лауру. Мир уродов, серых бездарностей требовал жертв. Он тоже претендовал, этот мир, на свою долю счастья. «Униженные и оскорбленные» не хотели видеть причиной своего унижения свою ничтожность, свое физическое уродство, свою неталантливость. Федор Михайлович наделил Неточку Незванову чистотой души, ничего не сказав о том, насколько чисто ее лицо.
И сейчас лицо вошедшей женщины было нечистым, некрасивым, фигура нелепой, ноги и прочее не соблазнили бы и подвыпившего солдата в увольнении. У нее дома он соблазнился мысленно, она угадала и отомстила: «Тебе не пора? Поздно, слушай, не успеешь на автобус! Да и придти могут ко мне…»
Она, эта кикимора, не понимала, но сверхъестественным образом догадывалась, что оскорбляет его далекую Любовь, его Надежду. Она попала в яблочко: он, отвергая в ее лице Некрасоту, мысленно оскорблял ее, унижал грязноватым желанием, а получая от нее отпор, он еще и унижал свою Любовь. Почему эта уродина понимала, что они связаны – та, его леденящая неземная и нетронутая страсть, и потные ладони злой и некрасивой неудачницы? Он не сумел дотянуться до звезд, его теперь на земле, в грязи имели право пинать ногами все женщины, кому это не покажется скучным.
Послушай, а разве не все имеют право на счастье?
То-то и оно, что все. Окажись с уродиной на необитаемом острове, что запоешь через… «Красота спасет мир?» «А страшилы более счастливы в браке!»
Вот и теперь она вошла в ту минуту, когда он всеми силами души вызывал к жизни из тины памяти самый светлый миг, чтобы умереть в нем или раствориться навечно. «Остановись, мгновение…»
Ей, конечно, было под пятьдесят. «Боже, да мне-то сколько? Чего я удивляюсь, что бабки теперь мне ровесницы?» Возраст бабушки. И в глазах, таких же мыльных, как прежде, он читал ненависть.
Жизнь вошедшей женщины была кончена во всех вариантах; его жизнь, он так решил сегодня, только начинается. Она попытается ужалить, это не страшно само по себе, пугает содержание послания судьбы, которое она всегда невольно несла с собой.
– Приветик! – начала она все-таки в некоторой растерянности. – Ты как здесь? Откуда? Я тебя еще внизу, в вестибюле, в холле увидела. Думаю, он или не он?
– Ты лучше о себе скажи: ты здесь опять вышибалой? – он не удержался от колкости.
– Я – топ-менеджер здесь. Попроще – дежурная ночной смены. Ну, можешь считать, вышибала. Если тебе так удобнее. Думаешь, пятизвездочный, так некого вышибать? – последнее она сказала с полной готовностью вышибить именно его, если есть хоть малейший повод.
– Я не о том. Я спрашиваю, чего ты ко мне явилась? Я никого не вызывал.
– Этот номер забронирован. Я должна…
– Я и забронировал. Еще вопросы? Всю информацию можно получить внизу.
– Ладно, не будь круче Шафутинского! – она поискала глазами возможных шлюх – ей, видно, коллега на что-то намекнул после своих заездов насчет «девочек». – Не советую приглашать в номер кого попало. А то быстро окажешься в ментовке или почище.
– Почище, это как?
– Забыл, как бывает? Ну да, ты ведь только-только оттуда… В Яузе не хочешь очутиться?
– А кого можно приглашать? Кого ты советуешь?
– Никого. Тебе – никого. Потому что тебя кинут. Обуют по полной программе. Ты давно у нас не был. Ты все забыл. Все изменилось. Я пять лет привыкала, а уезжала всего-то на три года. Помнишь? В Берлине? А ты? Ты сто лет здесь не был. Тут совсем уже другая жизнь началась.
– А мне кажется, что ничего не изменилось. Как не уезжал. Ладно, никого так никого. Выпьешь?
– Я на работе. Да и после работы с тобой здесь пить я не стала бы. Хочешь, приходи в гости.
– В одиннадцать выгонишь опять?
– Раньше. Чего с тобой делать-то?
Я не стал отвечать. Нечего было мне сказать этой женщине.
Она была самая никудышная. Ее все гоняли, никто с ней не дружил. У нее нашли искривление позвоночника, бронхит. Анекдот был, а не девочка. Училась на одни двойки. Как она вообще кем-то стала? Ей путь был один – в уборщицы туалета. «Топ-менеджер».
Я внимательно посмотрел на нее. В белесых глазах стояла обида. Мне опять представилось, что одна и та же сущность переселяется из одной оболочки в другую, притворяясь каждый раз новой, но в корне оставаясь прежней до абсурда. Случайность образа, внутри которого один и тот же некто – одна и та же! – безжалостная и беспощадная судьба. Она смотрит из бойниц-глаз, прикидывая, куда выстрелить. Если не приближаться, можно еще спастись. Но тебе высылается та, к которой ты обязательно приблизишься, и тогда – конец! Неужели и внутри моей Надежды тот же Враг?
Выходит, я спасся тогда, в далекой молодости, убежав от Любви? Избежал всего того же, что стояло сейчас передо мной. Той нет, и она мне кажется непостижимо прекрасной, потому что недостижима. Всегда один конец – сначала потеря свободы, потом потеря всего. Ночью ли, днем ли, на заре или на закате будут сброшены маски, «красное домино», и та самая панночка из хоровода утопленниц, обернувшись ведьмой, выклюет тебе очи.
Потом вырвет сердце. Как ведьма – дочка сотника в Страшной мести?
Не это ли происходит на каждом шагу, за каждым углом? Вот какое послание принесла мне Томка! Я вспомнил, как ее зовут, я всегда знал это имя, гнал прочь образ, укрытый в нем! «Ты брезгливо отворачиваешься от правды, потому что она забыла надеть карнавальный костюм Нины Арбениной».
Я посмотрел на Томку, на ней было стильное платье-униформа, синее, облегающее, из плотной ткани, похожей на парашютный шелк. Оно облегало ее и в то же время воздушно и мягко драпировало формы. Она еще поправилась. Угадывался бюстгальтер, туго сжавший ее по бокам, выпирали излишки повсюду, словно невидимая рука держала ее в упряже, с которой она рвалась. Видно, и внизу ее стискивала упаковка, с каждым движением появлялся рельеф живота, рассеченный надвое резинкой трусов под платьем, подпруги по диагоналям рассекали ягодицы, снизу выглядывали телесные дорогие чулки.
Она заметила мой взгляд и медленно покраснела. Ей было нетрудно, физиономия у нее была всегда красная, словно ее мучил постоянный жар.
Я представил ее без платья. Черный объемный лифчик и черные тугие тонги. Чулки… Тоже с кружевным охватом вместо подвязок, как у Шарлотты в самолете. И мне ее совсем не хотелось, наоборот: ужасало, что будь все это на другой женщине, чуть-чуть другой, я бы возбудился. В нестерпимо стыдном таком допущении был конец! Невозможность любви вообще! Если два-три штриха меняют притягательную силу Женщины, Соблазна, Вожделения на отвращающую от нее судорогу, то все – обман. Дразнилка. Дьявол!
Мной овладело такое отчаяние в ту минуту в номере отеля «Балчуг», что я мог бы не шутя выпрыгнуть из окна. Все теряло смысл. Даже «Незнакомка» Блока вызвала бы у меня в ту минуту истерический хохот: «Вот зачем ты пришла!». Я не помню, крикнул ли что-то подобное или подумал, но из номера я выскочил, схватив только пальто.
Разумеется, я пошел пешком в сторону Большого Каменного моста, потом, не доходя до «Ударника», повернул налево, на Полянку. Прошел два или три квартала: оба Казачьих переулка, Хвостов, миновал богатые терема в розовом кирпичном и керамическом кружеве поверху. Потом проскочил готический особняк, бывший Дом пионеров, в нем когда-то стояло чучело медведя при входе и пахло ацетоном из подвала, где в кружке мы клеили авиамодели эмалитом. Готов поклясться, что следы запаха о стались /Теперь особняк смотрел злым опричником, блестела бронзой доска у дверей, от них сбегал ковер прямо на тротуар.
Вот и Погорельский! Колыбель любви-Надежды. Помню. Он пролегает на месте доисторического оврага – круто падает вниз, когда-то сюда заворачивал восьмой троллейбус, с воем рушился в асфальтовую яму, летел мимо ее дома, барака желтого казенного цвета за узким штакетником. Давно сменил маршрут восьмой, нет штакетника, нет и барака. Модный офис, газон, виден амбал внутри сквозь щель со своей позорной мордой и дубинкой, вперился в экран. Камера висит над крылечком. И опять ковер. Не хватает только Паратова в исполнении Кторова. Середину этого учебника истории вырвали. Там были богачи и страсти, и тут богачи и их позорные страсти. И позорная и там и тут любовь. Алисова играла хорошо, но что? Как она вышла замуж за ничтожество, чтобы прикрывать грех с толстосумом? Смазливым богачом? И гитара, и романсы. И Акакий Акакиевич берется за пистолет, мстить за униженных и оскорбленных… Вырванная середина – это замоскворецкие пацаны и оторвы из бараков.
Кто хотел сломать распорядок и доказать, что здесь место для Вестсайдской истории? Вот он, я! А моя Бесприданница в школьном платье уехала на острова… Даже Томка, страшила и сама нелепость, презирает меня за этот порыв.
Я направился к Ордынке, мимо угла, на котором сохранился чудом магазин на месте «угловой» булочной, если в других свежий хлеб кончался, я мальчишкой шел сюда, когда посылали. Пятьдесят с лишним лет назад! Неслабо!?А я помню запах той булочной, нож с ручкой, род гильотины, падающей в дюралевую щель, какой разрезали буханки черного одним маховым жестом. И запах сушек. И пряников. И запах восточных сладостей. Но все заслонял запах свежего, только что разрезанного душистого ржаного хлеба. Я пойду по улице, пощипывая довесок, провожая глазами задастых и ногастых девок в хаки, что тащат рвущийся в небеса аэростат – «колбасу». Сорок шестой год, но их все таскают, видно, вождь в Кремле еще опасается налета на его персону. Хотя нет – к празднику на аэростатах подвесят в недосягаемой выси портрет Вождя, подсветив его прожекторами.
Я спасся. Любовь отдельно, Надежда – отдельно, Надя – живая и сумасшедше притягательная. Не ты висишь в небе, в перекрестии дымящихся самурайских мечей?
Да разве ты спасся? Сколько раз ты «влипал»? Попадал в этот капкан. «Но уже без любви!» – кричу я и готов заплакать. Вот о чем Вертер «уже написан» – лучше смерть, чем мещанская любовь и страсть, гитара и пистолет в грудь соблазнителя. А если б не убил? Жил бы да жил, поживал, детей наживал! Вот зачем написан Вертер!
«Вот прошло четыре года:
Три у Банкова урода
Родились за это время
Неизвестно, для чего…»
Недоношенный четвертый / Пал добычею аборта…
А где в это время был Пастернак? Отчего умер сын Цветаевой? От голода, успокойтесь. Зевс перелюбил всех, включая коров. Он страдал? Как Вертер? Да что за бред!
Нефтяной шейх Аллах Перлов-Петрарков страдает по своему гарему, до которого он так и не посмел дотронуться!
Камасутра написана очень набожными людьми, а в храме любви поселились обезьяны, тем не менее!
«Чего ты потерял в своем прошлом? Пошлость? Ах, любовь…» Мост, висящий над автобаном, парящий виадук, ведущий на остров Кипр…
По Большой Ордынке я вышел на Малую, потом на Пятницкую через Голиковский, тут я купил бутылку пива, пригубил и понял, что это – явно не последняя, что напьюсь, несмотря на запреты немецких кардиологов.
А вот и дом, где я познакомился со своей первой женой! Ей… ужас, сколько лет! Она ведь была старше на… Смелее – на двенадцать лет! Интересно, жива?
Он очень смешно женился в первый раз.
Роман тот можно было бы назвать «Антилолита».
Начался он в этом варианте не с мамаши, а с дочки. Тростиночка-нимфетка влюбилась в него до комического абсурда. Только ее возраст – те же двенадцать лет – делал эту патологическую страсть и нелепой и смешной. Он так и относился к такой страсти – как к детскому, легко изживаемому капризу. В доме своих дальних родственников все смеялись над ними – взрослым парнем и малышкой, обезумевшей вдруг, как взрослая, от любви к нему. Шутили, не считали нужным даже слишком уж обращать внимание.
Ее мать, побывавшая очередной раз замужем и освободившаяся, отдыхала в любовной паузе, посмеиваясь вместе со всеми.
Это была моложавая опытная дама, как сказано уже, на-неважно-сколько-лет старше его. Дочке было двенадцать, матери – за тридцать, ему – посередине где-то. Около двадцати. С одной – рано, с другой – поздно.
Конечно, ни к той, ни к другой серьезных чувств он не испытывал. Одна мала, другая стара, но боль от той, первой любви как-то легко исчезла именно тогда; спряталась, как выяснилось спустя вон сколько лет! Спряталась оскорбленно, понял он теперь.
Мать обезумевшего мотылька казалась младше своих тридцати с чем-то лет. Хрупкая, грациозная художница, в меру ленивая, она больше преподавала. Много курила, любила пасьянсы. Один угол рта сверху всегда был испачкан пеплом, она так стряхивала его с сигареты, что он оставался сначала на пальце, потом на губе, которую она чуть подпирала – привычка. Он, бывая в доме, частенько оставался с ней вдвоем – девочка в школе, хозяева, коим стареющая художница приходилась родственницей, часто жили на даче. Спрашивается, чего он ходил? Причем стараясь угадать, когда она одна?
Поводом для визитов была его дружба с хозяйским сыном. Сын уже посматривал подозрительно – он уклонялся от привычных совместных развлечений, оставался, придумывая всякий раз повод: обещал художнице почитать стихи, что дали на вечер, помочь с уроками девочке, когда та вернется из школы, и прочая чепуха. Почему он ходил с таким упорством? С таким высиживают добычу на охоте. Караулят. Ведь у него были девушки в ту пору, которые жаждали его общества. Одну звали Люба. Тоже художница, изящная девочка с низким голосом. Огромные серые глаза. А он запал на «старуху»! Почти был влюблен и… перся сюда! Он просто не смотрел на юных, ему предназначенных, только нажми он, потянись! Нет, летел к «старой и малой».
Мамаша делала вид, что не замечает его нарочитого присутствия. Раскладывала карты. Домашние к нему привыкли, гоняли иногда в магазин, в химчистку.
Он пошутил как-то: «Женюсь на дочери, если вы не против!» «Буду счастлива! Если вы не женитесь – сидеть ей в девках с таким характером и такой внешностью!» Они еще были на «вы»! Малышка была вылитый гадкий утенок, но со всеми приметами будущего лебедя. Он-то видел, понимал. До восемнадцати оставалось еще пять лет. Он теперь всем говорил, что «ждет». Слух об этом прошел, ему удивлялись, смеяться перестали, ждали, когда все перебесятся.
Так случилось, что художница Инна попросила отвезти ее на машине на дачу. Он получил давно права, ездил от случая к случаю, денег у него на авто не было и в помине. У дальних родственников Инны была машина, но вести ее было некому, родственники уехали на гастроли. Скопилось много вещей, она попросила сесть за руль, он необдуманно согласился. Без практики, с двумя женщинами «на борту». Но молодость не очень рассуждает.
Разумеется, они попали в аварию. Чудом остались живы, но Инна повредила колено. Вот такая вина, тень вины легли на него. Кругом шутили: «Искалечил женщину – женись!» Все смеялись. «Так он же метит в зятья! Причем тут я!» – махала руками мамаша, но при этом смотрела на него как-то по-новому. Слава Богу, она не стала хромать, колено поправилось.
Куда-то он шел не туда. Он это чувствовал, и все это чувствовали. Он в то время вел студию юмора, мечтал стать автором Райкина. Еще писал для театра. Без особого успеха, но мечтал увидеть свою пьесу на сцене. В ту пору они все бредили искусством. Сразу всеми его щедрыми областями – рисовали, сочиняли, представляли в студиях. Весь их тогдашний круг. Его круг. С прежним, Полянским, Томкиным он порвал. Предал?
Инна приглашала его на свои занятия – посмотреть и послушать, все-таки он «тоже художник», «в высшем смысле». Он зачем-то соглашался. Хотя подозревал, что его используют просто как провожатого. Вечерами, особенно зимой, в том районе, где она вела изостудию, одной женщине ходить было небезопасно. Шли после занятий, она держала его под руку. И он испытывал непонятное возбуждение от этого крепкого пожатия. Иногда она перекладывала его руку под свою, чтоб он вел ее по колдобинам того района – Марьина роща. Там его однажды все-таки прижали хулиганы, местная опасная шпана, когда он шел один, забрать Инну после занятий.
Заводила остановил его и грубо сказал: «Ты с кем тут гуляешь, фраер?» Он что-то стал бормотать, испугался. Местная шпана славилась беспощадностью и цинизмом. Они были далеки от всех искусств. Тем более непонятен был их интерес: «Она ж тут со всеми! Она после занятий тут в клубе с малолетками оставалась!» Бить они его не стали. Просто унизили и оставили в темном, заплеванном, чужом, пропахшем мочой парадном. Ножи только показали из кармана. Может быть, это были просто пальцы…
«Отомщу! Я вас… вы у меня… Посажу! Уничтожу!»
Никого он не уничтожил. Только грозился. «Неужели я трус? И не могу за себя постоять? Защитить честь любимой?» «Ах, она уже любимая! Так вот – не можешь!»
Он спросил у Инны, давно ли она в том клубе ведет студию? «Давно! Я тут – местная достопримечательность. Тут такие страсти горели… Повлюблялись они все в меня, даже родители приходили. Представляешь? Потом отстали…»
Урки не совсем и врали – что-то было. «Она побаивается не зря. Не зря просит встречать». «Как-то быстро я попал под башмак, между прочим!»
Странно, но это не отвратило его от женщины, а наоборот – раззадорило.
Он понял. Они унизили его женщину, надо было драться. Он не набрался решимости. Струсил. Тем самым он подписался под протоколом обвинения. Взял ответственность на себя. Отступиться теперь от «своих» женщин означало согласиться с несправедливым обвинением, да еще не посещать виновницу у столба позора, обегать свой стыд стороной. Он должен был своей привязанностью, верностью доказать их непричастность к грязи и наветам!
Боже, сколько связей возникает у человека с миром помимо его воли! Незримых связей, которые вяжут прочнее видимых. Он ужаснулся. Всего-то были взгляды искоса со стороны, прижатые локти, нелепые шутки! И он уже повязан, да как!
Может быть, он искал рабства? Как все мы только его и ищем?
Потом было какое-то охлаждение. Влюбленная в него девочка тяжело переживала свой возраст превращения из куколки в куклу. Мать ее выпутывалась из отношений с вдруг решившим к ней вернуться мужем.
Он взялся возродить бесплотную и безответную любовь, придумав себе предмет поклонения – капризную избалованную девушку из артистической известной семьи. Она мучила его долгими разговорами по телефону, принимала дома не иначе, как в присутствии подруги, мучила и смеялась над ним вволю, смешила подругу. Он тянул и тянул эти отношения. Мучиться ему нравилось.
У его новой избранницы голос был тоже, как у большеглазой Любы, низкий, чуть треснутый, она смотрела на него откуда-то издалека, словно не соглашалась с давней потерей, через которую надо было переступить на пути к нему. Он почти полюбил ее. Внушил себе, что влюблен. Как-то он говорил с ней по телефону целый час, так и не заметив, что друзья отключили телефон. С кем он говорил? С той, которую нашел, или той, которую не хотел искать? Голос с хрипотцой звучал у него внутри, а серые глаза излучали все тот же страшный свет, имеющий один источник. Так ничем и не кончилось, хотя он чувствовал – девушка эта – его!
Но исподволь он чувствовал свою несвободу. Свой отложенный до поры долг.
Первой позвонила Инна. Куда пропал, и все такое. Приглашала на день рождения – девочке семнадцать! Он так понял, что намекали на готовность заказанного блюда.
Шел он с подарком – глиняные бусы из салона, страшно нелепые, как весь роман – в самых смятенных чувствах. Что-то выходило из надуманного вполне взрослое, даже драматическое, а выглядеть хотело комическим. И все почему-то хотели, чтобы сошло за шутку это сватовство.
Праздновали в большой квартире ее родителей на «Аэропорту». Пригласили полный дом старых друзей и родственников, которые их и и познакомили, у которых она обычно проводила почти все время. Он пришел сюда впервые, все здесь было чужим. Чья-то долгая и непростая жизнь смотрела со стен серьезно и вопрошающе. Книги, фотографии, одежда на вешалке.
Это, оказывается, было страшно – подступиться к чужой жизни всерьез, вообразить, что после каких-то формальных жестов и почти ритуальных действий можно стать участником этой чужой жизни, обладателем этого юного существа. Он опять был не готов. Но тянуло именно ко всему такому чужому в ней, в ее матери, в их кровной связи, которая могла стать каким-то чудом и его связью с ними, кровной тоже. Странно устроен этот мир – сводит чужих, и как-то становятся они родными.
Или за короткое время все изменилось и в нем, и в этих двух женщинах? То и другое. Никто и ничто не меняется так, как меняется расположение звезд, откуда и прилетают они, таинственные ангелы нашей жизни, несущие золотые зерна нашей смерти.
На мгновение у него возникло чувство, что он здесь давно. Что не лепиться надо к этой чужой жизни, а давно пора рвать с ней. Не жениться надо, а уходить, как это бывает у людей после долгого и нудного брака.
Вот ведь его семейные друзья, такие близкие и спаянные между собой, тоже были когда-то недоверчиво чужими, и им пришлось переступать этот барьер, черту, пропасть. Уцелели, живут и родили счастливых детей. («Вот двое – и уже Бог!» Бердяев? Розанов? Не помнит). Он старался подавить чувство неловкости, прогнать фальшь, внушить себе, что все идет, как надо. Он позволил посадить себя рядом с именинницей, даже позволил кричать «горько» в шутку, так же в шутку чмокнул девочку.
– Так и быть, я дам разрешение! – смеялась Инна. – Еще год нужно будет мое разрешение. Если ты, конечно, не передумал.
Они шутили, смеялись, девочка повисла на нем, ей было нехорошо, совсем не умела пить. Все чувствовали себя неловко, позволив ей впервые взрослое застолье. Они с матерью уложили девчонку, гости разошлись, он остался на правах то ли родственника, то ли ночного грабителя.
Курили в кухне, она рассказывала про своего бывшего последнего мужа, уже не отца дочери – его «невесты». Речь шла о ревнивце, диком и неуправляемом. Вдруг стало ясно, что Инна набивает себе цену, описывая возбужденные ею страсти. Ему стало скучно и стыдно. Она сменила тему, стала рассказывать о матери и отчиме, которые жили в этой квартире. Неловкость усилилась, словно без его ведома его представили родственникам как жениха.
Женщина спросила:
– Ты останешься?
– Не знаю, – сказал он. – Я не стесню тебя?
– Постелю тебе в кабинете, – она вздохнула и встала. – Она будет рада.
Инна пошла стелить, девочка спала в столовой, где еще было не убрано со стола.
В спальне, он заметил еще раньше, бесстыдно стояла кровать арабского происхождения, самодовольно заявляющая о прочных семейных отношениях. Во время альковных утех тут рассчитывали, вероятно, на отсутствие посторонних, вместо дверей были занавески из бамбука с лотосами и птицами.
Зашумела вода.
«Что со мной? Почему я сижу здесь? Ведь нет во мне ни капли того, что на человеческом языке называется любовью. А я жду. Чего?» И ответил себе: «Известно, чего, ты хочешь спать с Инной. Просто спать. Спать без любви. Такое встречается, когда любовь отделили и спрятали. Потеряли и не хотят вспоминать. Это обратная сторона любви. Или, наоборот, изнанка секса – любовь? И если ты сделаешь это без любви, искалечишь себе жизнь. Почему же ты сидишь? Понимаешь, но будешь сидеть. Почему? Почему тысячи, сотни тысяч мужчин вот так сидят с пустым сердцем и ждут женской милости, ласки?» «А другие сотни тысяч, если не миллионы, мечтают об этом? Кто проклял род человеческий?»
Объяснений не было. Она пришла из ванной в халате, с полотенцем вокруг головы.
– Иди, прими душ, – сказала она по-домашнему, энергично вытирая волосы, собранные в жгут.
«Похоже, влип…»
Он пошел, заглянул в кухню, сюда весь вечер выходили курить, потому что дом был «некурящий». Окно все еще было приоткрыто. В окне виден был дом рядом. Он так же светился окнами. Он вошел, закурил, выставил лицо в ночь. Под прямым углом шел вплотную соседний корпус, – квартира родителей Инны была последней, – соседнее окно в том доме светилось совсем рядом. Там стояла женщина, совсем незнакомая молодая женщина, пожалуй, чуть моложе Инны. Она медленно раздевалась. Их разделяло каких-то три метра. Он видел все очетливо. У женщины в окне было очень белое (Инна была смуглянкой), крепкое тело. Смотреть было стыдно и оттого мучительно приятно. Он впервые с мальчишеских лет подглядывал. В детстве он как-то подглядывал за соседкой, не очень таясь, ему казалось, соседка была не против. Во всяком случае она ему кое-что позволяла. Она забегала в ванную комнату, когда он после ванны не успевал выйти, еще одевался, она смеясь бросала: «Не смотрю, не смотрю на тебя! И ты на меня не очень гляди, у нас гости – тут переоденусь быстренько!» Он, конечно, подсматривал, отвернувшись для вида, но не совсем. Соседка стояла близко, скинув халат, она совсем голая наклонялась и почти касалась его, толкала не без умысла, озорничала. Плоские груди с черными сосками чуть шлепали, когда она натягивала сначала простые чулки, живот одной складкой открывал и закрывал шелковую челку между ног, когда она накатывала круглые резинки снизу-вверх-опять вниз, на белые ляжки наползал тугой валик чулка… Лира розовой попы маячила рядом, толкалась в него ласково… Выпрямившись, женщина набрасывала упряжь лифчика, заводила руку за спину, боролась с застежкой на спине. Так они стояли лицом к лицу, глаза ее смеялись, его упирались в… Дрожание капель на легком меху. Потом вишневая рубашка взмывала флагом на поднятых руках, чтобы вишневый занавес опустился, закрыв Венеру перед зеркалом от глаз озабоченного подростка. Трусы она надевала с торжеством победительницы. А он знал, что вечером будет тискать ее немного, и тоже смотрел хозяином.
Он то распалялся, то совсем терялся. Ее смех и шутки все сводили к простой неловкости и стыду: «Ай, нехорошо подсматривать! Я тебе в матери гожусь!»
Мать водила в душ на своем заводе. Бесцеремонно вела его в помещение, полное пара и работниц ее лаборатории. На нее кричали: «Куда же ты привела мужчину, Шурочка!» Она отмахивалась: «Где вы тут увидали мужчину? Если я его одного отпущу, опять будет грязный с непромытой головой! Только вшей не хватало!» Время было еще без горячей воды, грели на керосинках, душ был роскошью, на приличия обращали внимание для проформы. Он смущаясь забивался в угол, становился спиной, не знал, куда девать глаза, когда вокруг распаренные, неодетые и полуодетые женские тела словно нарочно лезли в поле зрения. И смех: «Жених уже, его к бабам и пускать-то опасно!» Мать заталкивала его в кабину, не церемонясь натирала простым мылом и толкала под горячие струи. Он честно не смотрел, стискивая веки, потом и мыло не давало их разлепить. Он знал, что не должен видеть их, этих женщин, пострадает что-то важнее их стыдливости и его целомудрия. Что – он тогда не знал.
Смеялся, вспоминая: «Во дурак был! В малиннике жил и не пользовался!» Не потискал их, не напугал! Они ведь были по сути молодые и озорные, и голодные на это самое! Но тогда – тогда он не смел и знал, что под пыткой не взглянет! И старался не думать, что к нему прислоняется жаркое, мокрое, колючее и мягкое, шлепает по лопаткам, когда мать трет его нещадно мочалом из лыка, не доверяя его старательности в серьезном деле гигиены! И не хотел понимать, во что невидящим взором упирался он, когда голос звал: «Держи!» И в руках у него оказывалось полотенце, куда он зарывал свое лицо, но в щелки промельком сверкали черные и рыжие подмышки, животы… Вот откуда эта память!
Он не знал тогда еще, что есть два рода грехов. Одни известны из Катехизисов и поучительной литературы: семь смертных и еще сто раз по семь. Если их не совершать – спасешься. И есть грехи другого рода, «неземные». Их совершают те, кто вырвался из плена земного греха. Это грехи апостолов и монахов, ангелов и архангелов. Грехи редких праведников среди людей. За них низвергают с небес и строго судят в горних высях, на потолке Сикстинской капеллы и в храме из «Грозы». Но на небо надо еще попасть. Для этого и отказываются от земных радостей. Все, что ведет к земным радостям – уговор с Нечистым. Грех. Ты поди, откажись! Но иначе понастоящему не спасешься. Тех, кто остается для Вечной жизни, совсем немного. И в первую очередь это праведники «поневоле»: блаженные, смиренные, святые. Куда ему! Он шел на ощупь и знал, что ищет не опору, а плоть…
Возможность отказаться от земного соблазна подстерегает на каждом шагу. Но не отказываются. А надо всего-навсего отказаться от «подглядывания» за рядовой повседневностью, всегда грязной, нечистой – иначе земное не воспроизводится, небесное не воспаряет из него…
Потом провели газ, походы в душ кончились, но они с ребятами проходили непременно мимо женского душа в полуподвале Филатовской, когда проходным с Люсиновки шли на Большую Серпуховскую. С гоготом заглядывали в парящие форточки, вызывая визг, брань и соленые шутки женщин. Как-то пустили через форточку к ним вымазанного мазутом кота! И глаза блестели – ритуал коллективной стыдливости, вот как он расшифровал много позже эту проделку. Наказали мывшихся женщин за соблазнительность, сберегая свое целомудрие, данное не для них…








