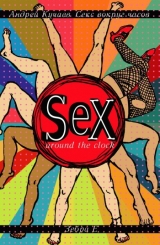
Текст книги "Sex Around The Clock. Секс вокруг часов"
Автор книги: Андрей Кучаев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
Я вспомнил, что не купил выпивки. У матери был только медицинский спирт – дежурный запас, который я до сих пор не прикончил. Я достал его из-под белья, где прятал спирт от самого себя. Негритянка, – при свете она оказалась мулаткой в тоновой штукатурке – стучала ногтем по циферблату своих дешевейших ходиков из Сингапура, топорно сделанных под золотые «Картье на бочку».
– Может, у тебя есть чего? – она шарила глазами и шевелила широкими ноздрями, безуспешно пытаясь уловить приметы и запахи – ни жженой коноплей не пахло, не наблюдалось ни спиртовок, ни ложечек, ни стола под стеклом со следами от полосок не просматривалось. Мещанский уют плюс книги в стеллажах. Даже техники продвинутой не было. Цветной телевизор был и тот – «Рубин» из раскопок.
– Не держу. Обойдемся спиртом. – Я остановил жестом выступления. – Компенсирую дискомфорт, о кей? И переработку сверх договора, если потребуется.
– Вот поэтому не люблю ходить к старикам! – она немного успокоилась. – Пойду что ли вымоюсь?
У «мамки» она живет, возможно, в сарае для коз, где-нибудь в Красково, но должна с понтом вести себя, как будто кроме пентхаузов ничего отродясь не видела. Кстати, в человеческой обстановке она, наверное, была последний раз в деревенской наемной горнице, когда пыталась учиться в техникуме Козельска, Зарайска или Жиздры. Столько книг вместе она видела, пожалуй, только в кино.
Я понял, что она занюхает разочарование в ванной без свидетелей. Нос у нее был создан для этого и уже чуть «выгорел» – побелел на самом пятачке.
Дурь я курил безуспешно на югах в молодости. В Амстердаме я пробовал траву, купленую у негра, по-моему, это было чистое парево. Еще в Неаполе (турпоездка! Ужас группы!) в диско, во времена панк-движения, с тем же эффектом. Кокаин я нюхать боялся, мой двоюродный брат попадал в Сербского регулярно за как раз кокс. Короче, поздно осваивать в угоду моде. Мне выше крыши хватало проблем с алкоголем. Тут я был доктором, профессором. Гребаный шестидесятник. В дурдоме мне молодой наркоша так и сказал: «Чего с водярой мажетесь? Опиум чище, а по эффекту – несравнимо. Другой кайф, пора осознать!!»
Сережку из уха я вынул в прошлом году и смотрел на старперов с серьгами с плохо скрываемой брезгливостью, за исключением седых байкеров в коже.
– Где ты видела стариков? – я любовно смешал спирт с лимонным концентратом в лабораторной посуде. – И вообще – ты тут перестань изображать мадам Робски. Ты забыла, где загорела?
– Ну и что? – она высунулась из совмещенных удобств со спущенной мини. – Нас в училище в Жиздре был целый интернационал! Даже из Камеруна одной письма писал папанька!
– Вот ты сама и продолжай писать, маманька! А про кокаин смотри по ящику крими!
Негритянка уже плескалась в сидячей ванной. Спирт, конечно, согрелся. Я бросил лед в два стакана и разлил продукт. Я предвкушал кайф, под который можно не торопясь вспомнить главное в минувшем дне – открытую дверь, солнце на крышах, голос без лица. Небесное воркование. И что последовало потом. Я хорошо отхлебнул, пьяный я начинал любить плохую литературу с ее дешевыми эффектами.
«Что-то сейчас делает леди Гвиневера? А та? Другая? – и такая боль и такой стыд от своего малодушия захлестнули меня, что взвыл в голос. – Неужели расчет? Из-за книжки?»
И мерзко стало. И ответ не был однозначным. Молча смотрели на меня мамины вещи. Укоряли?
После смерти матери исчезли мои ангелы-хранители: «Выплывай один!»
Мои грезы прервала голая негритянка. Рабыня-Пизау-ра. Она набросила желтый махровый халат, плюхнулась в любимое мамино кресло и потянулась к выпивке на журнальном столе – ляжки раздвинулись, но выстрел из Кодорского ущелья или из джунглей Ла Платы не достиг цели. Я понял, что и с ней у меня ничего не получится.
Я подождал, когда она хоть чуть потащится от пелевинской смеси – спирта с коксом. Она сама перешла на кровать и легла. Пока шла, я убедился, что задница у нее была совершенно занзиабарской лепки: я в передаче Крылова раз такую видел в африканской Рязани, еще до катастрофы, – чуть не кончил. Тут же – никакие ухищрения не помогали. «Все-таки ее предки были невольниками, и это сказывается на моей эррекции, требующей унесенной ветром жопы жены плантатора!» – я острил про себя, спасаясь от унижения. «А уж если чернокожих брать, то мне бы теперь вождя, точнее – первую леди племени тутси или бхутто», – я забыл, кто там оказался наверху. Складывался сексуальный заскок. Перверсия как версия.
Зря были истрачены последние доллары из заветной заначки. Вспомнился только рассказ про чиновника, который наврал, что любит черных женщин. В мою провинцию, как у Леонида Андреева, приехал тоже цирк, и тоже среди ночи я просыпался с пересохшей от спирта глоткой и смотрел на спящую с ужасом. Она исчезла сразу, как я ей отвалил зелени на по крайней мере пять негритят.
Потянулась зима. В Центр я не заходил, леди Гвиневера-Гвендолин не звонила. Соответственно, о книжке речи не было. На девок денег – тоже. Я носил вещи матери на рынок за метро Молодежная, на это жил, точнее – пил. Хотя жизнь кончилась.
И все-таки однажды я не выдержал, поехал в Центр. Сердце колотилось уже в метро. Сошел на Ногина, вышел к Политеху и долго шел пешком по Моросейке, пытаясь успокоиться. Мимо клубов сомнительного толка, где псевдорассеянные вышибалы высматривали клиентуру из-под спущенных век, за их спинами ковровые дорожки манили наверх, лампочки на ступенях уже зажглись в ожидании топ и гопстоп менеджеров.
Прошел бульварным кольцом пол Москвы. В Центре, внизу я тормознул сначала в кафе, боясь встретить одну и надеясь увидеть другую. Никого. На здешний кофе жалко было денег, я посидел на стуле поодаль от столиков, посмотрел на слоновую ногу, по которой все струился сверху слоновый елей.
Наконец набрался сил и пошел к лифтам, лифтер прищурился, но смолчал. Своих он, видно, знал в лицо. Пришлыми тут были девицы, спешащие на кастинги, но их всякий мог узнать по безумным глазам и форц-макияжу. Маскарад опять. Меня он принял за ряженого принцем нищего, наверное. Вот и заветная дверь, кодовый замок, кнопки. Я припечатал всю ладонь ко всем, что попались. Дверь сразу открылась. Моя несостоявшаяся Эрато, леди Гвиневера сидела с видом надсмотрщицы. Она ею и была. Головками склоняясь ниже, три ее подопечные цветка тыкали в клавиатуры компьютеров, на экранах графика вызывала из небытия миражи гламура по-русски, уже без приставки «ново». Все освоились с наступившим веком. Я подошел к Илояли, волосы закрывали лицо, головы она не поднимала. Я наклонился к ней и закрыл глаза. Мои губы наощупь нашли ее мягкие, как у зверей, губы и нежно сложились с ними. Мгновение мы разговаривали подрагиванием клювов, как птицы. Потом обоих нас пронизал тот самый ток готовности к безумству, которого люди обычно не делают. Не сделали и мы. Я вышел на носках, как из комнаты умершего. Никто не произнес ни звука.
Гвиневера догнала меня в коридоре. Я не успел в лифт, бросился, было, пешком по-вниз по лестнице, но разве от моей благодетельницы убежишь? Солдат всегда солдат. Она настигла меня и сказала только одну фразу: «Я хотела сказать тебе только одно!» Я ждал, когда она отдышится и придет в себя. «Я много думала – твоя книга… Она слишком… амбициозна для мемуаров… А такая книга… должна быть… как свечечка! Поминальная, я имею в виду». «Хорошо, – сказал я, – поставлю свечку своей книжке. Кстати, это не мемуары, но какая теперь разница!»
Я рванул дверцу лифта и распахнул ее настежь перед моей дамой: «Чтоб ты… чтоб тебя!..» Лифта на этаже не было. Леди Гвиневера шагнула в черную дыру… Мог ли я знать? Мог ли я ее удержать? Вопросы, вопросы…
В этой ситуации мне никого не было жалко. Потому что никто не решился дать волю своим подлинным чувствам.
Прошло время. Я больше не поднимался на лифте в высоком терему, чтоб увидеть свою отраду – мне надолго, видать, хватит того поцелуя в губы. Тем и живу.
Как с остальным? Вы не поверите, но мой рыцарь восстал из мертвых. Он надевает доспехи если не из железа, то из кордовской кожи. И выходит на ристалище, принять бой с женской честью.
Началась новая жизнь нового рыцаря, когда я по ходу зашел к Толе в мастерскую. Теперь я сам норовил угоститься за его счет. Мы поменялись ролями. Он на закуску угощал меня обрезками рыбы осетровых пород горячего копчения, которые заносила какая-то его пассия, надеюсь, она брала их не из бачков с пищевыми отходами.
Здесь, у Толи Жукова, скульптора, я как-то встретил депутатку, как две капли воды похожую на ту, которую я когда-то потрогал в вагоне метро. Ее только что выдвинули, и она на месте проверяла жалобу жильцов на моего скульптора. Обычная история – его теснили бизнесовые мены, используя за деньги местных: сумасшедшую соседку сверху, которую он якобы заливал – это снизу-то! – и алкаша, профессионального понятого здешней ментовки. Толя вяло оправдывался, и дела его были плохи. Я спас положение буквально, сам к тому не приложив никаких усилий, кроме усилий залезть к ней под юбку. Это и решило дело, большего не требовалось. Она почувствовала, депутатка, что я реально западаю на нее. Вдруг разговор совсем переменил русло и тональность. Я смотрел на ее доброе все понимающее лицо и видел даже не сцену в метро, а задницу в том туалете, на этаже восходов и закатов. У меня, видать, был такой вид, какой бывает у попугая, когда ему скажут: «Попка – Сократ!» Это ли не любовь с первого взгляда, как если бы я был Дуранте, а она – Биче, выходящая из церкви? И у меня «марш, марш вперед… знамена выше!» В общем, понятно.
Мы выпили вполне по-людски, я рассказал про рога, которые отбили «эти суки» – тут я катанул десятипудовый рулон типографской бумаги на стоящих внизу под рампой гнусных жалобщиков – столько они не исписали, но способ казни для кляузников должен быть именно такой – мое ноу-хау. «Мы все проверим, вы только не волнуйтесь, товарищи художники! Вам же вредно волноваться!»
Я сел с депутаткой рядом и реально запустил руку ей под юбку – ляжки оказались холодные, но это как раз и возбуждало – мрамор Венеры Родосской! Уверен – лет десять ей никто вот так не залезал в колыбель революции секса и нравов. Тут все было готово к моим услугам, очереди на прием под другими дверями подождут! Софья Власьевна не обманула ожидания: земля была обильна, порядок я смел на нет!
Я готов был отчесать депутатку в толиной ванной, если бы она была. Но ее заменяла кухня с унитазом и раковиной, совмещенная с плитой и столом. Моя руководящая дива сунулась туда, я – следом. Рванулся к трусам – она охнула и плюхнулась на унитаз. Так и застыла – за что приниматься? Еле разобрались, но не до конца… То Толя дергался за чайником, то его телка – мыться. Один раз мы свалились с унитаза оба.
Высокопородную телку я было наладился доставить в Царское Село, оказалось, ее ждал лимузин. На обновленном варианте 24-ой мы прикатили ко мне. Я так понял, что задерживаться депутатке муж вынужден разрешать, а водить к себе избирателей – нет.
Она сразу сориентировлась в моей квартирке, все еще не отсуженной у кооператива. «Это мы уладим в два счета! Нашлись, понимаешь, комбинаторы!». Она разобралась в шкафах, которые мне было все недосуг разобрать, сама нашла спирт, французское белье, а заодно и ночную рубашку из батиста. Ей вещи оказались впору, даже лифчик черного цвета с застежкой спереди ей пришелся под размер и по вкусу – выяснилось, что она не может без такового – боится, грудь «повиснет». Ее собственную сбрую она пыталась надеть заботливо на меня, ибо, как она выразилась, «ты хоть и художник, но баба», «а я люблю, когда меня слушаются»! «Домина?» «Так ведь и переполюсует ориентацию!» Я пошвырял позорное шмотье и повалил ее на арабский сексодром. Домина – пусть будет домина!
Мне важно было, что у меня с ней получалось. До и после поединка на арабском ристалище она непрерывно говорила, словно у нее не было слушателей до нашей встречи. Начинала она с буфетчицы на траулере, порт Находка. Дальше – три минуты молчания, потом – «Смольный» в Смоленске. Милая, добрая, с мертвой хваткой и там, и там.
«Тебе не надоел базар? В мэрии не наспикалась, княжна Мэрия?» «Да я там совсем не по делу выступаю!» «Врешь что ли?» «Типун тебе на язык! Гониво, бла-бла, что подскажут, а тут с тобой оттягиваюсь… короче!» И, правда, с матерком у народной избранницы получалось как-то уютно и по-простому Доходчиво. «Зря ты слушаешь лохов! Дуплись по полной и там – рейтинг попрет круто!» «Ты напишешь мне, как? Правда? Вон у тебя сколько книг!» – и она попыталась накрыть меня поцелуем, но я увернулся: «Только без детей!» Надо было слышать ее хохот! Соседи впервые слышали такой из квартиры моей тихой академической матери.
Ей не понравилась Тушнова, когда она обнаружила ее под своей двуспальной задницей, зато Регистана она, пролистав, так одобрила, что я понял – его у нее не отнять!
Через короткое время я оформился у нее помощником, потом – референтом-спичмейкером.
Перлы из ее выступлений цитировало ТВ. Я краснел от счастья.
Счастье прервалось неожиданным образом. Однажды она сказала, сидя на унитазе и по обыкновению всех ораторов, не закрывая двери:
– Вот что, мой сладенький, придется тебя на время уступить. (Залп).
– То есть?
– Наша главная хочет тебя трахнуть! (Дробь).
– Кстати, почему это она – «главная»?
– Ты не поймешь – по раскладу. (Отдаленные раскаты).
– А я ее хочу трахнуть?
– Это без разницы, золотой! (Победный залп). Партия сказала: надо!
– Комсомол ответил – есть… А если на нее не встанет?
– Должен встать, оба-на! (Шум Ниагары из бачка).
К Первой меня доставил мерс с шофером. От моего района это было совсем недалеко. По Рублевке, потом за Усово направо, в березняк.
Первая обитала в красном тереме, за высоким забором, куда ходу никому не было.
Еще в машине я почувствовал волнение в штанах. Мешал шофер, он не смотрелся как-то, пенсионер на подработке, а не негр в форменной конфедератке с лаком козырька и шелковой тульей с плетенкой. Этот ронял уровень, на который на один только и реагировал мой индикатор.
Меня встретила горничная, повела в гостиную. Я не поверил своим глазам! На вешалке висела та самая норка из дорогих, которую я уже видел! «Если сейчас войдут те самые сапоги, я в точности смогу сказать, как выглядит тыл хозяйки!»
Она вошла на парижских каблуках. Но когда мы сели, я узнал белье! То самое, что видел я через пролом в стене сортира в Центре! Позже я узнал, что и она была одной из жриц Храма, хотя теперь жертвы там приносились уже ей – Арчил мутил с ней дела по небоскребу бывшего ерника. Все срослось! Она поймала мой взгляд и довольно улыбнулась: «Мне про вас не наврали! А то я боялась…»
Была уха, судак и дичь. И я, мудак, поровший невпопад ее самую.
Я вмазал и рухнул перед ней на колени. Скрутил в жгут ее трусы и колготки и поставил в позицию кобра. Человек меняет кожу.
Мы с моим Ламанческим могли поднять копье только на такую Дульцинею – руководящую жопу. В рытвинах младенческой припухлости.
* * *
Припоминается один эпизод из того прошлого, когда я был, по выражению одного моего израильского друга, «счастливым животным». Мы с подружкой сидели у одной девахи в Чистом переулке, в платоновских местах, за водченкой и трепом. Квартира была криминальной – ее обложила гебуха ввиду активной дессидентской деятельности хозяина. Сам он пребывал в местах столь отдаленных, что туда даже на «оленах» лучше не ездить. Его жена, высокая и красивая, жила на помощь из посольств. Я смотрел на них с затаенным трепетом – тут была настоящая фронда, о которой я сам мечтал, да пороху и убеждений было маловато. Свой протест мой кружок оформлял в обструкцию безыдейной пьянки и блядки. Тут же был опасный прикол!
Девки за столом были все интересные, надменные. Некоторые целились за бугор по браку с фирмой. Цедили антисоветчину – язык без костей, как известно, чем он похож на другой орган. Особенно усердствовала одна. Байки про «прослушку» и «наружку» так и сыпались. Напившись сухаря, я отправился в клозет – квартира была коммунальной, со всеми прелестями общебыта. Кухня с пятью столами, тусклая ванная с чугунным, когда-то эмалированным ложем в черных потертостях, стоящем на лапах на цементном полу, и цинковым – на стене. И пенал клозета, поставленный на попа, с дерюжным карманом для нарванных впрок газет – неизбежный финал политики, по которой закатали хозяина, – с унитазом без сиденья, бачком под потолком с фарфоровой бульбой на цепочке. Дверь – на дачном крючочке. Я рву ее на себя с пылом кочевника-завоевателя. Мне под ноги, сорванная с унитаза, валится Эриния-фурия без порток. Это – та самая радикальная отъезжантка. «Да минуты бы не осталась на вашем скотном дворе, если б на то моя воля!» «Ее — воля, мой — скотный двор. И на том спасибо».
Сейчас она распростерта на полу, как теща в частушке – жопой вверх. Очень милый дессидентский зад. Спортивный, но… не волнующий ни на грамм! Она для страховки держалась за ручку двери изнутри, не доверяя хилому запору. Я ее и рванул на себя. Секунды мы смотрели друг на друга. Потом она неспешно встала, повернулась ко мне спиной, и я галантно затворил за ней дверь. Лица напрочь не запомнил. Осталось впечатление агрессивной одухотворенности. Дула у прогрессивной женщины была просто в экспортном исполнении – с такой жопой не стыдно и в… Ну да, в Европу.
Что во мне дрогнуло? Что доказывала двустороннесть самого одухотворенного облика? Не его ли «оборотность»? Не двустороннесть ли жизни и любви? Свободы и Деспотии? Высокого и… жопского?
Я хотел и хочу любить. Я просыпаюсь с этим словом на устах, продолжая договаривать его, это слово, заканчивая объяснение с приснившимся персонажем. Я – раб любви, прихожанин ее храма, жрец ее алтаря. Но куда девать это лицо из двух ягодиц – щек столкнувшихся лун?
Я подозреваю, что мой заворот крутеет. Я завертелся в коридорах власти и обнаружил, что бабы все же слабоваты. Даже самые сильные. Не, не дано им быковать по полной. Екатерину Вторую по одной из версий убили пикой снизу, через дырку толчка в нужнике. Она держала страну под своей белопенной и необъятной. Мешающих всадников отправила указом на вольную с их дворянством. Круглолицый сынок бредил властью, путь к которой лежал через матереубийство. Точнее – через ее задницу и кое-что еще, чем население империи накрылось. И он взялся за пику. В пику пипке.
Я всегда был нормален. Мужики мне были по барабану. Что меня ждет? Скоро очередные выборы… Пол или характер? Власть женского рода. Задница – тоже. Сзади все одинаковые. Я гибну.
Я понял прошлое с его наивными кумирами типа Сталина – еще один кремлевкий мечтатель с мясорубкой. Рядовой злодей с маленькой буквы. Людоед из сказки. Завтра могут придти жрецы с задницей вместо лица и лицом, которое спрятано в штанах. Они будут садится на унитаз, чтобы напиться и брать микрофон, чтобы облегчиться… И я, кажется, жду их с нетерпением. Вчерауменя встал на портрет. Ах, если бы это был портрет хотя бы Хакамады-сан! Нет, я конкретно гибну! О книжке я и не вспоминаю, хотя мог издать ее сто раз! Хоть в подарочном издании.
Леди Гвиневера жива и здорова. Выпустила три книжки на деньги богатого сподвижника новых мингрельских демократов из Канады: свою – стихов, как они считают, – «Первая любовь»(?!) Еще пару – знаменитого «пэра» от слова и незнаменитого лорда от паузы! И еще одну – они считают, что тоже стихов: «На холмах Армении», автор – грузинский дипломат.
Я вспомнил акцент в трубке телефона в тот вечер.
Упала гламур-леди на крышу лифта, тот стоял этажом ниже. Даже ничего не сломала.
Илояли я больше не видел. Я не смею о ней даже думать. Тот поцелуй в губы один удерживает меня в жизни. Но разве стоила бы жизнь хоть грош, если бы не имела оборотной стороны? А любовь?
Нежные шелковые губы, поцелуй – шепот слившихся на мгновение душ. И атлас кожи, натянутой на зонтик зада, он и защищает нас от града жизненных бурь, и от Солнца, способного ослепить. Жалок жребий ваш, мужики! Да и у баб не лучше.
Как соединить несоединимое?
Пусть выберут в Президенты женщину!
Она выступит в Мюнхене так, что у меня будет стоять и в гробу!
И тогда пусть подойдет моя Илояли и поцелует меня шелковыми губами.
Честное слово, я встану и увижу наконец ее настоящее лицо!
03:08 P.M
Маэстро и Маргариты
Как-то, роясь в своих старых бумагах, черновиках и прочем хламе, я нашел несколько разрозненных листков стенограммы, сделанных не моей рукой. Я стенографией не владею. Расшифровка была сделана тоже от руки. Явно во времена, когда дело еще не дошло до широкого использования соответствующих устройств для записи голоса в цифровом виде на фестплату.
Я решил пробежать несколько строк, прежде, чем сунуть листок в бумагорезку, но текст меня так захватил, что я отложил его «казнь».
«Кто это? О чем? Почему не помню?»
Я сел и дочитал отрывок до конца.
Дочитав, я, разумеется, все вспомнил. И кто делал доклад, и кто участвовал в диспуте. И вообще – всю историю, освещающую жизнь и подвиг всеми забытого гения.
Привожу здесь первую часть из найденного отрывка в том виде, в каком записи попали мне в руки. Вторую часть и заключение я приведу ниже, в середине и конце моего мемуара, чтобы идти «в ногу» с событиями и мыслями, ими вызванными.
Доклад, сделанный в Акустическом обществе Петрограда 10 ноября 193… года.
ДОКЛАДЧИК. Эволюция музыкальных инструментов – главное свидетельство коренных изменениий не столько конкретных технологий, сколько, собственно, самого Человека. Сравните: в ранней античности для исполнения «музыки сфер» нужна была как раз сначала Эолова Арфа – помесь струнных с духовыми, Уловитель Игры Стихий: исполнитель – Стихия, Человека нет! Лишь потом последовало расщепление арфы Эола на кифару Аполлона – род лиры язычников, – и на первый духовой инструмент – свирель Афины, которую та отбросила, недовольная гримасой на своем лице во время игры на этой первой «флейте».
Инструмент подобрал Пан и его свита – люди по-своему новые для того времени. Но именно отсюда много позже произошли «духовые» инструменты, да и сам орган для исполнения именно «духовной» христианской музыки.
Христианство первых веков в музыке не нуждалось!
Христианство пело хором.
Музыку потребовало жизнелюбивое Возрождение.
Для музыки Возрождения – опять струнные – пока щипковые: разумеется, лютня, королева струнных, следом все виды мандолины и ей подобного, вплоть до исландской арфы.
Позже Христианство, скрепя сердце, позволило себе орган в дополнение к хору.
На Востоке в Храме обошлись человеческим голосом, больше напоминающим или плач, или вопль истязаемого.
Позднее Возрождение додумалось до смычка. Это знаменательно: сначала возник смычок как звучащий инструмент. Он был чем-то вроде струнного, сначала поглаживали по нему, а позже, после раздумья, нашли уместным поглаживать струны уже им, соорудив виолу – гибрид всех смычковых.
Кто первый сыграл первый квартет?
Кто осмелился позже сыграть соло?
Барокко потребовало ударных – клавесин. И открыло альт.
Позднее барокко превратило орган в фисгармонию. И открыло скрипку.
Паганини открыл новый строй для скрипки и технику.
Рококо ответило контра-басом и контра-альтом.
Романтизм узаконил еще один «ударный» – челесту.
Новое время потребовало рояль.
Новейшее время выдвинуло мысль – соединить струнные, смычковые и «ударные» в оркестр.
Разумеется, все сказанное – мои и только мои предположения.
Нет, не случайно именно романский стиль соединил инструменты в квартет!
Двести лет готика боролась с ним, но органу пришлось отступить!
Эпоха Просвещения, наконец, стала объединять исполнителей на разных инструментах в оркестр, каким он дошел до нас, с сольным исполнением на виоле и скрипке. Потом поставили на сцену рояль. Чтобы оркестр не умер! Рояль был должен спасти целый симфонический состав! Но он не спас.
Настала эпоха электроники, и микрофон заставил заткнуть уши наушниками: общий звук исчез. Беспорядочный шум во всех ушах – это и есть исчезновение музыки для распахнутых душ и ушей. Остался образ. Первое и второе: шум и образ – объединились на экране – в синема!
Музыка ушла от человека, притворившись шумом.
И каждой эпохе соответствовало рождение Нового Человека, отвечающего ее основному характеру. Ему соответствовал звук и его источник.
Но звуку, аккорду не соответствовали обычаи и нравы, то есть религия и мораль.
Новый Человек зарождался в толще и был скрыт до поры.
Чем больше выходило на сцену мастеров, тем меньше почитателей собиралось в зале.
Вкусы всегда отставали. На улице пели одно, в филармониях исполняли другое. Звук и отзвук в душе не совпадали.
Медленно нарастало напряжение этого разрыва.
Приближается взрыв, наступление новой религи и новой морали.
И появление Нового Человека.
Античный кифаред, христианский кастрат, лютнист Возрождения, органист Средневековья, участник струнного квартета, исполнитель на клавесине, скрипач – вехи перемены Человека и изменения его духа.
Пианист-виртуоз.
Оркестрант – от литавриста до концертмейстера.
Дирижер.
Композитор.
Точка.
Дальше тишина.
Я не буду всерьез об электромузыке, цветомузыке, экспериментах Скрябина.
И о звукозаписи – она пока несовершенна!
О Юности, готовой прыгнуть в пучину грохота, то есть Хаоса!
Грядущая эпоха – эпоха немоты.
Великое молчание порождает постижение великого смысла.
Или рождение Истины.
О ней оповестит Тот, Кто уже родился. Это и есть Пришествие, а какое по счету – не имеет значения. Новая эра стучится в дверь и входит без стука!
Исчезнут в первую очередь симфонические оркестры, в последнюю – рояль.
* * *
Доклад делал какой-то полусумасшедший физик-акустик, музыкант-любитель и коллекционер музыкальных инструментов. Но на докладе присутствовал наш Маэстро, и это имело свои последствия.
Я живо вспомнил все, что меня связывало с этим великим музыкантом и человеком – любопытство рядового бытописателя к жизни подлинного непризнанного гения.
Записки запустили механизм воспоминания! Воскресили тот доклад, а заодно и все то, что мне удалось вспомнить об этом человеке, Великом Маэстро, память о коем человечество незаслуженно предало забвению, если не поруганию…
Вероятно, я никогда о нем и не забывал. Может быть, записки эти и будут главным делом моей жизни.
Я перерыл свой архив, засел в библиотеке.
Я перебрал подшивки газет, встретился с …
Впрочем, по ходу изложения будет просвечивать тот или иной источник. Пусть воспоминания носят характер повести, романа, беллетристической помеси того и другого – воспоминаний и вольной прозы!
Жаль, не вызовешь к жизни самого Маэстро. Сегодня его почти не вспоминают, его заслонили другие. Почему? Ответ частично в приведенном отрывке. И полностью, я надеюсь, в истории его жизни, которая вспомнилась и записалась довольно сумбурно: «в обратной перспективе», так бы я назвал получившуюся форму изложения по примеру живописцев. Такое случается, если факты готовы вот-вот померкнуть, и ты их хватаешь, лишь бы не канули окончательно в Вечность. Ну, а приводить их потом в порядокя не счел нужным – для кого теперь стараться? Кому нужна культура? Кто готов снять шапку перед титаном, забытым лишь потому, что был он крупнее других? Нет, этого ему не простили.
Итак – клочок бумаги и каракули на нем.
Композитор Владислав Жданович, – не путать с польским Ждановичем! – родился в Петербурге и был русским по национальности, если судить по записи в паспорте. Если судить по крови, то он был русский с примесью, правда, польской крови со стороны матери и украинской со стороны отца. Его мать и тетка родом происходили из «бывших». Обе не очень это скрывали до поры, да и как скрыть породу, врожденный шарм и воспитанность? Главные же черты этой породы – неброское достоинство и простота – не оставляли сомнений в их происхождении. Нет ничего удивительного, что и жили они в Петрограде, будущем Ленинграде-Петербурге. Странно, но о бабке со стороны матери и других «прародителях» сведений сохранилось немного. Сдается, что были веские причины этим сведениям раствориться бесследно в эпоху, когда не только сведения растворялись, но и сами люди. Поверим, что так безопаснее было для потомков.
По отцу Маэстро был русский, но с примесью уже украинской крови. Хотя последенее не доказывается документально. Скорее, свидетельством тому было наличие невероятного количества родственников с юга России, которые, после очередных перетрясок в истории страны, появлялись, как грибы после дождя. Правда, часто выяснялось, что это были и не совсем родственники. (Позже, когда композитор женится, к ним прибавятся родственники жены, тоже с юга).
Необычность свою мальчик проявил трех с половиной лет от роду Может быть, это проявлялось и раньше, но продемонстрировать свою одаренность окружающему миру ему пришло в голову именно в этом возрасте. Он подошел к роялю, что стоял в доме его тетки, учившейся до замужества музыке всерьез, и стал подбирать что-то из Мусоргского.
Тетка не сочла нужным скрыть от маленького мальчика свою любовь к музыке и к композитору Мусоргскому. Она строго отчитала ребенка за безбожное перевирание темы «Богатырских ворот» из «Картинок с выставки».
Только когда ребенок, поджав тонкие губы, вышел, она поняла нелепость всего инцидента в целом. Ведь тому не было четырех лет, как он мог по памяти воспроизводить хоть что-то из такой музыки?! Она так и осталась в недоумении, ребенок же больше к роялю не подошел. И на вопросы ее жал плечами и дергал головой.
«Почудилось, вероятно! – подумала несостоявшаяся пианистка. – Вот и склероз пожаловал!»
Ребенок до четырех лет вообще почти не говорил, ограничиваясь неопределенным мычанием, сопровождавшимся пожиманием плеч и вытягиванием шеи куда-то вбок. Это не было мычанием идиота, за ним, если уж на то пошло, угадывалось презрительное нежелание вступать в контакт. Тем не менее, он отлично умел выразить неудовольствие чем-либо. Например, когда его отрывали от просто неподвижного, со взглядом в одну точку сидения, призывая идти есть, пить, справлять нужду, спать. Все это, кстати сказать, он делал словно через силу, будто выполнял тяжелую повинность, которую надо отбыть как можно скорее.
Мать его тоже в свое время училась музыке, но не так серьезно, как тетя, хотя способности имела куда большие. Усвоенного ей хватало, чтобы играть иногда в домашних концертах. Дом они с мужем держали открытый, даже после бед, посыпавшихся на семью в тридцатых.
Ленинградцы помнят, что и после войны у Ждановичей «собирались». Разумеется, там был рояль, но мальчик к нему больше не подходил, а когда его привозили в гости к тетке, которая так задела его самолюбие в нежном возрасте, он демонстративно обходил рояль сторонкой. Дядя его, теткин муж, тоже из «бывших», позже репрессированный, уже не просил его играть, предупрежденный теткой, лишь смотрел на племянника с сожалением – предвидел то ли его судьбу, то ли свою. В ту пору настораживала любая незаурядность, не говоря о таланте, в человеке.








