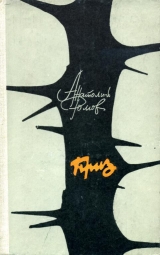
Текст книги "Приз"
Автор книги: Анатолий Ромов
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Гугенотка легко взяла ее, прихватила зубами, осторожно хрустнула.
– Сделаем, шеф. – Диомель надел на кобылу легкий оброток без удила, цокнул, – и лошадь, все понимая, задергала шеей, стала баловаться, уворачиваясь от обротка, присела на задние ноги.
Потом вдруг, увидев, как Диомель улыбнулся, и словно поняв, что капризничать дальше нельзя, повернулась и вышла в проход. Они с отцом вслед за ней прошли во двор, сели на скамейку, наблюдая, как Диомель стал медленно водить Гугенотку по кругу. Сразу было видно, что кобыла сейчас в идеальном порядке, – по сухости и легкости шага, по рабочим мышцам, особенно мышцам крупа и задних ног, сейчас легко и расслабленно перекатывающимся под черной блестящей кожей.
– Как будто ничего, – сказал отец.
– Ничего, па. Да… сколько еще кобыл в заезде?
– Если Генерал ничего не выкинет – одна. Патрицианка.
– Вспомнил. Она заявлена по шестой дорожке. Поедет Клейн.
У них традиционно была третья дорожка, у Генерала – вторая.
– Да. Вот что, фис. Я, конечно, не думаю, чтобы Генерал чего-то опасался или заподозрил. На Корвете ему нечего бояться, сам понимаешь. Но все-таки – вдруг они захотят меня придержать.
– Все может быть, па. На всякий случай.
– Ты знаешь, кто обычно придерживает у Генерала.
– Знаю. Клейн и Руан.
– Все верно. Клейн обычно занимает бровку.
– Обычно. А Руан идет сбоку и садится на колесо. Так – это хорошо.
– Все это меня устраивает – если так и будет.
Диомель отпустил оброток, Гугенотка прошла несколько шагов и остановилась.
– Понял. Руан едет на Идеале?
– Ну да. По первой дорожке. Понимаешь – вдруг они решат поменяться? Так, знаешь – из прихоти?
– Может быть.
– Ведь они думают, что закроют меня играючи. Как стоячего. И вообще – меня в этом заезде никто за человека не считает.
– Да. Этого битюга тебе будет трудней сделать, чем Патрицианку.
– Поведу, поскребу ее немножко, шеф! – крикнул Диомель.
– Давай, давай.
– И вообще – кобыл она обходит легче. А мимо Идеала ты скользнешь играючи.
– В том-то и дело. Понимаешь – боюсь: вдруг в заезде следить, как они там перестраиваются, мне будет некогда.
– Все понял, па.
– Ведь вы с Диомелем обычно следите за заездами здесь?
– Ну да, у конюшен. На третьей четверти.
– А вы встаньте чуть ближе.
– У перехода? А… Генерал? Вдруг он догадается?
– Не догадается. Ему будет не до этого. Да и потом – он в заезде никогда по сторонам не смотрит.
– Хорошо, па.
– Так вот – ты сразу увидишь, как они идут. Если как обычно и Клейн с Патрицианкой ближе к бровке, – значит, все хорошо, подними руку и покажи большой палец. А если заметишь, что они перестроились и бровку держит Руан, – стой смирно, я все пойму.
Кронго ощутил холодок – все, главный заезд уже скоро, через полтора часа после начала, в два.
– Хорошо, па.
За полчаса до заезда на Приз лошади, прошедшие уже разминочные круги, были готовы. Отсюда, от конюшен, хорошо было видно, как некоторые идут, увлекая качалки с наездниками, от рабочих дворов к месту, где весь заезд выстраивается перед паддком, чтобы выехать на торжественный парад. Первыми потянулись американцы – оба в одинаковых сине-белых полосатых куртках и красных шлемах. Американцы ехали прямо через поле, о чем-то переговариваясь с качалок. Их лошади – бравший уже третье место игренево-рыжий Леон и мало кому известный гнедой четырехлеток Бетти класса «один пятьдесят пять» – были в прекрасном порядке. Но, хотя об американцах много говорили, можно было предсказать – в таком заезде их затрут уже со старта. Лошади здесь были равные, Корвет же – а может быть, и Гугенотка – просто выше классом. К тому же места у Леона и Бетти по жеребьевке были неудачные – девятое и тринадцатое. Надо было знать ипподром – фору в несколько дорожек здесь не простят и в обычном заезде. За американцами медленно двигался Руан в шахматном камзоле – на тяжелом с виду вишнево-гнедом Идеале. Чуть дальше подтягивался Клейн на Патрицианке – он был во всем красном.
Отец стоял у качалки в белом шлеме, в белоснежных куртке и брюках, держа перчатки под мышкой, потягиваясь и разминая пальцы. Лицо его было серьезным, хотя он и старался шутить, улыбался и подмигивал – Кронго, Диомелю и Жильберу. Вот сдвинул очки на лоб, потер переносицу.
Гугенотка в полной упряжи, изредка вздрагивая кожей у холки, осторожно отжевывала удила. Они, все трое, стояли рядом с отцом, чуть поодаль держались младшие конюхи. Мсье Линеман не пришел – он сидел на почетных местах на центральной трибуне.
– Все понимает, красавица, – сказал отец. – Гугошка.
Гугенотка чуть повернулась, дернула головой, приподняв гриву.
– Гугошка, не подведи. Не подведешь?
– Шеф, седелку еще раз проверьте, – сказал Диомель.
– Да все в порядке, – отец занес ногу.
Гугенотка переступила ногами, будто ожидая, когда отец сядет.
– Ну, пошел, – отец сел в качалку.
– Ни пуха, – сказал Диомель. – Слышите, шеф?
– К черту, – отец цокнул, Гугенотка легко пошла к кругу, выезжая к проезду на поле.
Они увидели, как, отъехав уже далеко, кобыла развернулась, медленно пошла по краю поля, будто нарочно показывая им свою стать, потом пристроилась цугом к другим лошадям, последними съезжавшимися к главным трибунам. Отец сидел пригнувшись, не глядя в их сторону, одной рукой придерживая вожжи, другой слишком уж тщательно поправляя очки. Сзади подъезжал Генерал – в белых брюках, сиреневой куртке, оранжевом шлеме, с хлыстом под мышкой. Корвет шел к трибунам последним – слабым тротом, каждым шагом показывая мощь, силу и одновременно – легкость. Сейчас вслед Корвету, собравшись гурьбой у конюшни, смотрела целая свита; несколько телохранителей, как обычно, разошлись и сели у бровки.
– Это лошадь, – сказал Жильбер. – Это действительно лошадь.
– Лошадь, – отозвался Диомель. – Кто спорит – лошадь. Ну и что? Что, я тебя спрашиваю?
– Да ничего, – сказал Жильбер. – Я так.
В комнате Филаб Кронго включил приемник. Вспыхнула шкала. Но разве вся его жизнь – не ребячество? Что заставляет его, сорокапятилетнего, вспоминать сейчас сладостное ощущение бросающейся в лицо дорожки?
– Передаем сообщения… – чисто и негромко сказал голос в приемнике. – Вчера террористы сделали попытку покушения на ряд служащих государственного аппарата…
Улыбка на лице Филаб пропала.
– Выключить? – он обрадовался, что может что-то сделать для нее, не прибегая к тому лживому взгляду, который ей необходим.
– По неполным данным, в попытке участвовало девять…
Кронго нажал кнопку, шкала потухла. Филаб снова улыбнулась, он взял кофе, сел на кровать. Кофе был чуть теплым, горьким до жжения. Кронго тщательно прожевал гренки, чувствуя, как вкус сыра, солоновато-сладкий, смешивается во рту с хрустящей пресностью теста. Приз, вот в чем дело. Океан, ровный и тихий, светлел голубой полосой на глазах. Этот отсвет, осторожно касаясь серой широкой глади, окрашивал ее в зеленое. Но это зеленое было еще темнотой; оно проявлялось то светлым пятном, то темными густыми полосами. Опять все подтягивается одно к одному – ипподром, то, что он попробует сегодня проверить несколько заездов, может быть, даже – скачек… Подумает, что можно сделать с теми, кого он набрал. Барбры и Бланш уже научились обращаться с качалкой. Только бы удержать это ощущение ясности, прочности, которое установилось сейчас. Да, и еще – вновь появившееся, такое же, как раньше, острое предвкушение бегов и скачек, подсасывающее чувство, тревожащее и дающее силы.
– Пойду. Не скучай.
Филаб на секунду закрыла глаза. Кронго будто бы и понимал, как плохо, что он с радостью оставляет сейчас это тело, эти бессильные беспокойные зрачки. Он уходит от них «к своему» – к тому, что постепенно и сильно захватывает его. Но он вспомнил, что сегодня купанье лошадей, и он в любом случае должен спешить. Каждая секунда сейчас обкрадывает его, утренняя прохлада скоро пройдет, наступит жара. И с предательским чувством избавления, легкости, тронув еще раз ее руку, заспешил вниз.
Берег, у которого обычно купали лошадей, был недалеко от ипподрома. Подъехав сюда на «джипе», который вот уже неделю присылал ему Душ Сантуш, Кронго увидел, что лошади здесь, и, отпустив «джип», пошел к линии прибоя.
Еженедельное купание лошадей именно в океане было введено им еще в первый год приезда сюда. Оно стало обязательной частью распорядка ипподрома. Кронго знал, как капризны и привередливы чистокровные лошади. Узнав об этом давно, он не всегда мог объяснить, почему так важна для работы именно эта часть их характера. Правда, как тренер, он никогда в этом не сомневался и считал само собой разумеющимся. Факты подтверждали, что обязательное удовлетворение, а иногда и обязательное потакание всем прихотям лошади, не связанным с бегом, приводят к интенсивному росту резвости. Зная, как важно послушание лошади на дистанции, Кронго убедился, что вне дистанции он должен чем-то компенсировать это послушание, использовать странную связь между удовлетворением капризов и ростом скорости. Он-то знал, чем иначе может отплатить лошадь: дурным настроением, вялостью, безразличием, всем, что так ненавистно тренеру и наезднику.
– Месси Кронго… Утро-то божье, утро божье какое… – в тишине берега Кронго увидел Ассоло, спешившего к нему.
Поодаль неподвижно сидел на большом сером камне Мулельге. Четкий контур лица и рук Мулельге был недвижим, Мулельге глядел вперед, туда, где было что-то черно-сиреневое. В этом черно-сиреневом можно было сейчас только еще угадать линию слияния океана с горизонтом.
– Где достали автофургоны? – спросил Кронго, чувствуя, как ботинки слабо увязают во влажном песке, а рассеянные во множестве пустые раковины легко чиркают по подошвам.
Так получилось, что утренние купания стали массовым дополнительным капризом всех лошадей, они с нетерпением ждали выездов по четвергам, и отменить купания было уже нельзя.
– Душ Сантуш… – не повернувшись к Кронго, сказал Мулельге.
Эту кажущуюся непочтительность, короткое «Душ Сантуш» вместо полного ответа Кронго как бы не заметил. Сейчас, в хрупкой тишине предутреннего берега, он признавал право Мулельге сидеть неподвижно и глядеть в океан. Если бы Мулельге поступил по-другому, это показалось бы Кронго странным. В сумерках у воды долго, насколько хватало глаз, темнели силуэты лошадей. Они были неподвижны. Смутно угадывались лишь морды, спины, ноги. Легкий всплеск от копыта разломал тишину, вслед за этим кто-то фыркнул, вздохнул, снова все стихло. Лошади заходили в спокойную гладь сами, когда и где вздумается. Камни и мокрый ночной песок поглощали все звуки. Рассвет всегда, неизменно должен был наступать после того, как последняя лошадь, сойдя с автофургона, успевала привыкнуть к океану.
– Шесть автофургонов обычных… – Мулельге чуть шевельнулся, разглядывая линию горизонта. – Седьмой для скота.
Одна из лошадей, стоящая ближе, опустила голову, беззвучно тронула губами воду, будто пробуя, осторожно шагнула. Кронго узнал Мирабель, третью по резвости лошадь рысистой конюшни. Ее гнедая масть была неразличима в сумерках, но неизвестно откуда появившийся розово-сиреневый фон горизонта вдруг обрисовал контур маленького аккуратного тела, короткого, но с чистыми линиями. Достоинства этих линий были понятны Кронго. Он медленно пошел вдоль берега, замечая сидящих на камнях конюхов, лошадей, то стоящих у кромки песка, то зашедших в воду по самые бабки, темные пятна автофургонов, серебрящиеся в темноте островки прибрежной травы. Здесь была элита, взрослые лошади, как раз те, что уже начинали показывать характер. Человек был готов отдать лошади все, лишь бы она показала себя на дорожке, и лошадь всегда чувствовала это. Будучи послушной его руке на дистанции, она потом требовала взамен стократного послушания. Она как будто чувствовала, что, как бы непомерны ни были ее капризы, капризы хорошей резвой лошади, человек всегда смирится с ними – во имя рабочих качеств. Мирабель, всегда ровно и чисто работавшая на дорожке, вне ее была злым, мелочно-мстительным, обидчивым и желчным существом. Она постоянно норовила укусить конюха, незаметно сделать ему больно, в самый неожиданный момент прижать к стенке денника. Однажды из-за этого она сломала два ребра тихому Амайо, который всегда терпеливо и заботливо ухаживал за ней. Но стоило Кронго и второму конюху после этого на нее накричать, а потом лишить лакомства (о том, чтобы тронуть призовую лошадь, не могло быть и речи), Мирабель сникла, завяла, стала пугливой. Несколько испытаний подряд она приходила в заезде последней. Стало ясно, что может пропасть одна из лучших лошадей. Она не признавала других конюхов, и спасти ее для дорожки удалось, лишь вернув в денник забинтованного Амайо.
– Здравствуйте, маэстро…
Бланш сидел на камне, подогнув одну ногу в засученных по колено брюках, обхватив это колено руками. Розовая полоса над горизонтом светлела равномерно и неотвратимо. Но неясный, смешанный с синим оттенок на ее краю был еще тяжел. В голосе Бланша Кронго послышалась смесь почтительности и удивления. «Я, крючконосый нагловатый негр, слишком низко поставил вас, и вашу работу, и ваш ипподром, придя к вам наниматься…» – явственно услышал Кронго в «здравствуйте, маэстро» и в висящем сейчас в воздухе долгом взгляде Бланша. Лошадь, стоявшая рядом, повернулась, под ее ногами заскрипел песок. «А сейчас я понимаю, что э т о достаточно высоко, достаточно тонко, пока даже слишком тонко для меня… Я приобщаюсь к чему-то большому… Я не могу всего этого сказать, объяснить… Но вы понимаете, что я сменил привычный наглый тон на почтительный только для того, чтобы вы это поняли…» Рядом с Бланшем стоял угрюмый тяжелый Болид. Он даже не скосил глаза, не шевельнул мускулом при приближении Кронго. А что, если Бланш… Ломкая тишина, в которой не слышно было обычных криков птиц, беззвучно уходила вдаль по воде. Лошади затихли, будто боялись нарушить ее и спугнуть. Кронго прошел еще несколько шагов. Заметив, что треск ракушек под его подошвами – единственный звук на берегу, остановился. Линия над кромкой океана вдали была уже отчетливо розовой. Этот розовый отблеск сломался, потемнел, потом раздался широкой желтеющей полосой, наполовину скрытой черными заплатами. Заплаты сменились синими прямоугольными кусками. Куски эти нехотя расходились, смешиваясь с розовым, превращаясь в длинные лилово-коричневые полосы. Но та медленность, с которой это совершалось, была непонятна. Розовое, составляя пестрый резкий набор с лилово-коричневым, ровно засветилось, захватив постепенно огромную часть неба, плоско поставленную над океаном… От вставшей зари что-то вздрогнуло вдруг. Но что именно – Кронго не понял. Лошади, как одна, повернули к рассвету головы. Над поверхностью океана, которая из чернильно-черной стала теперь синей с зеленоватым оттенком, дрожало и пробегало что-то, похожее на дрожь воздуха или на звук, и этот тихий звук-дрожь неясно будил все, передаваясь и людям, и лошадям. Какая-то лошадь – Кронго увидел, что скаковая, но не смог узнать по имени – глухо фыркнула, с шумом запрыгала, взбивая воду, но ее никто не поддержал. Она остановилась. Воздух был еще темен, несмотря на рассвет, тела лошадей, неподвижно стоящих в воде и у берега, можно было спутать с валунами, редко разбросанными по мелководью. Кронго казалось, что шум, поднятый нетерпеливой лошадью, пропал, исчез, о нем забыли. Но вот увидел Альпака – он будто не замечал Кронго, так, как если бы Кронго вообще не стоял рядом. Неудобно изогнув шею, напружинив серый корпус, Альпак вглядывался в одну точку. Пестрота рассвета стала совсем светлой, разбудив океан.
Кронго понял – Альпак глядит туда, где взбрыкнула и теперь стояла неподвижно первой нарушившая тишину кобыла. Розовое с клубами и полосами синего над океаном медленно расплывалось. В монотонную торжественность этой пестроты незаметно, но упорно врывались окружности и блики желтого и алого. С другой стороны берега послышалось, как несколько лошадей заходят в воду. Океан проснулся. Кронго уловил в стороне рядом чей-то пристальный взгляд. Испуганно скорчившись, у самой воды сидела негритянка, которую он уже знал. Она делала вид, что разглядывает песок, вытянув длинные худые руки, стесненная тем, что он почувствовал ее внимание. Амалия была одета по-мужски, как все конюхи, в подвернутых по колено брюках и застиранной рубашке. Почувствовав, что Кронго не сердится на нее и даже взглядом старается ободрить, она подняла голову. Глаза Амалии неторопливо, по-африкански, плавным заигрывающим движением пошли вбок, двинулись в одну сторону, в другую, остановились. Ноги ее сдвинуты вместе, босые ступни чуть расставлены, пальцы подогнуты. Да, эта девушка чем-то притягивает его – но это только мелькнуло на секунду и ушло. Резко посветлело, Кронго пошел дальше, до той части берега, где стояли последние лошади… Кронго отмечал их по именам – Кариатида, Парис, Болид, Блю-Блю, Кардинал, Казус… Теперь он должен думать только об одном – что конюшни спасены. И он уже спокойно думает и о рысистых испытаниях, и о скачках, уже примерно знает, как составить заезды. То неприятное, что першило в горле после разговора с Крейссом, прошло. Размеренность, повседневность, обычность – вот к чему он должен теперь стремиться. Эта размеренность очень важна для него, она поможет втянуться, снова почувствовать то тонкое, что так неожиданно ускользает от самых разных причин.
И в самом деле, именно с этого рассвета ему удалось поймать и ухватить размеренность. Последующие дни он старался сделать похожими один на другой. И они становились похожими. Ранний, до зари, приезд на ипподром. Обход конюшен. Работа с молодняком в манеже. Перерыв на завтрак. Привычный для него мучнистый фруктовый навар, который готовила Фелиция. Снова работа, теперь уже до позднего вечера. Обыденность и размеренность были ему приятны, он чувствовал, что они нужны, они благотворно действуют на него. Он уже решил, что, как только почувствует, что может составить несколько заездов на неделю вперед, назначит бега и скачки. То же, что ежедневно, ежечасно происходило вокруг, не мешало ему. Улицы, по которым он проезжал на ипподром, были спокойны. Давно уже открылись лавки, в переулках, ведущих от набережной к окраинам, стояла обычная толкотня. Все шумней были гам и ругань торговцев. Радиопередачи… Радиопередачи он старался не слушать.

Но при чем тут радиопередачи, думал иногда он, где-то в перерыве между пробным заездом и переходом в; манеж. Он никому не может объяснить, как глубоко чувствует и знает то, чем занят всю жизнь. Ни Душ Сантушу, ни Крейссу, ни Фердинанду с его кривой улыбкой нельзя это объяснить. Они не смогут этого понять. Он рожден для этой работы, пусть он не может объяснить, найти ее смыслу какое-то оправдание. У него есть лишь убежденность, не требующая оправданий, что работа нужна только ему, – а искать объяснений, почему она нужна другим, он не хочет.
Отсюда, через доле, паддок и дорожки, на многоярусных, забитых людьми трибунах можно было различить только легкие и зыбкие волны белого, красного и цветного. Розыгрыш Приза, как всегда, собрал весь Париж и туристов; кроме того, заезд транслировался по прямой в городские залы и передавался по четырем каналам телевидения в Европу, Америку и Австралию. Над трибунами стоял гул, изредка взрывавшийся сдержанным громом, – он возникал каждый раз после объявления об изменениях в заездах. Ипподром сейчас забит до отказа, можно было увидеть, что на массовых трибунах протолкнуться невозможно и, хотя продажа входных билетов давно прекращена, люди стоят в проходах. Говорили, что Генерал вложил крупные деньги в рекламу противников – американцев; Тасма знал, что окупит свое и равные ставки будут обеспечены. Ведь только немногие специалисты знали, что у Корвета нет сейчас серьезных соперников; реклама была с успехом поддержана, газеты уже несколько месяцев писали только об американцах: сообщали подробности подготовки, интриговали дутыми секундами, умело преувеличивали возможности. Все это делалось для того, чтобы в конце концов создать видимость равенства и предстоящей борьбы.
Грянул торжественный марш; цепочка из четырнадцати лошадей с дальней стороны поля медленно приближалась к трибунам. Жильбер, Диомель и Кронго двинулись вдоль ограды к месту у второй четверти призовой дорожки. Телохранители, сидящие попарно на скамейках или прямо на земле, провожали их взглядами – передавая друг другу. Люди Генерала знали каждого из тройки, поэтому взгляды телохранителей были сейчас пусты и ничего не означали. Это были ленивые взгляды служак, уставших на рутинной работе; так смотрят на пустое место.
– Следят, – сказал Диомель. – Следите, следите, субчики. За это вам деньги платят.
– Шавки генеральские… – поддержал Жильбер. – Совсем зажрались.
– Ничего, – Диомель огляделся. – После заезда оживятся. Встанем здесь, Морис.
Жильбер остановился. Посмотрел на Кронго.
– А что – после заезда?
– Ничего, – сказал Кронго.
Но Жильбер что-то почувствовал.
– Э, Кро?
– Смотри лучше, Жиль… Сейчас получишь удовольствие.
– Ты о чем? Что – неужели Принц поедет?
– Смотри.
– Что будет… – сказал Жильбер. – Ай-яй-яй, что будет… Ну, знаешь, Кро, мальчик, – это свинство… Честное слово… Сказал бы хоть час назад… Отец поедет?
– Жиль… Не отвлекай…
– Я поставил всего пятьдесят билетов.
Кронго сейчас думал только о заезде. Он почти не слышал и не понимал – о чем говорит Жильбер.
– Хватит тебе, Жиль… – сказал Диомель. – Ты и с десятью обеспечишься на год.
Раздались удары колокола. Ипподром притих; лошади, до этого показывавшие трибунам идеальную рысь, сейчас разворачивались с разных концов к старту; комментаторская и стартовая машины тоже подъезжали к полосе разгона. Кронго ощутил, как много значит для него этот момент… Момент – которого они с отцом так долго ждали Вот это – холодок вдоль спины; плотность воздуха; пересохшее горло; боязнь за отца, за то, что вмешается какая-то мелочь, которую нельзя предусмотреть. И в то же время в нем сейчас живет вера в Гугенотку, вера в то, что они все-таки добились своего. Он был почти уверен – Гугенотка может показать «один пятьдесят». Она сравнялась, а может быть, и превзошла Корвета. Лишь бы это было так… Лишь бы было… Лишь бы было… Если это так – отец выиграет; ведь Генерал не знает, что в заезде есть равная лошадь. Это и даст Гугенотке те доли секунды, которые помогут обойти Корвета; пусть это обман, этот обман – ничто по сравнению с тем, что делал и делает Генерал.
– Не могу, – сказал Диомель. – Такие вещи не для меня.
Да, в том, что они затемнили Гугенотку, был обман; но этот обман поможет разрушить тысячи других обманов.
– Перестань, – отозвался Жильбер. – Слышишь, Диомель. Во-первых, все ясно… И придет Корвет…
– Заткнись.
– А если не придет – что? Мы выиграем. Да, Кро?
Кронго не ответил; он следил, как лошади, миновав линию старта, проезжают дальше, разворачиваются и выравниваются. Отсюда хорошо был виден белый камзол отца; Гугенотка, пропустив на вторую дорожку Корвета, завернула и встала с ним рядом, легко продолжая движение по третьей дорожке. Она шла к линии старта, выравниваясь с остальными лошадьми, шла хорошо, ровно, без тени испуга, не уступая соседям ни сантиметра. Лошади, постепенно разгоняясь, будто плыли перед крыльями двигавшейся все быстрей стартовой машины.
Диомель схватил Кронго за локоть. Кронго покосился, – кажется, Диомель сейчас ничего не ощущает и не видит, кроме шеренги лошадей.
– Молодец, старушечка, – прошептал Диомель. – Молодец, старушечка… Впритирку, вплотную… Так их… Молодец, старушечка…
– Выравнивайтесь! – прогремел голос в репродукторе. – Выравнивайтесь! Пятый номер, подтяните лошадь!
Ипподром глухо шумел; это была реакция, сейчас все следили, как лошади подходят к старту, как завоевывают или отдают сантиметры.
Лошади пошли быстрее; Гугенотка по-прежнему не уступала ни пяди, двигаясь вплотную к крылу; Корвет подавал чуть легче, как бы уступая пространство, как бы говоря остальным номерам – смотрите, я добровольно проигрываю вам на старте чуть ли не метр.
– Отрывайтесь! – приказал репродуктор. – Отрывайтесь!
Машина уехала. Все в шеренге, сразу резко прибавив, включились в борьбу. Шли кучно: Корвет занял место в середине; тут же, то уступая, то сравниваясь с ним, бежала Гугенотка; несколько лошадей перед ними боролись за место у бровки.
Да, это был обман; но обман справедливый, Кронго это знал, чувствовал и не считал обманом.
На первых метрах дистанции стало ясно, что Генерал еще ни о чем не догадывается. По тому, как он сидит в качалке, как держит вожжи, Кронго понял – Тасма сейчас спокоен за себя, за судьбу заезда и за Корвета. Поэтому и не выходит сразу вперед, чтобы, как это не раз бывало раньше, закончить дистанцию далеко впереди с отрывом в несколько столбов. Зная, что равных Корвету нет, и помня о рекламе, которая перед заездом сопровождала каждый шаг американцев, Генерал решил поиграть и закончить гонку броском на финише – тем более что Руан и Клейн уже сейчас ловко оттерли американцев и идут в общей куче, почти не придерживая лошадей и создавая нужный пейс. Генерал мог позволить себе и такое – несмотря на то что Корвет не готовился специально, как финишер, и обычно проходил дистанцию ровно. Гугенотка же была ярко выраженной концевой лошадью; они с отцом хорошо знали, как много сил остается у нее каждый раз к концу дистанции. Этих сил хватило бы, конечно, и на то, чтобы выдержать борьбу с Корветом с самого начала. Но тогда Генерал гораздо раньше понял бы, в чем дело, и мог пойти на все; ради победы он не постоял бы даже перед тем, чтобы загнать Корвета. Сейчас же он ничего не будет знать по крайней мере до третьей четверти. Именно потому, что Генерал сейчас придержал Корвета, пока все складывается хорошо. Гугенотка идет ровно и легко, держась то четвертой, то пятой. Если все и дальше будет идти так – борьбу решит финишный бросок.
Сразу за отцом шли Клейн и Руан; Кронго видел, что они заняты сейчас не столько заездом, сколько американцами. Лошади, занимавшие пока первые три места, опасности не представляли: впереди по бровке двигался швед на заурядном жеребце, явно не рассчитав силы. За шведом держались аргентинцы – два таких же середняка. Трибуны шумели непрерывно; лошади вошли в первый поворот. Швед отпал и сделал сбой; к началу второй четверти заезд выравнялся. Увидев приближающиеся морды, ровно и безостановочно мелькавшие ноги, Кронго понял – Генерал выпускает вперед остальных. Кого же? Идеала и Патрицианку… Руан и Клейн… Патрицианка идет первой и – хоть и на вожжах – пока совершенно сухая. Чувствуется, что кобыла сможет выдержать еще целую четверть… Сможет… Сможет… Если не больше. Отец пока не прибавляет. Видно, что Гугенотка тоже совсем свежая; она продолжает идти в незаметной борьбе с Корветом. Молодец, Гугошка… Молодец… Рыжий сух; так и должно быть; Корвета ничто не берет.
– Что он делает… – Диомель взял Кронго за руку. – Его же съедят.
– Первая четверть – двадцать семь секунд, – объявил комментатор. – Идут с опережением, но пока – не на рекорд.
– Съедят, – повторил Диомель. – Его съедят.
Мелькнул красный камзол – Клейн бросил вперед Патрицианку и занял бровку. Все хорошо; шахматная куртка Руана пока чуть сзади и сбоку. Отец сидит спокойно; он идет сразу за Руаном вровень с Генералом.
Кронго поднял большой палец, дождался, пока строй лошадей пронесется мимо. Пейс был высоким; американцы легко держались на пятом и шестом местах. За ними чуть растянулись остальные, последним теперь шел швед, и, когда заезд отдалился к третьему повороту, в хвосте долго еще был виден его желто-голубой камзол.
Отец сделал правильно, что не поддался соблазну и не вышел вперед.
Вот сейчас, в конце третьей четверти, и должно все решиться. Именно сейчас, когда над полем и над трибунами, постепенно нарастая, встает гул, легкий и пока еще негромкий гул удивления; когда заезд перед поворотом опять сжимается, становясь уже не цепочкой, а плотной группой. Все изменилось; даже отсюда, с угла поля, видно, что Патрицианка ведет заезд из последних сил, ее движения, маховый выброс ног, даже наклон шеи – все, вместе взятое, уже не то. Ясно, что кобыла сейчас отпадет. Настал момент решающего броска. Это обычная точка, в которой Генерал начинает ускорение. И этот бросок сейчас будет. Но этот момент настал и для Гугенотки; отцу уже нечего скрывать. Сейчас Гугенотка должна показать все, на что она способна; показать, что они, отец и он, сумели ее подготовить; показать, что не зря были потрачены их усилия, весь смысл их жизни последних месяцев, все их бессонные ночи, их сомнения, страхи, разочарования, угрызения совести – все, все вместе. Сейчас Гугенотка должна показать, не был ли напрасным их обман – на который они пошли ради разрушения тысячи других обманов.
Вот это место, выход из третьего поворота на последнюю дугу, идеальное для решающего броска…
Гул превратился в грозный, объемно нависший над полем, нарастающий звук; началось… Корвет рванулся; он легко оставил позади Клейна и Руана; да, вот оно, это мгновение, это каждый раз удивляющее Кронго ощущение – ощущение, будто лошади, которых обходит Корвет, будто Патрицианка и Идеал не бегут, а остановились, неподвижно стоят на дорожке. Грозный объемный звук распался, рассеялся; рывок Корвета подхвачен торжествующим гулом; его ждали, ведь здесь, на ипподроме, почти все ставили только на Генерала. Оранжевый шлем Тасма на несколько секунд вырвался вперед и оказался в одиночестве. Корвет, легко усиливая рысь, движется теперь на привычном месте у бровки. Отец не поднимает вожжи, но движение Гугенотки, то, как она идет, вызывает другой гул. Уже не одобрительный, не радостный – а удивленный. А через несколько секунд – потрясенный. Кажется – многоголосый шелест-шепот постепенно возникает над полем. Гугенотка не отпустила Корвета; она словно прилепилась к нему, потянулась – а потом прибавила и вышла вперед. Ее ноги движутся легко, и Кронго, всегда привычно понимавший язык движений, прочел в них бесконечный запас. Вернувшись к этому рывку, он понял, почему отец чуть задержался. Клейн и Руан зевнули. Они ждали ускорения Генерала не здесь; поэтому, когда оба все поняли и поторопились уступить, резко отпавшие Идеал и Патрицианка, радуясь, что вожжи ослаблены, рассеялись и, совсем не желая этого, на секунду загородили Гугенотке дорогу. Отцу пришлось сильно отвернуть, чтобы обойти их. Вот отец легко обошел Руана; впереди чисто; Гугенотка, резко прибавив, достает Корвета. Гул над трибунами превратился в слитый многоголосый крик. Руан и Клейн, сгрудившись на третьем и четвертом местах, отчаянно хлещут лошадей. Наверняка они должны были, следя за американцами, придержать и отца. Только они могли раньше это сделать, и это в любом случае обговаривалось перед заездом. Но сейчас ни Клейн, ни Руан уже не успевают прибавить, вымотанные лидерством, Идеал и Патрицианка потеряли пейс и, по существу, выпали из борьбы. При всем желании, как ни работают сейчас хлыстами Руан и Клейн, обе лошади уже не смогут достать Гугенотку.








