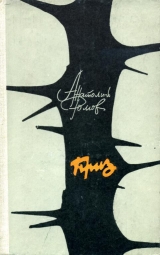
Текст книги "Приз"
Автор книги: Анатолий Ромов
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
– Кро, проснись! Независимость!
Значит – это произошло. Это случилось… Независимость провозглашена… Все ждали этого…
– Жиль, привет… Что случилось? Объясни спокойней.
– Ты что, спишь? Включи радио! Омегву! Омегву выбрали президентом! Ты понимаешь? Омегву!
– Омегву? Бангу?
– Да – Омегву Бангу! Его выбрали!
– Бангу… что? Президентом?
Кронго не мог еще понять – что означают эти слова Жильбера. Значит, Омегву – президент? Сначала это никак не укладывалось в сознании. Омегву Бангу – глава государства… Омегву… Его Омегву.
– Да! Омегву Бангу – первый президент республики! Омегву, ты понял? Кро, ты понимаешь, что это значит? Приезжай в Париж! Немедленно приезжай!
– Но… Жиль…
– Жду!.. И – кончай…
– А… – в голове промелькнуло все, что будет связано с этим. Мать. Знает ли об этом мать. Наверняка знает. – А… мать?
Кажется, размолвка матери с Омегву до сих пор продолжается. По крайней мере – она продолжалась, когда он видел мать последний раз.
– Что ты спрашиваешь об этом?.. Ну, Кро! Приезжай…
– Она… знает?
– Конечно… Да приезжай, Кро, я же не просто так тебе звоню…
Утром в самолете он наспех просматривал газеты. О новости сообщалось на средних полосах – на страницах, где обычно помещались политические обозрения и международная информация. Он быстро перелистывал страницы. Наспех пробегал заголовки.
«Республика провозглашена». «В результате переговоров уточнены последние вопросы государственного устройства». «Первым президентом республики избран видный общественный деятель Омегву Бангу». «Президент Бангу заявил, что республика не допустит никаких проявлений дискриминации или розни между национальностями». «На здании Президентского дворца поднят национальный флаг». «Солдаты национальной армии сменили войска метрополии».
Значит – Бангу… Так и должно было быть. Да, конечно. Наверное – он устраивает всех… Но ведь Бангу для него – совсем другое. Совсем другое…
«Президент Бангу приветствует любую помощь дружественных стран при условии, если она будет носить бескорыстный характер». Значит – Омегву… «А также если эта помощь не будет связываться с политическими условиями».
Бангу – президент… В общем – это хорошо. Хорошо.
«Омегву Гдебеле Бангу, выбранный президентом, – представитель широких демократических сил. Известен как поэт с мировым именем, видный философ и общественно-политический деятель». «Бангу избран абсолютным большинством голосов».
Бангу – президент… Впрочем – почему это в первый момент удивило его… То, что случилось, так естественно.
Мать открыла – им с Жильбером. Увидела сына, улыбнулась – грустной сухой улыбкой. Молча поцеловала. Видно было, что она проснулась давно, может быть – ночью. Они прошли в гостиную. Среди бумаг на столе Кронго заметил несколько невскрытых писем. Кажется – из республики. Телеграмма со штампом «Правительственная»… Тоже невскрытая. Вернее всего, даже наверняка – все это от Бангу…
– Мама, ты… ты что, не поедешь туда?
– Маврик… – мать подошла к окну.
Кронго вдруг подумал – она постарела. Она постарела – но не может ощутить себя старой. Не может позволить себе этого – потому что любит Омегву.
– Мама… Но… Омегву, наверное…
– Маврик… Я… Никуда не поеду, конечно. И… вообще… ты… Вы оба – зря пришли. Это – не событие. Понимаете – не событие.
Он улетел в Берн в тот же день вечером, а через три дня был снова вызван – на этот раз короткой телеграммой. «Приезжай, мать в больнице. Жильбер».
А потом – чужое, не узнающее его лицо матери в больничной палате. Тогда, сидя на больничной табуретке, ощущая какую-то странную боязнь перед белым одеялом, стараясь не прикасаться к нему, он пытался вглядеться в мать, узнать, что же с ней, искал ее глаза. Но глаза матери, мельком встречая его взгляд, не узнавали его. Не узнавали… Хотя он видел – они полны боли. Он слышал слова, пустые слова, которые говорил кто-то сзади – кажется, врач: «Это случилось неожиданно… Считайте, что нам повезло… Карета скорой помощи… Оказалась рядом…» Считайте… Что нам… Повезло… Какая чушь… Карета скорой помощи… Только он один видит – матери сейчас очень плохо. Матери плохо.
– Мама… Мама, ты слышишь? Это я… Маврик… Мама! Мамочка, повернись… Мама? Что с тобой?
– Что? – она медленно повернула голову.
– Мама… Это я. Ты видишь меня? Это я. Я, Маврик.
– Что? А-а… – она еле заметно кивнула. – А, Маврик. Мавричек…
Он вдруг почувствовал – она сейчас умрет. Умрет.
– Мамочка… – он накрыл ее руку своей. – Мама. Что… Тебе что-нибудь хочется?
Он услышал за спиной срывающийся на визг голос Жильбера:
– Врача! Скорей врача! Сделайте что-нибудь! Сделайте же что-нибудь! Что же вы стоите! Врача!
Но этот голос метался сейчас не рядом, а где-то над ним, в стороне, он оставался где-то далеко, не попадая сюда – к нему и к матери, к тому, что было понятно только им, к окружившей их пустоте.
– Маврик… – он вдруг понял: мать сейчас пытается улыбнуться. В ее глазах появилась ясность. – Ты… будешь помнить… меня?
– Мама… Ну о чем ты говоришь?
– Маврик… помни меня… свою… ты помнишь, кого? Ну… Маврик? Маврянчик мой…
– Да, – он пересилил себя. – Помню. Белую черную ворону.
Она улыбнулась.
– Вот… именно… Белую черную ворону.
Он и не знал, что на похороны матери придет столько людей. Какие-то люди, которых он никогда не видел, стояли у дома, несли гроб… Эти люди шли и шли за катафалком. Они занимали улицы, тесной молчаливой толпой – бесконечной, уходящей вширь – стояли у могилы. Следя за толпой, занявшей почти все кладбище, он вдруг понял, зачем они пришли. Они понимали его утрату… Ему ничего не нужно было объяснять сейчас – этим глазам, этим людям… Он понял, зачем они пришли. Они понимали, чем была его мать… Они пришли из-за нее. Из-за Нгалы Кронго.
Потом, когда все кончилось и люди стали расходиться, среди тех, кто еще стоял рядом, он вдруг увидел знакомую невысокую фигуру. Седые волосы… Узкое лицо, напоминающее морду косящей лошади. Выпуклые, полные острой тоски глаза.
– Омегву… Вы?
– Мальчик… – Бангу кривился, его лицо странно дергалось, он кусал губы. – Мальчик… Мальчик, ты не представляешь, что… что… кончилось… Что это… Значит… Что… Что…
Так он переехал сюда. Переехал, чтобы стать тем, кем стал… Директором ипподрома… Старшим тренером беговой и рысистой конюшен…
Вечером Кронго сидел в верхней комнате у кровати Филаб. Он поймал себя на том, что опять впустую, бесконечно думает о времени Бваны. То, что он все время возвращается к этому, угнетало его, он пытался избавиться от этой мысли, убеждая себя, что ему совсем не нужно думать о времени Бваны, – и каждый раз вспоминал о нем, именно так, как ему сказал об этом Мулельге. А может быть, времени Бваны не было, подумал он, все это придумано? Привыкая к этому вопросу, Кронго вдруг понял, что ему стало легче. Может быть, то, что в его жизни уже ничего не будет, – тоже придумано им? Он попытался прислушаться к самому себе. Но услышал только одно – что в его жизни действительно ничего не будет – ничего хорошего, никакого сладостного ощущения скорости и победы, которое он придумал. Да, он придумал, в этом все дело, конечно. Никакого Приза нет. Нет ничего. Всю жизнь он придумывал что-то сам для себя и сейчас, когда ему сорок пять, продолжает придумывать, но из придумывания ничего не получилось. Он придумал Филаб, придумал поездку сюда. Придумал, что все время будет брать какой-то Приз. Именно все время – так и не взяв его, оставляя главную победу впереди. Но это все выдумано, он ничего не взял и не возьмет. Говоря попросту, он тот, кто работает как раб, убеждая себя, что он свободен. Но то, что он свободен, – выдумано. И неясно, на кого он работает. Окно было распахнуто, явственно ощущалось, как за ним, над кустами, набережной и океаном, висит бесконечная ночная духота. Кронго подумал, как привычно кричат чайки, – он даже не замечает их однообразного хриплого мяуканья, ему кажется, что за окном тихо. Мяуканье иногда стихает, и тогда слышен тонкий слабый писк, будто возятся мыши. Филаб улыбается, почти сидя в кровати. В углу бесшумно стоит над столиком Фелиция. Улыбка Филаб беспомощна, она состоит из загибающихся вниз и вверх краешков губ, и они кажутся ему невыносимыми. Он уже ждал эту улыбку, когда входил, и заранее мог сказать, что Филаб не хочет его жалости, она хочет улыбкой показать, что полна сил, что выздоравливает. Вот кого она ему напоминает – кошку с перебитым хребтом… Когда-то в детстве он видел такую кошку, серую, упавшую, с перебитым хребтом…
– Тебе лучше?
Она закрыла глаза. Нет, он ничего не чувствует, думая о ней. Только жалость. Но эта жалость сейчас утомляет его, ему трудно. Не успев войти, он хочет уже оставить Филаб, уйти, сесть в шезлонг в саду. Думать об Альпаке, о скорости, о бессмысленности всего, всего.
– Прости, я устал, жутко устал…
Может быть, сказать ей что-нибудь еще. Что-нибудь приятное. Но что? Такое, чтобы потом можно было уйти.
– Сегодня Бвана показал минуту пятьдесят семь…
Она улыбается. Но для нее это пустой звук.
– Что тебе? Приемник? Хорошо, хорошо…
Он щелкнул переключателем. Вдруг вспомнился огромный негр, Пончо Эфиоп, кузнец, его глупое похохатывание. Прикидывается? Может быть, он и есть человек Крейсса…
– …чтобы проводить в последний путь героев, – голос в приемнике смолк.
В последний путь… Кого – в последний путь?
– Акт террористов, с бессмысленной жестокостью оборвавший четырнадцать жизней, не достиг цели… Ни экономической, ни политической… Только международное осуждение может вызвать варварское уничтожение четырех судов, плававших под флагом дружественного нам государства…
Кронго опять прислушался к крику чаек. Вот почему он думает о кузнеце. Он все еще по инерции пытается понять, кого же послал на ипподром Крейсс. Но зачем ему это? Это бессмысленно, ненужно, бесполезно. Да, он сознает это, но опять, снова и снова, помимо своей воли, с упорством перебирает фамилии. Вряд ли это Бланш. Может быть, барбры? Эз-Зайад? Эль-Карр? Но он ведь не боится Крейсса, он даже чувствует иногда к нему что-то вроде симпатии. Тогда почему фамилии? Зачем ему это знать? Перебирать фамилии само по себе недостойно его, отвратительно.
– …как только будет закончено расследование. Все участники преступного налета арестованы.
Кронго выключил приемник. Кроме крика чаек есть еще и шум океана. Он тронул Филаб за руку:
– Прости, я устал…
Кронго спустился вниз, прошел на веранду, медленно опустился в шезлонг, чувствуя, как блаженно и тупо ноет спина.
– Месси… – Фелиция поставила перед ним на столике кофейник.
– Спасибо, Фелиция, я не хочу.
Он заметил странное выражение на ее лице, такого он еще не видел.
– Что С вами, Фелиция? Что-нибудь случилось?
– Месси…
Что она может ему сказать? Что-нибудь сообщить, передать? Но ведь он ничего не хочет знать. Он не хочет придумывать что-то снова, он хочет правды, жестокой правды. Удивительно – он подумал вдруг, что Фелиция бесплотна. Черное облако. Черное облако со старушечьим негритянским лицом. Морщинистым лицом, бородавчатым, с желтыми испуганными белками, лицом без плоти. Отсюда, с обрыва, хорошо видна пологая волна, она медленно обрастает белой каймой.
– Нет, нет, месси, с чего вы взяли… – Фелиция осторожно убрала кофейник. – Что вы, месси, все в порядке…
Вот – ему кажется, что Фелиция бесплотна, оттого, что она всегда все делает бесшумно. Как облако. И все-таки она что-то хочет ему сейчас сказать, он видит это по ее глазам, по нерешительности, с которой она отступила.
– Не бойтесь, Фелиция… Не бойтесь, говорите…
– Я просто хотела… – глаза старухи виновато опустились. – Мадам нужны хорошие продукты… Икра, твердая колбаса. Вы имеете право на дополнительную выдачу… Простите, что беспокою вас… Но без вашего пропуска меня не пустят… В распределитель.
– Куда?
– В распределитель, месси.
– Конечно, конечно, Фелиция, – он полез в карман, протянул ей пропуск. – Только и всего? Я что-нибудь еще должен сделать?
Фелиция молчала.
– Ну? Фелиция?
– Нет, я хотела еще сказать, месси… Я его видела… Тогда утром… с велосипедом…
– Кого – его?
– Он получил большие деньги. Очень большие…
– Да кого – его?
Фелиция отвернулась. Кисти ее слабо шевелились. Кронго вдруг понял, что она говорит ему, Что она имеет в виду.
– Того… с велосипедом. Месси, вы не сердитесь на меня… Но я хочу уйти… я не могу… я всю жизнь… я была честной…
Из глаз Фелиции медленно текли слезы.
– Подождите… О чем вы? Я не понимаю. Фелиция, что вы имеете в виду?
– Месси, месси… Я ведь знаю его… Это жулик… Он получил в день скачек восемнадцать тысяч… Из моей кассы… Месси, я всю жизнь была честной… Вы такой добрый… Я не могу больше здесь… Я… не могу выдавать деньги жулику…
Да, она говорит ему о Пьере.
– Нет, нет, нет, месси… – она встала на колени. – Это жулик, я знаю… Отпустите меня, месси… Пожалейте… Он играл и до войны… Мы все знаем, месси… Это жулик, его знают и кассиры, и полиция, весь ипподром… Я не верю, что вы помогали жулику. Но я не могу, я должна уйти…
Жулик… Значит, он, Кронго, помогал не Фронту, а жулику. Пьер – жулик. Только представив себе это, он испытывает облегчение. Но это не имеет никакого значения. Конечно, не имеет. И все-таки он должен успокоить Фелицию. Ведь она в самом деле уйдет. Что будет с Филаб…
– Хорошо, Фелиция, хорошо… Я постараюсь выяснить… Я думал, это человек Фронта… Фелиция, я прошу вас остаться… я ведь не знал…
– Спасибо, месси… – Фелиция схватила его за руку, он осторожно высвободился. – Спасибо, месси… Это жулик… Это не человек Фронта, поверьте мне… Там не такие…
Он не заметил, как она ушла. Жулик. Да, конечно, как он не догадался сразу. Бегающие глаза… Но что он может сделать теперь? Ему вспомнился Фердинанд, кривая ухмылка. «Не пытайтесь узнать, кто он, не суйтесь в это пекло». Но ему и не нужно узнавать, кто это. Это – Мулельге. Больше некому. Это человек Фронта. Он должен открыться ему. Узнать – что за человек Пьер. Но зачем? И потом – почему человек Фронта обязательно Мулельге? Почему не Бланш? Да, вот зачем ему нужно связаться с человеком Фронта. Ему страшно. Он, Кронго, узнав, что Пьер жулик, боится Пьера. Как легко было Пьеру обмануть его. Его, придумавшего всю свою жизнь. Постыдно придумавшего. А теперь он просто боится. И помочь ему может только Фронт. Фердинанд. Оджинга.
Белая кайма, с неизменным постоянством возникавшая вокруг пологих волн внизу, стала уже, спокойней… Духота почти прошла. Омегву умер три года назад. Последние месяцы, даже – годы они почти не виделись… Почти? Нет – совсем не виделись. Сейчас он спрашивает себя – почему?.. И объясняет себе – он был занят лошадьми… Потом – к Омегву было трудно попасть… Занят лошадьми… Трудно попасть… Обычные объяснения… Никчемные, ненужные.
Он хорошо помнит похороны. Площадь, забитую людьми. Гроб с телом Омегву – где-то далеко, через людское море… Ему тогда казалось – рядом с траурными флагами на стенах, с непрерывно звучащей музыкой многих оркестров, с пышными торжествами сам Омегву, лежащий в гробу, был чем-то лишним. Его смерть не вязалась с этими торжествами, они были чужды ему, чужды его духу… Духу того Омегву, которого он знал. Он вспомнил слова Бангу – тогда, после купанья, на берегу озера: «Я приехал сюда, чтобы забыть о смерти». Забыть – о смерти… Забыл ли Омегву о смерти потом?
Следующим президентом после Омегву стал Лиоре. «Узурпатор Лиоре» – так его называют теперь. Но Лиоре не был узурпатором… Лиоре был законно избранным президентом.
Кронго вытянул ноги, закинул голову. Наверху ослепительно ярко сверкали и дымились звезды, словно белые осколки. Их было много, удивительно много, и он ощутил, как они всемогуще тихо висят над всем – над ним, над берегом, над океаном, над землей. И даже больше, чем над землей, – они висят над солнцем, над тысячами других солнц, над миллионами солнц, и в то же время они висят над ним. Он почувствовал, как кто-то ползет по руке, понял, что это цветочный таракан, быстро стряхнул его. Далекий нечеловеческий беспорядок этих дымящихся, тлеющих осколков наверху вдруг показался ему порядком – таким же неестественным, нечеловеческим. Он словно плыл над ним. Он вспомнил загадку, которую они задавали друг другу в детстве. Звезды – выступы или отверстия… И, осознав, что этот страшный порядок плывет сейчас над ним, Кронго вдруг почувствовал, что и он, маленький комок, распростертый в шезлонге, плывет сейчас над этим дымящимся бесконечным заревом. Но странно, почему, плывя в этот момент над сверкающей бездной осколков, он думает о цветочном таракане, который снова поднялся и мягко ползет по его руке. Ведь этот таракан, это раздражающе сладкое ощущение лапок, мелко перебирающих по коже, полностью в его власти. Слабое движение руки, намек на желание – и таракана не будет. Тараканов много, и оттого, что Кронго раздавит именно этого, мягко ползущего по его коже, ничто не изменится. Кронго опять попытался поймать ощущение, что не бесконечно сияющие звезды плывут над ним, а он плывет над бесшумно вздрагивающими внизу дымящимися точками. Но ведь он вынужден будет запомнить этого таракана. Запомнить, что он его раздавил – только оттого, что это было в его власти. Может быть, для таракана в таком случае ничего и не изменится. Но вдруг изменится что-то внутри самого Кронго? Вот ему показалось, что что-то еле заметно вздрогнуло и изменилось там, наверху, в извечной сверкающей расстановке. Он услышал шум океана и писк чаек. Небо придвинулось, и он вспомнил беговую дорожку. Потом Фелицию. Потом перед ним снова возникла упругая, вздрагивающая репица хвоста с коротким черным султаном волос. Ровно, безостановочно работающий круп. Альпак. Кронго улыбнулся, думая о таракане. Что бы там ни было, но для него, Кронго, всю жизнь было возможно единственное счастье – кратковременное, мгновенное счастье победителя. И оно сейчас в том, что он представляет, как сидит в качалке, уперев ноги в передок, и чувствует, как он приподнимает вожжи и как ветер, туго облепивший лицо, становится сильнее. Кажется, с таким ходом он не побоится выйти на любую дорожку. Кого бы Кронго мог поставить сейчас с собой рядом, в борьбе за воображаемый Приз? Теперь на мировой арене царят новые наездники, Генерала давно уже нет. Кого же он хотел бы опередить? Лучшую лошадь Франции? Да, конечно. Победителя Кубка Глазго этого года? Кроме того, есть один австралиец, о нем писали… А Ганновер-Рекорд, непобедимый американец, не уступавший еще никому? Да, Ганновер-Рекорд… Наверняка он будет записан в этом году на Приз. Ведь должно же когда-то прекратиться это фамильное невезение, которое преследует их в Призе. Он, Кронго, не мальчик. Если бы он шел рядом со всеми этими лошадьми, с Ганновером и австралийцем, он смог бы разложить на составные части бег каждой из них. Он не торопился бы и не выжимал из Альпака все. Хотя знает его беспредельную силу, безграничную, если пустить эту силу на полный ход… Он бы спокойно прошел первый поворот. На той прямой он даже отпустил бы вперед Ганновера, но не больше, чем на полкорпуса… Ни в коем случае не больше. Остальных можно не брать в расчет, он это знает. Даже австралийца. Да – вот он представляет себе весь заезд. Сейчас он делает только негромкий щелчок языком, и тугой ветер сразу сбивает тело назад. Но если бы перед ним был Ганновер, Кронго мог бы сказать своему мышастому любимцу несколько слов. Только не говорить их сейчас, забывшись… Какой чистый ровный ход… Это и есть секунда счастья. Он бы сказал первое слово. Оно звучало бы примерно… «Альпак», И потом, при выходе на последнюю прямую, повторил бы: «Альпак, мальчик…» И уходящий назад вспененный профиль Ганновера, только уходящий назад… И уходящие назад трибуны, и дробный цокот преследователей сзади, вплоть до финишного створа… Это и называется – Приз. Его Приз…
Да, наверное, это, и только это, есть счастье. Кронго, словно очнувшись, увидел звезды и подумал о таракане, все еще мелко семенящем лапками по его коже. Он поднял руку, стряхнул таракана на ладонь. Насекомое застыло, осторожно поводя усиками. Двинулось вперед, снова застыло, повернулось в одну сторону, в другую. А как бы вел себя он, Кронго, оказавшись на чьей-то ладони? Так же, как этот таракан? Но разве не нелепо, что он, взрослый человек, рассматривает сейчас это насекомое? Кронго забросил таракана в кусты и снова растянулся в шезлонге. А звезды? Ведь так же он может спросить себя – не нелепо ли, что он рассматривает эти бесчисленные светящиеся точки. Этот хворост, ровно горящий наверху. Но он не может взять одну из этих точек, как таракана, и раздавить.
Думая об этом, Кронго увидел Бланша. Кронго понял, что спит, но тем не менее спросил:
– На каком вольте вы делали проскачки?
Бланш улыбнулся в ответ, и Кронго увидел, что находится на ярко освещенной большой площади в незнакомом городе, а Бланша уже нет, играет музыка, и он ясно чувствует, что происходит какое-то торжество, потому что в центре этого торжества – он, Кронго. Он сидит на белой лошади, а другую, темно-вишневого цвета, ведет за собой в поводу. Потом площадь превратилась в длинный узкий тоннель, а лошади – в двух деревянных лошадок, крохотных, не больше его ладони. Он попытался поставить этих лошадок на пол тоннеля, но пол был наклонным, и лошадки падали, соскальзывая в одну сторону. Кронго ставил их снова и снова, но они все падали, пока наконец одна из лошадок не дернула копытом, твердо поставив ногу. Это копыто словно прилипло к наклонному полу, за ним потянулось второе, третье, четвертое… Лошадка пошла, и Кронго стало легче.
– Нельзя, нельзя.
Это брат Айзек, Кронго узнал его румянец, его черный сюртук, воспаленные глаза.
– Но почему нельзя?
Но брата Айзека уже нет, и Кронго оказывается в новом сне и испытывает странное щемящее чувство в этом странном месте, которое все называют «распределителем». Это – покорность и сознание, что все это есть и наяву, и он даже почти наверняка знает, что это есть наяву, он с этим уже как-то знаком, потому что доставал, именно доставал продукты для Филаб, а может быть, доставала, Фелиция, – и в то же время Кронго понимает, что это во сне. Слово «давать» часто и негромко повторяли те, кто стоял рядом с ним. Присмотревшись, Кронго увидел, что это большая темноватая комната, тесно заставленная рухлядью, картонными ящиками, старой мебелью, но среди этой рухляди каким-то образом стоит большая очередь. Седая пожилая дама… Мулатка с сумкой… Ну да, конечно, он их знает. И мулатку, и даму. Старичок европеец с палкой. Кронго с каким-то облегчением узнал в человеке, стоящем между мулаткой и стариком, своего отца. Но ведь отец умер, спокойно подумал он, и тут же со странной легкостью ответил сам себе – ну и что же, что умер? Кронго увидел, что, несмотря на то что комната глухая и темная, одна стена у нее стеклянная. На этой стене, выходящей на оживленную улицу, висит небольшая табличка, на которой написано: «Почта». Так вот почему никто сюда не заходит, подумал Кронго. Все думают, что это почта, а не распределитель. У входа в комнату, как раз у вывески, стоит высокий негр с гвоздикой в петлице. Он улыбается и что-то беззвучно объясняет прохожим. Кронго по движению его губ понимал, что он объясняет, – что входить нельзя, но самих прохожих Кронго не мог разглядеть. Мулатка оглянулась, косясь на Кронго. Он явственно услышал слова, которые она шептала кому-то:
– Ты знаешь, я лучше возьму индейку… У моего мужа спецлимит, ты подержи очередь, лучше подождать… Индейку… Индейку… Они выбрасывают самое плохое, а уже потом… Ты понимаешь, икра, масло, твердая колбаса…
Увидев, что Кронго на нее смотрит, она зашептала совершенно беззвучно, но Кронго некоторое время еще слышал слова «твердая колбаса». То, что произошло дальше, немного испугало его – но потом испуг и оцепенение, охватившие Кронго, прошли, исчезли. Отец, стоящий за мулаткой, повернулся и, улыбаясь, пошел к нему. Кронго ясно видел его лицо, оно было таким же, каким Кронго всегда его помнил, – улыбающимся, веселым. Только не было жокейской шапочки, которая была обычно на отце. Кронго уже приготовился объяснить, что это распределитель, тут дают продукты по талонам и он стоит здесь за продуктами для Филаб. Кроме того, он хотел сказать отцу, что нисколько не удивляется, что встретил его, что он понимает, что это сон, – и в эту минуту понял, что к нему идет не отец, а чужой пожилой европеец в полотняном костюме. Он разглядел большое родимое пятно под носом европейца. Европеец поклонился и сказал, одновременно улыбаясь мулатке:
– Заходите в гости… только тихо, тихо, пожалуйста… безобразие, выпустили джинна из бутылки, раздувают вражду… Все ненавидят друг друга, черные белых, молодые старых, приезжие местных… Я могу вам уступить половину своего пайка, я пришел из-за крупы… Остальное ликвидировано…
Знакомый, конечно, знакомый, подумал Кронго, покрываясь липким потом от страха. Надо вспомнить, и все пройдет. Но он не помнит его. Европеец поднял ладонь, помахал ею так, будто подбрасывал что-то. Кивнув, отошел в сторону, опять удивительно напомнив Кронго отца. Но это же сон, думал Кронго, он пытался вырваться из тесной комнаты, из липкого страха, понимая, что вырвется только тогда, когда вспомнит, откуда и почему он знает европейца с родимым пятном… Кажется, это аптекарь. А может быть, это его сосед по переулку, да, да, только кто он… Надо придумать, надо придумать, повторял Кронго, и неважно, правда это или нет. И, только подумав это, он проснулся и понял, что лежит в шезлонге. Наверху тихо висели звезды. Почему каждая деталь этого сна так отчетливо стоит перед ним? Он помнит каждое слово. «Остальное ликвидировано». Кронго вгляделся в звезды. Да, они изменили свое положение. Чайки уже не кричат, слышен только шум волн… Значит, уже около двух… Или трех… Что же ему мешает? Кронго вспомнил – Пьер. Он должен пойти к Мулельге, открыться ему. Почему к Мулельге? Но к кому-то он должен пойти. Почему ему приснился отец… Говорят, это что-то значит, когда снятся родственники. И, подумав об этом, Кронго понял, что он на веранде не один.
– Извините, – тихо выдохнул в ухо Поль, чуть тронув его руку и заставляя подняться. – Пожалуйста, тише. Я открою дверь.
Кронго узнал лицо Поля, хотя было темно. Поль расплылся где-то около прихожей, показал рукой – можно идти. Поль и Лефевр, они здесь. Они боятся кого-то разбудить… Значит, они давно уже на веранде. Может быть, они и разбудили его.
Кронго, еще не проснувшись, пошел за Лефевром, чувствуя шорох одежды, дыхание. Калитка открыта, перед ними пустой переулок… Все темно, ни одного огонька. Значит, около трех…
– Тихо? – Лефевр опустил воротник куртки.
Зачем они пришли за ним ночью? Зачем он идет за ними?
– Да, – Поль провел их к глухой улочке за кофейней, помог Кронго сесть в «джип». Лефевр долго шуршал чем-то, устраиваясь сзади.
– Куда мы едем? – Кронго спросил это не потому, что хотел знать, куда они едут, а чтобы хоть что-то спросить.
– Сейчас, мсье, сейчас, – Поль бесшумно повернул ключ зажигания, было неясно, как он видит в темноте. Машина глухо зашумела, тронулась с выключенными фарами. – Сейчас, мсье, мы скоро будем на месте.
Знакомый небоскреб – безмолвный, ни единого огонька. Было отчаяние. Но сейчас его нет, эти двое, появившись, отобрали его. Зачем? Они едут быстро, очень быстро. Мелькнуло – Пьер. Что же у него было до этого момента? Сон. Неподвижные звезды. Таракан. Что еще? Ах да, отчаяние.
– Сюда, – Поль легко притормозил. Вынул ключ, подождал, пока сойдет Кронго.
Они прошли через стеклянную дверь, свернули в коридор. Теперь Кронго увидел, что, хотя с улицы казалось, что небоскреб пуст и все окна темны, здесь, в слабо освещенном холле первого этажа, ходят люди, за конторкой сидит пожилая блондинка. При их появлении она привычно кивнула, записала что-то.
– Господин комиссар, – Лефевр кашлянул.
«Да, да», – послышалось за дверью. Неясный страх охватил Кронго. Он не заметил, как они подошли к этой двери. На ней написано «Медслужба». Он понял, отчего этот страх – от этих мелких металлических букв. Но есть спасение, и это спасение в том, что он расскажет Крейссу о Пьере. Ему будет легко это сделать, потому что он твердо знает, что Пьер не человек Фронта, а жулик, жулик с блудливыми глазами. Он сейчас же скажет Крейссу. Но почему это слово – медслужба. Лефевр нажал ручку. Неярко светит настольная лампа. За столом Крейсс, он сидит в кресле, в руках у него зажигалка.
– Ну как? – Крейсс чуть кивнул Кронго.
В комнате прежде всего бросались в глаза плотно задернутые коричневые шторы, которые сверх того еще закрывала большая простыня. Края простыни были в нескольких местах заколоты английскими булавками. В углу стоял белый медицинский шкаф, на нем висел халат.
– Держусь на одном кофе, – Крейсс отхлебнул из чашки. – Кронго, кто из ваших может работать на Фронт?
– Что? – переспросил Кронго.
– Я знаю, что вам не до этого, просто хочу проверить… Для себя… Не хотите?
Крейсс развернул лист.
– Сейчас, сейчас… Да, кстати… Альпак… Альпак в хорошем состоянии?
– Альпак… – Кронго почувствовал усталость.
– Сейчас объясню, – Крейсс огляделся. – Что вы скажете об Амайо? Вряд ли? Да, вряд ли… А Тассема? Да, тоже нет. Ассоло? Тоже нет. Да, он слабоумный, я видел его… Хотя слабоумный… Но отложим. Давайте переберем новых. Литоко? Вам не показалось… – Крейсс улыбнулся. – Я хотел просить вас об услуге… Хотел просить… Самому повести Альпака, когда мы разыграем Приз Дружбы. Это будет событие, и я хотел бы… Вы посоветуете мне, кого пригласить. Мы можем пригласить любых лошадей… Лучших лошадей мира. Понимаете – лучших. А агент Фронта – черт с ним. Мы найдем его сами.
Крейсс замолчал, помаргивая, и Кронго почувствовал, что не должен говорить. Крейсс дает ему понять, что он должен подождать, пока снова заговорит он сам, потому что то, ради чего его привезли сюда, еще не сказано. Теперь он понимает Крейсса, понимает его паузы, подергивания подбородком.
– Скажите, Кронго, Альпак сможет провезти крытую бричку с двумя людьми? Двумя – не считая вас?
– Крытую бричку?
– Кронго, это недалеко, километров двадцать.
Кронго попытался понять, что же хочет от него Крейсс. Альпак должен везти кого-то километров за двадцать. Кронго взял стоящую около него чашку, отхлебнул. Он должен сказать что-то, потому что Крейсс ждет ответа. Альпаку что-то грозит. Иначе бы они не приехали за ним ночью. Но что может грозить Альпаку?
– У нас много других лошадей, – надо говорить спокойно, так, чтобы Крейсса убедили слова Кронго. – Ничуть не хуже, хороших в ходу на любой дороге. Я поеду с вами, если это нужно. Но Альпак… Альпак, вы сами понимаете, призер. Я не вижу необходимости заставлять его бежать такое расстояние.








